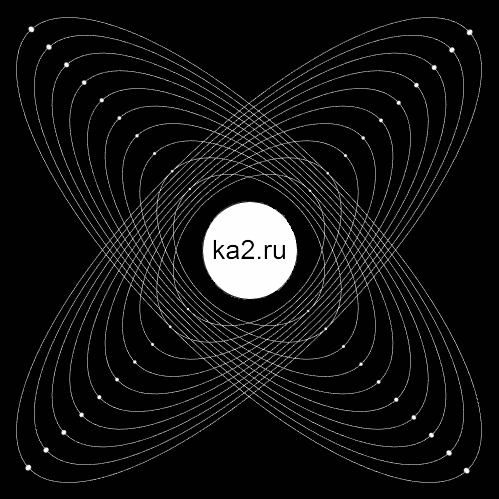Жан-Клод Ланн
Некоторые замечания по поводу понятий “зауми” и заумного языка у Хлебникова
Когда слабые задумаются над первой буквой алфавита, они мгновенно устремятся в безумие!
А. Рембо. Из письма к Полю Демени от 15 мая 1871 года
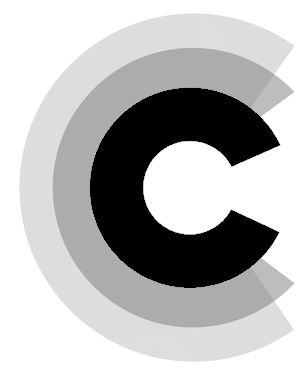 транное происшествие под названием “заумный язык” или, проще говоря, “заумь”, случившееся с поэтическим словом в русской литературе начала двадцатого века, является логическим завершением эволюционного процесса в словесном искусстве. Несмотря на то, что первые проявления этого процесса были известны ещё в далёком прошлом, его теоретическое обсуждение начинается по-настоящему только с приходом романтизма. Для определения такого явления, свойственного поэтической речи, подойдёт следующая формулировка: художественное слово неспособно передать ни внутреннюю жизнь души, ни описать объективный мир. Веру во всевыражающее могущество Логоса постигает настоящий кризис доверия.1
транное происшествие под названием “заумный язык” или, проще говоря, “заумь”, случившееся с поэтическим словом в русской литературе начала двадцатого века, является логическим завершением эволюционного процесса в словесном искусстве. Несмотря на то, что первые проявления этого процесса были известны ещё в далёком прошлом, его теоретическое обсуждение начинается по-настоящему только с приходом романтизма. Для определения такого явления, свойственного поэтической речи, подойдёт следующая формулировка: художественное слово неспособно передать ни внутреннюю жизнь души, ни описать объективный мир. Веру во всевыражающее могущество Логоса постигает настоящий кризис доверия.1 Разные поэты по-разному мотивировали такие необычные опыты, которые имели своей целью дробление дискурса. Я рассмотрю теорию “зауми” Велимира Хлебникова, единственного поэта среди практиков заумной речи, который попытался связно сформулировать принципы и модели, стоящие у истоков нового типа поэтического высказывания. Хлебников — самый блестящий представитель долгой рационалистической традиции, которая старалась пролить свет на своеобразную прелесть созвучий поэтической речи, дать им разумное обоснование. Для Хлебникова “заумь” — это язык потенциально логичный, способный научить чему-то разум, это — средство увеличить когнитивные способности человеческого сознания.
Разные поэты по-разному мотивировали такие необычные опыты, которые имели своей целью дробление дискурса. Я рассмотрю теорию “зауми” Велимира Хлебникова, единственного поэта среди практиков заумной речи, который попытался связно сформулировать принципы и модели, стоящие у истоков нового типа поэтического высказывания. Хлебников — самый блестящий представитель долгой рационалистической традиции, которая старалась пролить свет на своеобразную прелесть созвучий поэтической речи, дать им разумное обоснование. Для Хлебникова “заумь” — это язык потенциально логичный, способный научить чему-то разум, это — средство увеличить когнитивные способности человеческого сознания. Прежде чем перейти к некоторым теоретическим текстам Хлебникова и к изучению образцов “зауми” в его творчестве, я хотел бы высказать следующие замечания.
1. “Заумь” составляет лишь малую долю литературного и поэтического наследия Хлебникова. Она не исчерпывает ни его творчества, ни тем более всего “футуризма” в целом, даже если по своей природе “заумь” представляет собой самый броский, самый скандальный аспект поэзии, которую мы называем авангардной.
2. Не следует забывать историчность понятия “зауми”. “Заумь” В. Хлебникова сильно отличается от “зауми” А. Кручёных; она ничем или почти ничем не похожа на ту “заумь”, которой занимался И. Зданевич. Она совершенно чужда концепциям эго-футуристов, самых ярых соперников будетлян в области словесного новаторства. Наконец, у самого Хлебникова понятие “зауми” не стояло на месте, и его художественное воплощение варьировало: правильнее будет говорить о нескольких видах “зауми”, а также, исследуя даже самые острые теоретические статьи, акцентировать внимание на смешении жанров и на неясностях, прямо свидетельствующих о том, как трудно точно определить такое разнообразное, многоликое и изменчивое явление, как “заумь”.
3. Проявляя методологическую осторожность, необходимо чётко различать разные уровни “зауми”, которые соответствуют разным уровням языка и поэтической речи: эксперимент зауми может затрагивать одни простые вокабулы или синтагмы, или же целые фразы, в которых нарушается синтаксис; он может “дереализовать” традиционные поэтические образы; он может, наконец, подвергнуть деформации структуру целого произведения и вызвать к жизни новый жанр, заумное стихотворение или заумный рассказ.
4. “Заумь” неотделима, по своей сути и по своему функционированию, от центрального тезиса манифестов и теоретических статей будетлян: „слово как таковое” или „самовитое слово”. Будетляне пытались мыслить и конструировать “абсолютную” речь, наделённую, подобно вещи, внутренними устойчивыми свойствами, независимыми от субъективности говорящего и слушающего. Рискованное дело, разумеется, но данный парадокс речи, понимаемой в конечном счёте как нечто безличное, свидетельствует о сознательном стремлении будетлян и в особенности Хлебникова установить с помощью языка и в языке некую “вещь”, которая отрицала бы самые начала языка, противоречила бы им.
5. Наконец, размышления и экспериментаторство Хлебникова взаимосвязаны с определённым интеллектуальным контекстом и с традицией, одновременно и русской, и западноевропейской. Ни в коем случае нельзя забывать эти обстоятельства, если мы хотим разобраться в тех аспектах, где Хлебников действительно проявлял новаторство: он творил в контексте целого ряда футуризмов — направлений, единодушно озабоченных феноменом „слова как такового” (особая форма хлебниковской “зауми” должна проясниться при её сопоставлении с размышлениями и творениями, например, Кручёных, Лившица, Бурлюка или Е. Гуро; к этим именам поэтов-будетлян следует добавить имена и некоторых представителей от фракций их противников: Игнатьева, Гнедова, Пастернака), в условиях неистовой, но плодотворной борьбы с акмеизмом (главным образом с О. Мандельштамом), в эпоху существования кларизма М. Кузмина, проповедующего ясность и логику в произведении искусства, и, конечно же, символизма, “родоначальника” всех школ, называемых авангардом; к этим обстоятельствам относятся также живописные, музыкальные и театральные тенденции того времени: их представители, художники и композиторы, вносили свой вклад в “заумную” практику (П. Филонов, К. Малевич, М. Матюшин, О. Розанова, А. Скрябин и т.д.). Не следует забывать и типично русский религиозный контекст: глоссолалия разного рода сектантов, христианская православная логология или доктрина о воплощённом Слове-Логосе, развитие в ту эпоху ереси имябожничества или имяславия, то есть сектантского проповедования преклонения перед святым Именем Божьим; внутри духовной традиции православия постоянно заново оживало противостояние иконоборческой и словоборческой тенденций, которые, сопрягаясь одна с другой, вели к настоящему интеллектуальному кенозису, который очищает разум от всякой ноэтической озабоченности; с другой стороны, всегда существовавшее в православии преклонение перед иконами и словопочитание превозносили добродетели изображения и слова. Наконец, более широкая европейская традиция охватывала модернистские движения в поэзии, от романтизма до символизма (на разных основаниях предшественниками своего рода “зауми” можно считать Шарля Нодье, Артура Рембо, Стефана Малларме), а тогдашняя революция в науках ознаменовалась приходом “современной математики”, “металогики” и т.д.
Подобные предварительные замечания никоим образом не призваны преуменьшить значимость и оригинальность идей Хлебникова, — они очерчивают границы пространства и времени, внутри которых его идеи могли возникнуть. После беглого просмотра некоторых основополагающих для “зауми” текстов следует поставить вопрос о том, что смогла привнести хлебниковская теория в интеллигибельность языка и поэтической речи.
* * *
В своей статье «Наша основа», опубликованной в 1920 году, Хлебников отводит анализу заумного языка целый раздел. Процитируем начало этого важнейшего текста, в котором будетлянин подводит итог своим размышлениям о языке и о том несообразном явлении, которым является “заумь”.
Значение слов естественного, бытового языка нам понятно. Как мальчик во время игры может вообразить, что тот стул, на котором он сидит, есть настоящий, кровный конь, и стул на время игры заменит ему коня, так и во время устной и письменной речи маленькое слово солнце в условном мире людского разговора заменит прекрасную, величественную звезду. Заменённое словесной игрушкой, величественное, спокойно сияющее светило охотно соглашается на дательный и родительный падежи, применённые к его наместнику в языке. Но это равенство условно: если настоящее исчезнет, а останется только слово солнце, то ведь оно не сможет сиять на небе и согревать землю, земля замёрзнет, обратится в снежок в кулаке мирового пространства. Также, играя в куклы, ребёнок может искренне заливаться слезами, когда его комок тряпок умирает, смертельно болен; устраивать свадьбу двух собраний тряпок, совершенно неотличимых друг от друга, в лучшем случае с плоскими тупыми концами головы. Во время игры эти тряпочки — живые, настоящие люди, с сердцем и страстями. Отсюда понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке, — участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы — просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово — звуковая кукла, словарь — собрание игрушек. Но язык естественно развивался из немногих основных единиц азбуки; согласные и гласные звуки были струнами этой игры в звуковые куклы. А если брать сочетания этих звуков в вольном порядке, например: бобэоби или дыр бул щыл, или Манч! Манч! ‹или›
чи брео зо! — то такие слова не принадлежат ни к какому языку, но в то же время что-то говорят, что-то неуловимое, но всё-таки существующее.
Если звуковая кукла солнце позволяет в нашей человеческой игре дёргать за уши и усы великолепную звезду руками жалких смертных, всякими дательными падежами, на которые никогда бы не согласилось настоящее солнце, то те же тряпочки слов всё-таки не дают куклы солнца. Но всё-таки это те же тряпочки, и как таковые они что-то значат. Но так как прямо они ничего не дают сознанию (не годятся для игры в куклы), то эти свободные сочетания, игра голоса вне слов, названы заумным языком. Заумный язык — значит находящийся за пределами разума. Сравни Зареч‹ь›
е — место, лежащее за рекой, Задонщина — за Доном. То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным.2
Оба приведённых полностью абзаца демонстрируют с удивительной ясностью и хлебниковскую концепцию языка, и роль, отведённую зауми в структуре языковой деятельности. При всей своей поэтической фактуре этот текст представляет собой особо поразительный пример хорошо известного приёма остранения, с помощью которого автор пытается “десемантизировать” какое-либо явление, чтобы показать его чисто условный характер. Хлебников решительно входит в проблематику отношения языка к истине, привлекая все ресурсы сравнения с игрой в куклы. Учитывая мыслительную систему Хлебникова, этот образ не безобиден и не случаен: говорение — это акт, полностью относящийся к области воображаемого, поскольку речевой акт есть сочетание предзаданных обществом элементов, условных заменителей внешних реалий, независимых от этой комбинаторной игры. Выделим из текста черту в высшей степени характерную для концепции языка, которая в основе своей субстанциалистична: игра в куклы менее формализована, чем используемые лингвистами структуралистами сравнения, например, с игрой в шахматы или в карты; Хлебников почти не интересуется “синтаксисом” этой игры в куклы, то есть совокупностью законов, управляющих этой игровой деятельностью; то, что его здесь исключительно занимает, так это однозначное отношение между элементом игры (звуковой куклой) и элементом, который должен вроде бы ему соответствовать во вневербальной реальности: здесь — реальное солнце и его “наместник” — слово солнце. В отсутствие любого отношения сходства одна лишь условность заставляет участников игры согласиться на соответствие между таким-то звуковым “куском” (куклой) и таким-то элементом реальности, другими словами, принять значение. Значения слов эмпирического языка нам непосредственно доступны, заявляет Хлебников с первой фразы, в силу негласного договора, который, как кажется, соединяет между собой партнёров игры, и благодаря которому они, с одной стороны, понимают друг друга, а с другой — “оживляют”, так сказать, по волшебству, свои звуковые куклы как бы под воздействием социального гипноза. Ткань языка соткана из звуков (гласных и согласных), “соединение звуков” порождает вокабулы или звуковые куклы. Язык, согласно Хлебникову, есть естественное развитие лингвистических атомов, которые суть минимальные единицы, а их перечень составляет “алфавит”, систему фонем данного языка. Именно в этот момент возникает “заумь”.
В игре для группы людей или в беседе (так как языковая деятельность всегда улавливается конкретно именно на уровне эмпирической констатации) чужой наблюдатель, не участвующий в развлечении, увидит только забавную фетишизацию безосновательных предметов, и его холодный взор разоблачает обман: социальная иллюзия разрушена, от игры остаётся только тщетное, совершенно бессмысленное лепетанье. Игра разоблачена именно как игра. “Заумь” возникает в момент абсолютного непонимания, в предельной ситуации, аналогичной предложенному У.В. Куайном „радикальному переводу”.3 Но Хлебников не выводит заумь из такой совершенной “иностранности” речевого акта, как он был бы вправе сделать. Он вступает в игру, уже разоблачив её чисто условную и вымышленную природу, чтобы учредить частичную “заумь” внутри социальной игры, на которую он согласен. Следовательно, он вынужден уточнить системический аспект этой игры: фактически, истинными единицами являются не звуковые тряпочки (или, выражаясь более сдержанно, фонемы), а сегменты фонем, расположенные в определённом порядке и навязанные нам в этом строгом порядке социальным соглашением (“правилами” игры): при смещении в этом навязанном порядке “заумь” может возникнуть в виде местного и строго контролируемого феномена. Она существует как нечто вроде комбинаторной случайности, мгновенного и локального нарушения морфологической последовательности, коей является речь. Для Хлебникова “заумь” — феномен системный, недейственный или даже немыслимый вне соотнесения с существующей языковой системой (в данном случае с русским языком). Примеры, приводимые поэтом, сочетают в себе любопытным образом канонический образец абсолютной “зауми” Кручёных („дыр бул щыл”4
Но Хлебников не выводит заумь из такой совершенной “иностранности” речевого акта, как он был бы вправе сделать. Он вступает в игру, уже разоблачив её чисто условную и вымышленную природу, чтобы учредить частичную “заумь” внутри социальной игры, на которую он согласен. Следовательно, он вынужден уточнить системический аспект этой игры: фактически, истинными единицами являются не звуковые тряпочки (или, выражаясь более сдержанно, фонемы), а сегменты фонем, расположенные в определённом порядке и навязанные нам в этом строгом порядке социальным соглашением (“правилами” игры): при смещении в этом навязанном порядке “заумь” может возникнуть в виде местного и строго контролируемого феномена. Она существует как нечто вроде комбинаторной случайности, мгновенного и локального нарушения морфологической последовательности, коей является речь. Для Хлебникова “заумь” — феномен системный, недейственный или даже немыслимый вне соотнесения с существующей языковой системой (в данном случае с русским языком). Примеры, приводимые поэтом, сочетают в себе любопытным образом канонический образец абсолютной “зауми” Кручёных („дыр бул щыл”4 ), стихотворение Хлебникова «Бобэоби...», также программатичное, но скорее отражающее “звукопись” (живописание звуками идеального, надпространственного портрета5
), стихотворение Хлебникова «Бобэоби...», также программатичное, но скорее отражающее “звукопись” (живописание звуками идеального, надпространственного портрета5 ), чем чистую “заумь”, фрагмент из заумного монолога умирающего Эхнатена в повести «Ка»6
), чем чистую “заумь”, фрагмент из заумного монолога умирающего Эхнатена в повести «Ка»6 и отрывок того, что, вероятно, должно рассматриваться в качестве языка богов.7
и отрывок того, что, вероятно, должно рассматриваться в качестве языка богов.7
Если чуждые элементы в языке (куклы, которые, по своей текстуре, не подчиняются правилу композиции, унаследованному в социальной игре) не “вручают” сознанию говорящего (или слушающего) солнце или любой другой предмет реального мира, они, тем не менее, что-то сознанию “говорят”: референциальность нарушена, её нормальное функционирование замедлено, заторможено (в самом деле, по Хлебникову, эти “слова” не отсылают нас к чему-то конкретному), но она всё ещё существует, по крайней мере, виртуально. Сочетания, в которых не соблюдаются установленные в данном языке правила, производят впечатление “неизвестных слов” и иллюстрируют в том языке, где они проявляются, свободную игру голоса вне обыденных лексических ограничений: игру нового порядка внутри другой игры, переставшей, забыв свои истоки, быть игрой. Условность, употребление и привычка притупляют сознание игры. “Заумь” приходит на помощь именно тогда, когда необходимо оживить или даже воскресить это уснувшее или угасшее игровое сознание, чтобы призвать собеседников к их роли “игроков”, участвующих в воображаемой, в буквальном смысле фантастической игре.
По крайней мере, это вытекает из двух процитированных выше абзацев. Но Хлебников идёт дальше и полностью изменяет ход своего доказательства. Сначала он даёт ставшее впоследствии каноническим определение “зауми”: Заумный язык — значит находящийся за пределами разума, из чего явствует, что ум (или разум, поскольку Хлебников употребляет одинаково термины ‘ум’, ‘разум’ и ‘рассудок’) есть удел обычного языка, в то время как “неизвестные слова” представляют собой нечто вроде знаков некоторого языка, преступающего разумные или рациональные правила языка обычного. Пример заклинаний и других магических формул из народного репертуара очень кстати подтверждает это странное утверждение поэта (ср. о заумном языке в народной речи, статья «О стихах»8 ). Заумный язык является не только вероятным и потенциально возможным, доказывает Хлебников, но он уже существует в “речи народа” в виде пресловутых непонятных заклинаний. Здесь, как и в других областях (в словотворчестве, например), образцом становится народный язык с его стихийными творениями. Как раз в этот момент Хлебников приступает ко второй стадии своего рассуждения, в которой он намеревается сделать рациональным заумный язык, бросающий со всей очевидностью вызов законам разума и обычной вразумительности. Хлебников продолжает так:
). Заумный язык является не только вероятным и потенциально возможным, доказывает Хлебников, но он уже существует в “речи народа” в виде пресловутых непонятных заклинаний. Здесь, как и в других областях (в словотворчестве, например), образцом становится народный язык с его стихийными творениями. Как раз в этот момент Хлебников приступает ко второй стадии своего рассуждения, в которой он намеревается сделать рациональным заумный язык, бросающий со всей очевидностью вызов законам разума и обычной вразумительности. Хлебников продолжает так:
Если взять одно слово, допустим, «чашка, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т.д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они значат «одно тело в оболочке другого; Ч — значит «оболочка. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке — новым искусством, у порога которого мы стоим.
Заумный язык исходит из двух предпосылок:
1. Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным.
2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка.9
Хлебников затем снова берёт в качестве примера слова, начинающиеся на «ч, и продолжает свою аргументацию:
Таким образом Ч есть не только звук, Ч — есть имя, неделимое тело языка.
Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решён вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться Че ноги, все виды чашек — Че воды, ясно и просто. Во всяком случае, хата значит хата не только по-русски, но и по-египетски; В в индоевропейских языках означает «вращение.10
После, перечислив несколько примеров осознанной азбуки, поэт-теоретик приходит к выводу:
Таким образом, заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют.11
Во второй части своего изложения Хлебников ставит себе целью ни много ни мало одомашнивание зауми, как он сам говорит в другой статье, иными словами, её превращение в умный, рациональный и вразумительный язык. Указывает ли эта трансформация на возврат к первоначальному уму, к особой рациональности исходного эмпирического языка? Никоим образом. Хлебников различает несколько уровней в уме, разуме или рассудке: есть эмпирический рассудок, который управляет общеупотребительным естественным эмпирическим языком, контролирует и организует его, в особенности в том, что касается лексики, произвольно учреждая последовательность фонем для создания минимальных значащих единиц (слов в терминологии Хлебникова, “лексем” на узкоспециальном наречии лингвистов); над ним и по ценности выше этого приземлённого разума расположена “заумь” или высшее разумение. В статье «О стихах» Хлебников говорит о высшем разуме,12 главенствующем свойстве при разработке нового языка, в котором минимальные элементы (фонемы) совпадают с минимальными означаемыми (единицами разума, разумными атомами). Разум, организующий таким образом некий идеальный язык, стоит выше старого и в другом отношении, существенно важном для мыслителя-утописта: этот новый разум сливается со вселенским умом (у которого много синонимов: ум вселенной, мировой разум, соборный ум, мозг земли), управляющим Вселенной, и, будучи достоянием подлинно всех людей, способным объединить всё человечество, формируя высшую сущность, единое планетарное состояние. Не следует оставлять без внимания такое утопическое измерение зауми (стоит лишь подумать о всевозможных современных попытках создать универсальный язык, попытках, которые все, кроме эсперанто, потерпели крах), хотя нас здесь занимает не это соображение, а, скорее, лингвистический и философский аспект рационализации языка. Действительно, заумь, как она описана в первом абзаце, была только средством приблизиться к другой зауми, к прообразу универсального языка.
главенствующем свойстве при разработке нового языка, в котором минимальные элементы (фонемы) совпадают с минимальными означаемыми (единицами разума, разумными атомами). Разум, организующий таким образом некий идеальный язык, стоит выше старого и в другом отношении, существенно важном для мыслителя-утописта: этот новый разум сливается со вселенским умом (у которого много синонимов: ум вселенной, мировой разум, соборный ум, мозг земли), управляющим Вселенной, и, будучи достоянием подлинно всех людей, способным объединить всё человечество, формируя высшую сущность, единое планетарное состояние. Не следует оставлять без внимания такое утопическое измерение зауми (стоит лишь подумать о всевозможных современных попытках создать универсальный язык, попытках, которые все, кроме эсперанто, потерпели крах), хотя нас здесь занимает не это соображение, а, скорее, лингвистический и философский аспект рационализации языка. Действительно, заумь, как она описана в первом абзаце, была только средством приблизиться к другой зауми, к прообразу универсального языка.
Теперь я намерен рассмотреть приёмы рационализации нерационального в обычном языке. Приёмы эти являют собой самый интересный опыт из всех попыток геометризации языка. Именно благодаря этому аспекту своей лингвистической утопии, Хлебников предстаёт как самый футуристический будетлянин, как самый актуальный мыслитель нашего времени.
Поистине игра меняет свою сущность: из неосознанной активности чистого воображения она превращается в акт безупречного и осознанного искусства, в мастерское манипулирование буквами алфавита, ставшими новым инструментом для искусной работы “заумника”. Речь идёт, разумеется, о новой метафоре, но этот образ переносит заумь на более высокую ступень в иерархии когнитивных ценностей. Как только выполнены “две предпосылки заумного языка”, каждая фонема может быть фактически семантизирована методом указанного в тексте смыслового абстрагирования и, следовательно, выполнять функцию простого имени, или образа. Итак, что означает это неделимое тело, этот атом языка? Что несёт в себе этот образ?
В статье «Художники мира!», фундаментальной для понимания объединяющей роли, выпавшей на долю зауми, Хлебников пишет:
‹...›
простые тела языка — звуки азбуки — суть имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира ‹...›
13
Подобно тому, как небесные камни часто падают из одной точки неба, слова, начинающиеся с одной и той же буквы, летят из одной и той же точки мысли о пространстве.14 Далее Хлебников предлагает художникам мира с помощью простых рисунков изобразить эти простейшие звуки, которые сами по себе суть имена разных видов пространства: производное иероглифическое письмо снова вписывает в пространство пространственность (то есть структуру, пространственный эйдос), уже обозначенную фонемой. Будучи знаком знака, хлебниковский иероглиф с универсальным значением (так как простое тело есть знак какого-либо свойства самого пространства, свойства естественного и пространству присущего, а значит неизменного, неподвластного потоку времени) имеет кинетическую конфигурацию и позволяет уловить пространственно-временной ритм, лежащий в основе “трансцендентальной дедукции” букв азбуки (если использовать хлебниковскую терминологию; на самом деле тут имеются в виду языковые фонемы), а неясность лексики говорит об очень любопытном пристрастии Хлебникова к вписыванию звука в пространство, свидетельствующем об упорных исканиях того, что можно назвать настоящей “грамматологией”15
Далее Хлебников предлагает художникам мира с помощью простых рисунков изобразить эти простейшие звуки, которые сами по себе суть имена разных видов пространства: производное иероглифическое письмо снова вписывает в пространство пространственность (то есть структуру, пространственный эйдос), уже обозначенную фонемой. Будучи знаком знака, хлебниковский иероглиф с универсальным значением (так как простое тело есть знак какого-либо свойства самого пространства, свойства естественного и пространству присущего, а значит неизменного, неподвластного потоку времени) имеет кинетическую конфигурацию и позволяет уловить пространственно-временной ритм, лежащий в основе “трансцендентальной дедукции” букв азбуки (если использовать хлебниковскую терминологию; на самом деле тут имеются в виду языковые фонемы), а неясность лексики говорит об очень любопытном пристрастии Хлебникова к вписыванию звука в пространство, свидетельствующем об упорных исканиях того, что можно назвать настоящей “грамматологией”15 в том смысле, который придавал этому термину Деррида: хлебниковская буква, как это выявится позже со всей ясностью, есть “грамма”, фигура, изображение пространственных переходов, буква — годограф движения частиц в пространстве.
в том смысле, который придавал этому термину Деррида: хлебниковская буква, как это выявится позже со всей ясностью, есть “грамма”, фигура, изображение пространственных переходов, буква — годограф движения частиц в пространстве.
Задачей труда художников было бы дать каждому виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить на другие. Можно было бы прибегнуть к способу красок и обозначить м тёмно-синим, в — зелёным, б — красным, с — серым, л — белым и т.д. Но можно было бы для этого мирового словаря, самого краткого из существующих, сохранить начертательные знаки. Конечно, жизнь внесёт свои поправки, но в жизни всегда так бывало, что вначале знак понятия был простым чертежом этого понятия. И уж из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни.
Мне Вэ кажется в виде круга и точки в нём;
Ха — в виде сочетания двух черт и точки;
Зэ — вроде упавшего К, зеркало и луч;
Л — круговая площадь и черта оси;
Ч — в виде чаши;
Эс — пучок прямых.16
Исключительная интуиция Хлебникова позволила ему построить свой заумный язык на геометрии. Стремясь создать язык универсальный, значения которого были бы неизменными и обязательными для совокупности мыслящего человечества, Хлебников обеспечивает однозначность простейших понятий (минимальных единиц мышления, являющегося мышлением пространственным), привязывая их смысл к взаимозаменяемым положениям простейших и “идеальных” частиц (очень “эвклидовых” в этом отношении), двигающихся в пространстве. Вот лишь несколько примеров кинетических значений такого рода, выбранных из массы других:
‹...›
я утверждаю, что:
1) В на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад.
2) Что Х значит замкнутую кривую, отделяющую преградой положение одной точки от движения к ней другой точки (защитная черта).
3) Что З значит отражение движущейся точки от черты зеркала под углом, равным углу падения. Удар луча о твёрдую плоскость.
4) Что М значит распад некоторой величины на бесконечно малые, в пределе, части, равные в целом первой величине.17
В комментарии к звёздному языку (другое имя “зауми”) Зангези-Хлебников выражается ещё яснее о пространственно-временной природе неделимых частиц нового планетарного языка:
Зангези: Это звёздные песни (Зангези только что продекламировал стихотворение, в котором
звёздный язык соединился с обыкновенным. —
Ж.-К. Л.)
, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый набросок! Этот язык объединит некогда, может быть, скоро! ‹...› Слышите ли вы меня? Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи — здания из глыб пространства.
Частицы речи. Части движения. Слова — нет, есть движения в пространстве и его части — точек, площадей.
Вы вырвались из цепей ваших предков. Молот моего голоса расковал их — бесноватыми вы бились в цепях.
Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в неё — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру.18
Минимальные концепты звёздного языка, выдуманные пророком Зангези-Хлебниковым (концепты, обозначенные, напомним ещё раз, фонемами русского языка и пространственно изображённые буквами кириллицы, эстетическая ценность графики которой была умело использована Хлебниковым, или же иероглифами, изобретёнными в «Художники мира!»), претендуют на присущую им абсолютную ценность точно в той мере, в какой они функционируют как монограммы физических описаний; ведь каждая фонема одновременно соотносится с положением какого-то идеального тела (точкой, плоскостью, поверхностью, окружностью, прямой и т.д.) в пространстве в определённый момент жизни пространства, как говорит Хлебников. Таким образом, каждая фонема есть событие жизни пространства; к счастью для стабильности заумного языка, это событие постоянно возобновляется, а не рождается однократно, чтобы потом рассеяться подобно тому, что происходит в “гераклитовской” концепции Кручёных. Заумный язык Хлебникова мог бы определяться как звуковой сигнал пространственно-временных трансформаций; вот почему он вполне универсален, если только мы согласны рассматривать пространство и время как сущности универсального характера (философия, лежащая в основе хлебниковской лингвистической концепции, решительно отрицает кантианство и чисто субъективную природу “форм” чувствительности19 ). Поскольку по природе своей заумный язык Хлебникова топологичен, то представляется возможным графически выразить конфликтные отношения между элементарными телами, занимающими это пространство: мы понимаем, что в крайнем случае этот язык мог бы сам себя упразднить, онеметь, став универсальным письмом, идеографией в прямом смысле слова. Графические знаки, начертанные в конце статьи «Художники мира!», как раз дают точную и адекватную транскрипцию видов пространства или “эйдосов”, элементарных хронотопических структур (сеть звуковых “образов” для разных видов пространства20
). Поскольку по природе своей заумный язык Хлебникова топологичен, то представляется возможным графически выразить конфликтные отношения между элементарными телами, занимающими это пространство: мы понимаем, что в крайнем случае этот язык мог бы сам себя упразднить, онеметь, став универсальным письмом, идеографией в прямом смысле слова. Графические знаки, начертанные в конце статьи «Художники мира!», как раз дают точную и адекватную транскрипцию видов пространства или “эйдосов”, элементарных хронотопических структур (сеть звуковых “образов” для разных видов пространства20 ). Заумь Хлебникова — это звуковой ритм пространства.
). Заумь Хлебникова — это звуковой ритм пространства.
В конце нашего краткого обзора метаморфоз “зауми” у Хлебникова, наверное, небезынтересно процитировать две попытки “перевода” с обычного языка на “заумь” и обратно. В этом, вероятно, можно усмотреть конкретное применение странной топологической семантики, выдуманной великим будетлянином. Вот что предлагает Хлебников в конце своей статьи «Художники мира!»:
Предлагаю первые опыты заумного языка как языка будущего, с той оговоркой, что гласные звуки здесь случайны и служат благозвучию. Вместо того, чтобы говорить:
„Соединившись вместе, орды гуннов и готов, собравшись кругом Аттилы, полные боевого воодушевления, двинулись далее вместе, но, встреченные и отраженные Аэцием, защитником Рима, рассеялись на множество шаек и остановились и успокоились на своей земле, разлившись в степях, заполняя их пустоту”, — не следовало ли сказать:
„Ша+ со (гуннов и готов), вэ Аттилы, ча по, со до, но бо+зо Аэция, хо Рима, со мо вэ+ка со, ло ша степей +ча”. Так звучит с помощью струн азбуки первый рассказ.
Или: „Вэ со человеческого рода бэ го языков, пэ умов вэ со ша языков, бо мо слов мо ка разума ча звуков по со до лу земли мо со языков вэ земли”. То есть: „Думая о соединении человеческого рода, но столкнувшись с горами языков, бурный огонь наших умов, вращаясь около соединенного заумного языка, достигая распылением слов на единицы мысли в оболочке звуков, бурно и вместе идет к признанию на всей земле единого заумного языка”.
Конечно, эти опыты ещё первый крик младенца, и здесь предстоит работа, но общий образ мирового грядущего языка дан. Это будет язык “заумный”.21
Несколько замечаний по поводу этих двух переводов.
1. Как бывает всегда в текстах с ярко выраженным идеологическим звучанием, примеры выбраны автором не случайно. Дело будетлян многократно приравнивалось поэтом к набегу диких всадников,22 захватывающих города, сметая на своём пути старый порядок. В одном стихотворении 1921 года поэт явно сравнивает себя с Аттилой:
захватывающих города, сметая на своём пути старый порядок. В одном стихотворении 1921 года поэт явно сравнивает себя с Аттилой:
И ты, Аттила без меча,
Всех победив,
Их сделал данниками звёзд
завовал для неба
Великий рычагами я.23
В условиях арифмософической концепции Истории будетлянина его жест — повторение бунта Разина и разрушительного нашествия Аттилы, только это — повтор “наоборот”: без меча, без насилия, если не считать насилием чисто символическое умерщвление старого порядка, старых типов мышления:
Я — Разин напротив,
Я — Разин навыворот.24
Здесь также очевиден “сдвиг”, смещение в истории, переход на высшую ступень в понимании новых задач, выпавших на долю
Воинов Разума нового времени.
25
2. Не только оба примера и их сопоставление уже раскрывают перед нами имплицитную “футуристическую” идеологию, а каждый пример по отдельности построен потенциально “кинетическим” образом: и тут, и там речь идёт о встречах, соединениях, столкновениях, о движении, вращении, дроблении, рассеивании, неподвижности, диффузии и т.д. Если структура этих коротких рассказов динамична, некоторые их элементы вместе с тем не поддаются переводу на “заумь”: в первом примере — имена собственные; во втором с трудом поддаются преобразованию в пространственные конфигурации некоторые субстанции. Случайно ли в текстах, написанных на заумном языке, трудно поддающиеся переводу единицы стоят в позиции родительного падежа? Выскажем предположение, что определительное отношение, выражаемое в русском языке родительным падежом, благодаря своей специфической “пространственно-временной” природе, сильнее других сопротивляется заумному “распылению”. Все другие синтаксические связи исчезли в скоплении слогов, из которых состоит “фраза” зауми.
3. Прежде чем привести свои примеры, Хлебников подчёркивает чисто случайный характер гласных, которые лишь служат благозвучию, в чём, однако, можно усомниться. Разумеется, область гласных относительно мало изучена,26 и глоссософические поиски футуристов, и в первую очередь Хлебникова, касались преимущественно согласных.27
и глоссософические поиски футуристов, и в первую очередь Хлебникова, касались преимущественно согласных.27 Тем не менее, в некоторых хлебниковских размышлениях, не относящихся собственно к “зауми”, как, например, внутреннее склонение слов, функциональная роль гласных вполне заслуживает внимания.28
Тем не менее, в некоторых хлебниковских размышлениях, не относящихся собственно к “зауми”, как, например, внутреннее склонение слов, функциональная роль гласных вполне заслуживает внимания.28 В двух текстах, написанных на заумном языке, чередование опорных гласных (а, о, э, у) вызывает ряд вопросов. Учитывая то, что язык, состоящий из одних согласных, в принципе непроизносим, нем, законным будет вопрос о критерии распределения опорных гласных: по всей видимости, и это всего лишь гипотеза, Хлебников решил заранее “опредложить” минимальные звуки заумного языка. Во всяком случае данная установка на систему предлогов наилучшим образом соответствует его стремлению к “семантической топологии”: ‹...› эти пять предлогов (выше в тексте Хлебников рассматривал предлоги по, со, ко, до и во. — Ж.- К. Л.) суть имена движений или отсутствующего или уменьшающегося расстояния между двумя.29
В двух текстах, написанных на заумном языке, чередование опорных гласных (а, о, э, у) вызывает ряд вопросов. Учитывая то, что язык, состоящий из одних согласных, в принципе непроизносим, нем, законным будет вопрос о критерии распределения опорных гласных: по всей видимости, и это всего лишь гипотеза, Хлебников решил заранее “опредложить” минимальные звуки заумного языка. Во всяком случае данная установка на систему предлогов наилучшим образом соответствует его стремлению к “семантической топологии”: ‹...› эти пять предлогов (выше в тексте Хлебников рассматривал предлоги по, со, ко, до и во. — Ж.- К. Л.) суть имена движений или отсутствующего или уменьшающегося расстояния между двумя.29
По-видимому, а и э являются просто уступкой узуальному произношению букв русского алфавита, в некотором роде они фигурируют в качестве свидетелей “остаточной вокализации”. Знаменует ли единственный раз встречающееся у (лу) незаметное введение в игру с гласными флективной системы, восполняющее подобным образом синтаксические недостатки языка заумного, основанного на соположении фоно-семантических единиц? Явная моносиллабичность заумного языка выдаёт влияние китайской модели, о значимости которой в области графики мы уже говорили.
4. Если предположить, что “заумь” Хлебникова — настоящий язык, система действительно произносимых знаков, то какова будет собственно линвистическая ценность знака + в первом образце? Если мы имеем здесь дело с чисто математическим знаком, тогда “язык” Хлебникова будет неким алгебраическим письмом, математической формулой, точное произношение которой будет весьма маловажным. Надо полагать, что в этом случае мы приблизимся к идеалу математической формализации, который всегда был дорог поэту-числяру, но тогда непонятно, как мы сможем называть этот текст образчиком языка будущего, разве только если мы возьмём слово язык в переносном смысле, имея в виду такие случаи его употребления, как “язык математики”. Заумный язык предстанет тут в виде формулы слышимых цифр пространства, а каждая буква будет символизировать пространственно-временное “положение”.
5. Безусловно, упражняясь в двустороннем переводе, Хлебников предложил прежде всего словарный набор своего элементарного языка, абсолютно не снабдив его синтаксическими правилами употребления. Это опущение выявляет в очередной раз “субстанциалистский” аспект лингвистического мышления Хлебникова. Соединение в пространстве различных простейших структур занимает его меньше, чем “перевод” этих конфигураций в “буквы”. Так, если любая „речь есть сплетение имён”,30 то предложенные Хлебниковым образчики — всё что угодно, но не речь: “фразы” нет, а есть скопление независимых “атомов”, простая и, по всей видимости, неупорядоченная последовательность которых не способна восстановить или воспроизвести начальную морфологическую структуру. Совершенно странным образом, и в этом состоит важный парадокс хлебниковской “зауми” (иными словами, “языка” высшего разума, который должен, по замыслу своего создателя, объединять человечество, раздробленное на отдельные “умы” существующих индивидуальных языков), пройдя катастрофический обратный путь, “заумник” оказывается в исходной ситуации игровой “зауми” (свободные сочетания, игра голоса вне слов31
то предложенные Хлебниковым образчики — всё что угодно, но не речь: “фразы” нет, а есть скопление независимых “атомов”, простая и, по всей видимости, неупорядоченная последовательность которых не способна восстановить или воспроизвести начальную морфологическую структуру. Совершенно странным образом, и в этом состоит важный парадокс хлебниковской “зауми” (иными словами, “языка” высшего разума, который должен, по замыслу своего создателя, объединять человечество, раздробленное на отдельные “умы” существующих индивидуальных языков), пройдя катастрофический обратный путь, “заумник” оказывается в исходной ситуации игровой “зауми” (свободные сочетания, игра голоса вне слов31 ), и первый крик новорожденного звучит как эхо первовремён Утопии, когда голос людей переплетался ещё с криком животных: Больше блаженного овечьего блеяния, больше зауми чистого человеческого голоса, пересечённого молнией мысли.32
), и первый крик новорожденного звучит как эхо первовремён Утопии, когда голос людей переплетался ещё с криком животных: Больше блаженного овечьего блеяния, больше зауми чистого человеческого голоса, пересечённого молнией мысли.32
———————
Примечания 1
1 Cf.:
Dmitrij Tschizewskij. Der russische Futurismus und die dichterische Sprache // Archiv für das Studium der neueren Sprachen. Braunschweig 1972, J. 124, Bd. 209, 1. Halbjahresband, s. 89.
 2 В. Хлебников
2 В. Хлебников. Наша основа // Собрaние произведений Велимира Хлебникова. Т. I–V. Под ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова.
Л. Изд. писателей в Ленинграде. 1928–1933. T. V. 1933. С. 234–235.
 3 W.V. Quine
3 W.V. Quine. Word and Object. Traduction française // Le mot et la chose. Flammarion. 1977.
 4 А. Кручёных
4 А. Кручёных. Помада.
М. 1913.
 5
5 Стихотворение В. Хлебниковa «Бобэоби пелись губы...» появивилось в «Пощёчине общественному вкусy» (1913). Две последних строчки не оставляют никаких сомнений в парадигме, вдохновившей Хлебникова:
Так на холсте каких-то соответствий /
Вне протяжения жило Лицо.
 6 В. Хлебников
6 В. Хлебников. Ка // Московские мастера.
М. 1916. О заумных словах, произнесённых умирающим Эхнатеном, Хлебников скажет в 1919 году в тексте, который должен был служить предисловием одного из изданий его произведений:
Во время написания заумные слова умирающего Эхнатэна „Манч! Манч!” из «Ка» вызывали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими; теперь они для меня ничто. Отчего — я сам не знаю. (
В. Хлебников. Свояси // Собрание произведений. Т. II. С. 9).
 7
7 О
языке богов, ср.:
В. Хлебников Боги // Собрание произведений. Т. IV. С. 259–267 (пьеса полностью написана на “зауми”), а также сверхповесть «Зангези» (Собрание произведений. Т. III. С. 319–321, 339).
 8 В. Хлебников
8 В. Хлебников. О стихах // Собрание произведений. Т. V. С. 225–227.
 9 В. Хлебников
9 В. Хлебников. Наша основа // Собрание произведений. Т. V. С. 235–236.
 10
10 Там же. С. 236.
 11
11 Там же.
 12 Речь высшего разума
12 Речь высшего разума... См.:
В. Хлебников. О стихах // Собрание произведений. Т. V. С. 226.
 13 В. Хлебников
13 В. Хлебников. Художники мира! // Собрание произведений. Т. V. С. 219.
 14
14 Там же.
 15 Jacques Derrida
15 Jacques Derrida. De la grammatologie.
Paris: Minuit. 1967.
 16 В. Хлебников
16 В. Хлебников. Творения.
М. 1986. С. 622–623.
 17 В. Хлебников
17 В. Хлебников. Художники мира! // Собрание произведений. Т. V. С. 217. См. также:
В. Хлебников. Неизданная статья // Собрание произведений. Т. V. С. 189;
В. Хлебников. Наша основа // Собрание произведений. Т. V С. 236–237;
В. Хлебников. Зангези // Собрание произведений. Т. III. С. 322–323;
В. Хлебников. Изберём два слова // Неизданные произведения. Под ред. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: ГИХЛ. 1940. С. 325–329.
 18 В. Хлебников
18 В. Хлебников. Зангези // Собрание произведений. Т. III. С. 33–37.
 19 Я тоскую по большому костру из книг
19 Я тоскую по большому костру из книг... См.:
В. Хлебников. Разговор двух особ // Собрание произведений. Т. V. С. 183.
 20 В. Хлебников
20 В. Хлебников. Художники мира! // Собрание произведений. Т. V. С. 220.
 21 В. Хлебников
21 В. Хлебников. Художники мира! // Собрание произведений. Т. V. С. 220–221.
 22
22 Ср.:
В. Хлебников. Мы и дома // Собрание произведений. Т. IV. С. 275;
В. Хлебников. Зангези // Собрание произведений. Т. III. С. 354–360.
 23 В. Хлебников
23 В. Хлебников. Собрание произведений. Т. V. С. 85.
 24 В. Хлебников
24 В. Хлебников. Труба Гуль-Муллы // Собрание произведений. Т. I. С. 234.
 25
25 Ср.:
В. Хлебников. Открытие народного университета // Неизданные произведения. С. 351.
 26 В. Хлебников
26 В. Хлебников. Собрание произведений. Т. V. С. 237.
 27
27 Cр.:
В. Хлебников. Собрание произведений. Т. V. С. 189; там же. С. 237.
 28
28 Ср.:
В. Хлебников. Учитель и ученик // Собрание произведений. Т. V. С. 171–172;
В. Хлебников. Изберём два слова... // Неизданные произведения. С. 328;
В. Хлебников. Ухо словесника // Неизданные произведения. С. 330–331;
В. Хлебников. Каким образом в “со” есть область... // Неизданные произведения. С. 332–333;
В. Хлебников. Вступительный словарик односложных слов // Неизданные произведения. С. 345.
 29 В. Хлебников
29 В. Хлебников. Неизданные произведения. С. 330–331.
 30
30 Cр.:
Платон. Софист, 262d: „Но из одних имён, последовательно произнесённых, никогда не образуется речь, так же и из глаголов, произнесённых без имён. ‹...› он (говорящий. —
Ж.-К. Л.) сообщает о существующем или происходящем, или происшедшем, или будущем, и не только произносит наименования, но и достигает чего-то, сплетая глаголы с именами. Поэтомуто мы сказали о нём, что он ведёт речь, а не просто называет, и такому сочетанию дали имя речи”. (
Платон. Софист // Собрание сочинений в 4-х томах. Пер. С. А. Ананьина. Т. 2.
М.: Мысль, 1993.)
 31 В. Хлебников
31 В. Хлебников. Наша основа // Собрание произведений. T. V. С. 235.
 32 В. Хлебников
32 В. Хлебников. Из записных книжек // Собрание произведений. T. V. С. 273.
Воспроизведено по:
Toronto Slavic Quaterly №47. Winter 2014. P. 303–322
Благодарим З.Д. Давыдова и Ж.-Ф. Жаккара за содействие переизданию статьи
Изображение заимствовано:
Mike Kelley (b. 1954 in Detroit, Michigan; d. 2012 in Los Angeles).
More Love Hours Than Can Ever Be Repaid.
1987. Stuffed fabric toys and afghans on canvas with dried corn; wax candles on wood and metal base.
Whitney Museum of American Art, New York; purchase, with funds from the Painting and Sculpture Committee.
More Love Hours Than Can Ever Be Repaid is a chaotic assemblage of handmade dolls and blankets that Mike Kelley found in thrift stores. Kelley does not designate to whom more “love hours” are owed, but simply puts forward the condition of loving something too much, or of receiving too little in return—like the cast-off items that make up the sculpture. The title also conjures associations of guilt: when parents and relatives create these toys and blankets, are the countless hours of stitching, knitting, and crocheting a kind of penance, and for what? Do we expect children to repay the time and love lavished on them? Using Jackson Pollock's large drip paintings as his compositional model, Kelley transformed the orphaned handicrafts into a swirling mass of unrequited affection that is beyond human reciprocation. Similarly, the collection of melted candles in the related work, The Wages of Sin, becomes an altar to the power of teen angst and implies a child's rite of passage into the adult worlds of labor, debt, and atonement.
whitney.org/collection/works/7317


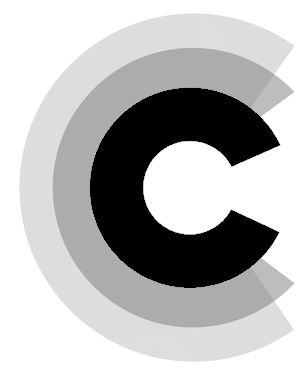 транное происшествие под названием “заумный язык” или, проще говоря, “заумь”, случившееся с поэтическим словом в русской литературе начала двадцатого века, является логическим завершением эволюционного процесса в словесном искусстве. Несмотря на то, что первые проявления этого процесса были известны ещё в далёком прошлом, его теоретическое обсуждение начинается по-настоящему только с приходом романтизма. Для определения такого явления, свойственного поэтической речи, подойдёт следующая формулировка: художественное слово неспособно передать ни внутреннюю жизнь души, ни описать объективный мир. Веру во всевыражающее могущество Логоса постигает настоящий кризис доверия.1
транное происшествие под названием “заумный язык” или, проще говоря, “заумь”, случившееся с поэтическим словом в русской литературе начала двадцатого века, является логическим завершением эволюционного процесса в словесном искусстве. Несмотря на то, что первые проявления этого процесса были известны ещё в далёком прошлом, его теоретическое обсуждение начинается по-настоящему только с приходом романтизма. Для определения такого явления, свойственного поэтической речи, подойдёт следующая формулировка: художественное слово неспособно передать ни внутреннюю жизнь души, ни описать объективный мир. Веру во всевыражающее могущество Логоса постигает настоящий кризис доверия.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()