

Воспользовавшись известным выражением Мандельштама, можно сказать, что смысл словосочетания “музыкальная культура Хлебникова” „торчит в разные стороны”. Речь может идти о музыкальной образованности, музыкальной культурности поэта, но в то же время формулировка темы подразумевает и иной ракурс: музыкальная культура в поэтических образах Хлебникова (сравним: “Россия Хлебникова”). Грамматическая конструкция также наращивает смысл. Казалось бы, естественно говорить о музыкальной культуре города, страны, мира, но не человека, даже гениального. В заявленном словосочетании имя поэта раскрывается не только как историческое, но и как мифопоэтическое, соответствующее формуле Юноша Я-Мир.
Различные смысловые плоскости, потенциально присутствующие в названии, соответствуют основным разделам предлагаемой статьи, которая представляет собой нечто вроде реферата ненаписанной книги:
1. Хлебниковская концепция музыки.
2. Реалии русской музыкальной культуры начала XX века в текстах Хлебникова.
3. Имманентные свойства музыки, воплощенные в слове; музыкальные произведения-прототипы.
4. Хлебниковская музыкальная мифология.
Основная часть обобщенного здесь материала представлена в ряде публикаций.1![]()
В произведениях Хлебникова различима преемственная связь с той общей, суммарной концепцией музыки, которая сложилась в русской поэзии и философии в начале XX века. Ее основу составляет оппозиция “мирового” и “человеческого” измерений музыки. Андрей Белый пишет в мемуарах:
Чаще всего одно исключает другое. Бальмонту, Иванову звучит мировая музыка, Ахматовой, Кузмину, Пастернаку — музыка-искусство. Для Блока определяющим было, скорее, соединение полюсов: при этом мировые значения музыки противопоставлены самым низким ступеням в иерархической лестнице музыкального искусства, таким, как рыдания кабацкой скрипки, визг цыганского напева. Белый по-своему универсален, однако и для него сочетание разных “музык” — всегда полярное противопоставление.
В отличие от других музыкальных поэтов начала XX века Хлебников воспринимает совокупность самых различных проявлений музыки как целостность. Для него не существует ни пустот между полюсами, ни избегания крайностей... То, что другими мыслится как оппозитивное, взаимоисключающее, для Хлебникова — взаимосвязано и взаимообратимо. “Человеческое” измерение музыки соотносится с “мировым” как части некого пространства или фазы единого пути.
Этот принцип становится сюжетной основой в стихотворении «И вот зеленое ущелие Зоргама...». Из обычного мира, где раздаются пение и игра на каком-то струнном инструменте, Поэт призывает идти в мир, Где бревна из звука, бревна из хохота / И улица пения; от “просто музыки”, звучащей вокруг, к “мировой музыке”, если понимать ее по-блоковски, или, по Хлебникову, к музыке законов времени.
Те образы поэзии, которые вызваны к жизни “просто музыкой”, отражают реалии музыкальной культуры. У каждого из поэтов — свои предпочтения и свой диапазон воспринимаемых явлений.
Сумма хлебниковских мотивов отличается редкой и, по-видимому, уникальной типологической полнотой. Кажется, нет такого рода музыки, который не был бы представлен в его текстах. Это:
Хлебников не только откликается на различные формы бытования музыки. Он задается вопросами о сущностных свойствах музыки как искусства и о том, каким образом эти свойства могут быть выражены в слове. В отличие от многих “музыкальных” поэтов Хлебников практически не владел нотной грамотой. Все тайны музыки постигались им на слух, а не с помощью нотного текста, как обычно бывает у профессиональных музыкантов. И знания в области музыкалькой теории, по-видимому, не выходили за пределы пифагорейской концепции интервалов и некоторых, самых общих, сведений о диатонических ладах.
Несмотря на это, Хлебников, вслед за Андреем Белым, обращается к труднейшим для передачи в слове музыкальным феноменам, таким, как полифоническое многоголосие и симфонизм — особое качество музыки большого стиля.
“Полифоническая” техника у Хлебникова, в принципе, та же, что и у Белого.4![]()
Можно было бы назвать и другие примеры обращения к квазиполифонической технике. Но все же, несмотря на относительную освоенность приема, хлебниковские опыты не имеют себе равных. Реконструкция только одной части поэмы «Настоящее» превращает короткие строчки — На о, на обух господ! — в строки партитуры восьмиголосного канона,6![]()
![]()
В сопоставлении с Белым естественно говорить и о симфонических опытах Хлебникова. “Симфониям” Хлебникова, как и “симфониям” Белого, присуще качество симфонизма: в обоих случаях „ни один из множества элементов не мыслится вне связи с другими” и безусловно „достигается непрерывность музыкального сознания”.8![]()
![]()
К “симфоническим” опытам Хлебникова относится и поэма «Ангелы», созданная, предположительно, под впечатлением от «Божественной поэмы» Скрябина.10![]()
Максимальное приближение слова к музыке, воспроизведение музыкальной формы в деталях, как у Белого, или же выход к структурному архетипу, посредством которого достигается музыкальное состояние слова, как у Хлебникова, — не что иное, как путь к мифу. „Между двумя диаметрально противоположными системами знаков — языком музыки и связной речью, — пишет Леви-Стросс, — мифология занимает среднее положение”.11![]()
Существует и другая, гораздо более обширная и заметная область взаимодействия музыки и мифа: музыкальная мифология. И здесь фигура Хлебникова — одна из центральных.
В хлебниковской музыкальной мифологии выделяются две основные тематические линии: это имена (музыкальные “боги” и “герои”) и музыкальные инструменты.
Различные мифологические сюжеты Хлебникова, и в первую очередь те, что формируют “словарь” музыкальных имен, встраиваются в концепцию “мирового” и “человеческого” измерений музыки, также мифологичную по существу. Ведь мировое и человеческое измерения — не что иное, как верхнее и нижнее “царства” музыки.
“Небожителям” посвящены серьезные мифы, шутливые — обитателям земли.
Одна из музыкально-мифологических шуток Хлебникова посвящена Надежде Плевицкой: в стихотворении «Вечер, он черный, он призрак, он иноче!» поэт обращается к Вяйнемяйнену, герою Калевалы, с призывом спеть громче Плевицкой (как будто она — богиня, а он — простой смертный). В пьесе «Чертик» обыгрывается скандал вокруг «Обедни» Чайковского, не утративший своей остроты даже через 20 лет после смерти композитора. Именно атмосфера скандала позволяет герою хлебниковской пьесы проникать в храм: Я люблю посещать обедню в день кончины Чайковского, — говорит Черт.12![]()
Другого рода сюжеты связаны с именами Моцарта, Мусоргского и Скрябина. Хлебников видит в каждом из композиторов “собрата”. Он пишет: Я жизнь пью из кубка Моцарта и как бы причисляет Мусоргского к будетлянам, создавая образ Мусоргского будущего.13![]()
Кодом общности Хлебникова и Моцарта является миф об Орфее — та его версия, которая была изложена в учении орфиков и возрождена в работах Вяч. Иванова. В Орфее орфическом снимается оппозиция Диониса и Аполлона, воспетая Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки» и имевшая огромное значение для поэзии и философии начала XX века.
В мифе об Орфее — на самом глубинном уровне — сходятся различные линии поэмы «Что делать вам...»: “моцартовская” строфа занимает в ней центральное место.14![]()
Образ Скрябина осмыслен через тождества: Скрябин — земной шар и Скрипка земного шара, тем самым: Скрябин — скрипка — земной шар или: музыкант — струнный музыкальный инструмент — мир. Симметричным образом, в «Утесе из будущего» утверждается тождество: Я — большой ящик звенящих проволок (то есть некий струнный инструмент) — сложная звезда из костей. Или: Я — мир — музыкальный инструмент. Так мифопоэтическое Я Хлебникова уравнивается с мифологическим образом Скрябина.15![]()
Самая значительная по объему область хлебниковской музыкальной мифологии связана с инструментами. Ими озвучено мировое пространство: в «Песни Мирязя» основные типы инструментов — струнные, духовые, ударные — располагаются под водой, на земле, в небе и еще — как бы прочерчивают звуком мировую вертикаль: трубящие мирязи слетаются, а затем опускаются на дно морское.16![]()
Все хлебниковские инструменты — мировые. Они родственны мировым скрипкам Блока, мировому колоколу Белого и т.д. Однако Хлебников — единственный, у кого эпитет “мировой” разворачивается в тождество: мир — музыкальный инструмент. Среди мировых инструментов — рояль, а также мирель — некая мировая свирель, миряные гусли, трубы, в которые трубят мирязи.
Основные для Хлебникова группы инструментов — струнные и духовые. Их соотношение коренится в оппозиции флейты Диониса и лиры Аполлона. Хлебниковские струнные — инструменты законов времени: подобно аполлоновой лире, они — носители гармонии, порядка, строя и меры.17![]()
Ни одно законченное произведение Хлебникова не называется «Симфонией». Тем не менее само слово несколько раз встречается у Хлебникова. Прежде всего — в тетради 1907–1908 годов, где записано:
Р.В. Дуганов, указавший на эту запись, предполагает, что “симфонический” список может быть дополнен: разработки от “Реку” могли бы стать “симфонией Речь”, а «Заклятие смехом», как и «Времири смеющиеся», — “симфонией Смей” (и ‘смех’, и ‘сметь’ в равной степени).
Только в двух случаях с названием “симфония” связан осуществленный или, по крайней мере, разработанный замысел.
Первым по времени является опубликованный Р.В. Дугановым (в Петербургских Хлебниковских чтениях) первоначальный текст «симфонии Любь» — восемь строк, окруженных узорами последующих записей (более 500 словообразований того же корня).
Другая законченная вещь — поэма «Любовь приходит страшным смерчем...»: слово ‘симфония’ было одним из первоначальных вариантов названия поэмы.
Что же такое “симфония” в понимании Хлебникова?
Одним из ключей к ответу можно считать формулу "мир как симфония", актуальную для всего 19-го и начала 20-го века. Мир — симфония (которую играет “мировой оркестр”), и, напротив, симфония — мир, воплощение мирового всеединства, гармонии. Но греческое слово σιμφονια и есть “гармония”.
Еще один шаг — соединение слов ‘мир’ и ‘симфония’ (в значении “гармония”) приводит к понятию “гармония мира” или, по Хлебникову, — лад мира, «Ладомир».
Если же обратиться к признакам симфонии как собственно музыкального жанра, то здесь, по-видимому, следует ориентироваться не на четырехчастный цикл, сонатное allegro и т.п. Скорее, Хлебников откликается на то, что называется “симфонизмом”: свойство, благодаря которому, как пишет Асафьев, достигается „непрерывность музыкального сознания”: „ни один элемент не мыслится и не воспринимается как независимый, среди множества остальных”. При этом в процессе развития постоянно обретается „качество инакости”.
Примеривая названные (музыкальные и мифопоэтические) признаки симфонии к поэме «Любовь приходит страшным смерчем...», можно увидеть, что она, как и любая поэма Хлебникова, включает в себя целый мир: любовь и смерть, прошлое, настоящее и будущее, войну и мир... В поэме “ни один элемент не мыслится и не воспринимается как независимый, среди множества остальных”, она “симфонична” — но это не исключительные свойства. “Симфониями” такого рода могли бы называться и другие “мировые” произведения Хлебникова, в первую очередь — «Ладомир». Не удивительно, что слово “симфония” не закрепилось в названии поэмы.
Иначе обстоят дела со словотворческими замыслами 1907–1908 годов.
Возможно, что симфонии Бы, Ярь, Любь мыслились как произведения “большого стиля” — наподобие поэмы-симфонии «Любовь приходит страшным смерчем...»
Но вероятно и другое: в данном случае под “симфонией” понимался воображаемый итог словообразования — некая сумма уже найденных и потенциальных, еще только могущих возникнуть форм. Конечно, это область предположений, так как большие и при этом законченные словотворческие тексты Хлебникова не сохранились. “Симфонические” замыслы представлены неоформленными в целое разработками корня ‘Люб’ (под ошибочным названием «Любхо», опубликованным Д. Бурлюком в сборнике «Дохлая луна») и короткими словотворческими стихотворениями, к которым мы и обратимся в поисках определения “симфонии”. Это — первоначальный текст «Симфонии Любь» и «Заклятие смехом».
Исследуя генетические связи «Заклятия», Р.В. Дуганов устанавливает принципиально важное сходство хлебниковских однокоренных композиций с фрагментом древнеегипетского текста о сотворении мира:
В число однокоренных слов входит и имя божества, происходящее от глагола ‘хепер’ — существовать.19![]()
И мир, и стихотворение вырастают из одного корня наподобие древа. Как в рассказе Хепри, так и в “симфониях” Хлебникова, определяющее значение имеет процесс создания текста, символизирующий процесс создания мира. При этом у Хлебникова и текст, и принцип его порождения получают музыкальное имя: “симфония”. “Мировые”, универсальные значения однокоренных “симфоний” подтверждаются и составом корней, на которых сосредоточена словотворческая энергия Хлебникова.
Словообразование от БЫ — своего рода книга бытия и, кроме того, самый близкий аналог древнеегипетского текста о воссуществовавших существованиях. ЯРЬ указывает на Ярило — славянского бога плодородия, от которого „ярится земля и все живое”. ЯРЬ и ЛЮБЬ близки по смыслу: „Любитеся и множитеся”. В то же время ЛЮБЬ размыкает круг земных значений, напоминая про „Любовь, что движет солнца и светила”. В значениях ЯРЬ и ЛЮБЬ актуализуются важнейшие процессы БЫ (бытия).
Смеховая сфера корня СМЕЙ заставляет вспомнить о ритуальном смехе: в поэме «Поэт» смех назван жрецом проделок, в «Зангези» говорится про древний смех. “Древний”, ритуальный смех звучит при сжигании чучела Костромы, во время Масленицы — в обрядах, символизирующих плодородие. Тем самым СМЕЙ оказывается в родстве с “симфоническими” корнями БЫ, ЯРЬ, ЛЮБЬ. Наконец, разработки от РЕКУ подключают к числу основополагающих понятий РЕЧЬ, то есть СЛОВО. Так замыкается ряд. Еще древние египтяне считали, что мир сотворен по “творческому слову”: “Многие существа вышли из уст моих”, — говорит бог Хепри. Спустя тысячелетия это представление возродилось к новой жизни:
Хлебниковскую концепцию миропонимания можно считать одним из претворений вечной идеи: самовитое слово наделено невиданной творческой энергией, слово — и источник, и объект действия, и мир, в котором это действие происходит.
Если задаться вопросами о том, каким образом можно воплотить в художественном материале идею возникновения всего из единого, этот структурный архетип, существующий от века; как воссоздать в художественной форме непрерывность процесса становления, — приход к музыке, по-видимому, неизбежен, причем именно к музыке, обладающей качеством “симфонизма”, то есть непрерывностью музыкального сознания, в силу которой ни один элемент не мыслится и не воспринимается как независимый, среди множества остальных, и происходит „постоянное наслоение качественного элемента инакости”.
В однокоренных текстах Хлебникова симфоническая идея представлена в чистом виде. Развитие, основанное на единственном первоначальном элементе, — своего рода эталон симфоничности: вспомним 1-ю часть 5-й симфонии Бетховена, практически целиком построенную на так называемом мотиве судьбы.
Как известно, формообразование симфонического рода подразумевает высокую степень организованности художественного целого: так “напоминает о себе” изначальный смысл слова — симфония как гармония.
И эти “требования” к музыкальной форме оказываются полностью выполненными в законченных “симфонических” текстах Хлебникова.
В стихотворениях «Я любоч, любимый любаной...» и «Заклятии смехом» действует принцип симметричной организации — тот же, что определяет идею палиндрома в стихотворении «Перевертень», в поэме «Разин», а кроме того, в “романсе” — единственном музыкальном опыте Хлебникова.21![]()
Анализ стихотворений осуществлен по метротектоническому методу Г.Э. Конюса, в схемах которого размеренно построенные части целого (“пульсовые волны”), подчиненные закону равновесия временных величин, записываются в виде отрезков нотного текста или числовых рядов. Элементами симметрии становятся не только монолитные построения, но и суммы мелких единиц, собственная протяженность которых может не подчиняться отношениям симметрии. Ритм начальных построений задает метротектоническую конструкцию целого, поэтому, в частности, монолитным единицам “левой” части симметрии могут соответствовать суммы дробных единиц “справа”.22![]()
Предваряя раздельное описание двух “симфонических” текстов, заметим, что в стихотворении «Я любоч, любимый любаной...» симметрии, то есть определенной системе повторов, “сопротивляется” принцип неповторности ритмических рисунков и акцентных схем. В «Заклятии смехом», напротив, основные приемы формообразования подчеркивают симметричную структуру целого. Следуя музыкальным аналогиям, можно сказать, что в первом случае ориентиром является неклассическая, а во втором — классическая концепция ритмики.
Стихотворение «Я любоч...» напоминает фрагмент из «Весны священной» Стравинского: однородность и вместе с тем невероятное разнообразие элементов, сочетание стихийной импровизационности и скрытой за ней ясной логики формообразования. У Хлебникова, как и у Стравинского, тон всему звучанию задается игрой акцентов: в стихотворении это соперничество ударной и безударной позиций корня люб-. Условия игры — (а) расположение всех ударных позиций корня в начале стиха без чередования с безударными, (b) неравное число тех и других в пределах стиха. В каждом из восьми стихов — свое соотношение акцентов, при этом четвертый и восьмой выделены нарушениями правил — уравниванием ударных и безударных позиций корня (2+2) и смещением акцента в середину стиха (1+1+1):
Если же вслушаться в сочетание сильных и слабых долей в начале и в конце каждого стиха, выделенными оказываются третий, четвертый и пятый стихи (с тем же четвертым посередине). Каждый из них начинается ударным люб- и замыкается ударным лю-: автор словно раскрывает симметричное строение ключевого слова, которым заканчивается половина строк стихотворения. Симметрия центральной группы строк подчеркнута и повторами слов:
Вокруг центрального построения располагаются группы из семи слов: 3+4 в начале и, соответственно, 4 (2+2)+3 в конце (напомню про метротектоническое равенство “сплошных” и сложенных построений по Конюсу). Кроме того, каждая “семерка”, в отличие от центральной группы стихов, состоит из неповторяющихся слов: шесть неологизмов плюс слово общеупотребительного языка в роли “каденции”: ‘любви’ и ‘люблю’. В том же порядке и в тех же грамматических формах, что и на границах построений, эти слова соединены в пределах пятого стиха — в обычной для музыкальных кульминаций третьей четверти формы.
Подобие крайних частей подтверждено и соотношением приставок. Они отсутствуют в трех центральных стихах. Напротив, в “четверках” крайних частей настойчиво повторяется приставка за-:
различимая даже в огне словообразования, внезапно перекинувшемся на приставки в заключительной “семерке” слов (там возникает азартная комбинаторная игра: по-, за-, при+по-, по+за-).
Каждое из однокоренных слов представляет собой эквивалент мотива — музыкально-синтаксической единицы, обладающей одной акцентной долей. В отличие от «Заклятия», в котором хореическая основа задает почти скандированный ритм, утверждающий равенство слогов по протяженности (это подтверждает и чтение Р. Якобсона, воспроизводящее хлебниковскую интонацию), здесь иная картина. “Сплошной” метр (а вместе с ним и равнодлительность слогов) выдерживается только в двух начальных стихах, а дальше — отчетливо различимы паузы в местах с “недостающими” слогами (Любязей любких, люблых любилой люблю) и особенно — ускорения там, где скапливаются безакцентные слоги. По Белому, увеличение числа безударных слогов между акцентами приводит к уменьшению их длительности. Неударный слог, „принятый, например, за 1/4, дробится: вместо него — два неударных, равных 1/8 ‹...› и т.д., наращение лишних слогов ведет к ускорению ‹...›; чем дальше неударный от последнего ударения, тем более он переходит в трель” (дробями у Белого обозначены музыкальные длительности: ![]() и
и ![]() 23
23![]()
Симметрия несколько нарушается на более дробном уровне, так как пяти единицам слева от центра соответствуют четыре справа.
«Заклятие смехом» во многом отличается от стихотворения «Я любоч...», прежде всего — почти исключительной парностью элементов. Воспользовавшись хлебниковской терминологией, можно сказать, что в стихотворении преобладают двойки. Вся вещь строится на игре измененных и точных повторов.
Парная повторность единиц нетипична для стихосложения. В то же время это — одно из ведущих правил классического музыкального синтаксиса. Так, “нормативный” период состоит из двух предложений повторного строения. Идеальная структура периода выражается пропорцией 1:2:4:8. На игре нарушений и восстановлений правил четности и парности строится музыкальное развитие.
В «Заклятии» парная повторность всюду: по два однокоренных слова в стихе и в полустишьи, удвоены акцентные схемы, отдельные слова, целые стихи, однокоренные слова появляются “двойками” и “четверками”. При нарушении правила четности возникают “тройки”. Это происходит в четвертом стихе, хотя кажется, что “двойки” и здесь продолжают следовать одна за другой. После
ожидается начало очередной пары однокоренных слов, тем более, что звуковой состав следующего, пятого, стиха сопротивляется обновлению грамматической конструкции. Слышится повтор, как бы присоединяющий начало пятого стиха к четвертому и подтверждающий правило парности:
В результате усиливается “разлом” в середине пятого, а затем и шестого стиха — цезуры перед двумя “тройками” «Заклятия». Именно в “тройках” акцентные позиции корня впервые следуют подряд (смех усмейных, смех надсмейных). Так подчеркивается и обособляется родовое понятие “симфонии Смей”.
Слово ‘смех’ находится посередине пятого и шестого стихов, которые, в свою очередь, образуют центральную часть стихотворения. Двукратное “смех” становится, таким образом, крестовиной композиции.
Вот общая картина симметрии.
Сравним подобные элементы симметрии, продвигаясь от краев к центру.
“Четверки” начала и конца идентичны. Стихи между краями и центром связаны обратным подобием: в третьем и четвертом стихах преобладают безударные позиции корня (четыре из шести), а в симметричном двустишьи — шесть акцентов подряд. Кроме того, в третьем и четвертом стихах отсутствуют тавтологические повторы, а с седьмого по девятый — сплошь попарные перечислительные “выкрики”, роднящие «Заклятие» с стихотворением «Я любоч...» (Полюбить, залюбить, / Приполюбливать! Позалюбливать!). Сходство еще и в том, что в обоих случаях в каждой паре “выкриков” меняется метр: именно в 7–9 стихах «Заклятия» звучат плясовые ритмы «Весны священной».
В центральном двустишьи игра близких созвучий слева и справа выделяет слово ‘смех’.
При подсчете однокоренных слов заметно отклонение от строгой симметрии. Однако в ритмическом строении «Заклятия смехом» значительную роль играют и начальные восклицания, подчеркнутые хореическими акцентами. (В чтении Якобсона начальные о! акцентированы.) В отличие от стихотворения «Я любоч...» здесь картина ритмических пропорций уточняется по мере уменьшения счетной единицы. Самую точную симметрию выявляет подсчет слогов:
Столь законченная форма, приданная “самовозрастающему” (в принципе — бесконечному) тексту, может быть интерпретирована как своего рода определение или формула симфонии: развитие, целиком построенное на первоначальном элементе, сочетается с идеально симметричной, сложноорганизованной формой.
Именно в качестве формулы симфоническая идея обнаруживает свою связь с универсумом. В этом нетрудно убедиться на примере определения в обычном смысле. Еще раз обратимся к Асафьеву.
Единство различного и „инакость ранее бывшего”, текучесть музыкальной стихии, изменчивость звукового потока, взаимосвязанность элементов целого... При исключении музыкальных „опознавательных сигналов” асафьевское описание симфонизма кажется пересказом идей древнего философа:
Осмысление симфонии — высшего жанра “чистой” музыки, симфонизма — “высшего” свойства симфонии — неизбежно влечет за собой выход за пределы собственно музыкальных характеристик. С древних пор музыка и даже отдельные ее элементы воспринимались как нечто божественное, космическое. Обращение к сфере “мировых” значений естественно и при исследовании феномена музыки: так, в трактате А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики» сущность музыки представлена как жизнь чисел.
Хлебниковское “определение” симфонии в слове следует той же логике.
Его законченным словотворческим текстам присущи: музыкальное понимание формы, единство звукового материала, непрерывность развития. В то же время перед нами — совершенная симметрия, единство изменяемого и неизменного, процесс порождения целого из единого и вызванное им “естественное переоформление вещей”, как таковые.
В новых приемах хлебниковского поэтического письма воплотились не только музыкальные, но и стоящие за ними универсальные принципы структурирования. Для того чтобы “вернуть” их в слово в начале XX века, было необходимо обратиться за посредничеством к музыке, к одному из ее высших достижений — симфонии.
Несколько хлебниковских строк, в которых упомянуто имя Моцарта, — самостоятельные грани единого образа.
В двух ранних вещах — стихотворениях «Смерть в озере» и «Усадьба ночью...» (1915) — Хлебников откликается на знаменитые мотивы моцартовского мифа. Первый из них — “Реквием как вестник смерти”.
В самом названии католической службы, конечно, нет и не может быть ничего рокового. Однако история создания моцартовского Реквиема, последовавшая вскоре смерть композитора (который думал, что пишет Реквием для себя), и слухи об отравлении превратили со временем незаконченный Reqiuem KV 622 в трагический символ моцартовского творчества. Значение “моцартовских” строк из «Смерти в озере» раскрывается полнее при сопоставлении с фрагментом другого стихотворения из того же сборника «Четыре птицы» (там и «Усадьба ночью...»). В обоих случаях ключевые для нас слова появляются в заключительных строфах:
Слово ‘смерть’ в названии стихотворения и ‘Моцарт’ в одной из строк, а далее — анафора: И Моцарта ‹...› — И мертвые ‹...› устанавливает соотношение: Моцарт — смерть, где Реквием — “сам-третий”. И ‘Моцарт’ в первом стихотворении, и ‘Реквием’ во втором обозначают “Реквием Моцарта”, сходятся в метонимии “Моцарт-Реквием”, смысл которой сродни “виденью гробовому”, явлению Командора у самого Моцарта и Пушкина.
В стихотворении «Усадьба ночью...» присутствует миф о “небесном” Моцарте. «Усадьба...» — одно из хлебниковских “заклятий именем”.25![]()
В акте именования снимается оппозиция природы и культуры: усадьба ночью, сосны вокруг и грозно движущиеся тучи оказываются воплощениями Чингисхана, Мамая, Батыя, сумеречные видения — творениями Ропса, Гойи. Заратустрой становится ночная заря (зар — общий слог). А Моцарт — именем высокого синего умного неба, неба мудрости, Софии. Хлебников обращается к важнейшим идеям русской философии конца XIX – начала XX века, но придает им новый смысл, “переводя” на язык чисел. Микрокосм этого стихотворения „подобно античному космосу устроен числом и явлен в своем имени”.26![]()
Самый протяженный из “моцартовских” фрагментов входит в состав поэмы «Что делать вам...». Он поражает “полифонией” различных смыслов:
На поверхности — лишь связь с „маленькой трагедией” Пушкина, которая подтверждается не только сочетанием имен Моцарта и Сальери, мотивом отравленного кубка, но и скрытыми цитатами из Державина и Пушкина: столкновение цитат помогает распознать каждую из них. Поэт говорит о себе, что он — и нищий, и царь, и — Моцарт. Рядом с этим перечислением — слово ‘червяк’. Конечно же, здесь спрятано державинское „Я царь — я раб, Я червь — я бог”, ведь, как сказано пушкинским Сальери, Моцарт — бог („Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь”). В стихотворении «Не чертиком масляничным» (как и поэма, написанном в 1922 году) скрыт еще один отклик на слова Сальери. Хлебников как бы отвечает на вопрос о Моцарте, а стало быть, о себе самом, пившем жизнь из кубка Моцарта:
В приведенном отрывке поэмы рядом с Моцартом — леший, за пределами отрывка — Вила и Мава. Леший — воплощение мифопоэтического Я в этом произведении — устал быть в пальцах смерти тесто, / Занял место / Председателя земного шара. Он вырос в Россию, дав ответ на вопрос: Возможно ли так встать между источником света и народом, чтобы тень от Я совпадала с границами народа? («Сон», 1915). Этот леший постиг законы времени, ведь жезл песни не что иное, как ряд чисел, управляющий законов пением. Если вспомнить о другом образе, раскрывающем музыкальность, то есть высшую организованность мира, подчиненного законам времени, — о синем небе Моцарта, становится понятной логика чередования строк, в которых говорится то о лешем, то о поэте с душою Моцарта: это — переименования некой единой мифопоэтической сущности. Перечитаем отрывок: герой (леший-Я-Моцарт) был то унижен, то велик, но вот он вырос в Россию, стал Председателем земного шара. В новом сане любо забыться, однако герой одинок и опасности подстерегают его.
Два других, кроме лешего, славянских персонажа — Мава и Вила — объединены в хлебниковской поэтике во взаимоотрицающую пару. Мава, или Мавка, — злой дух восточнославянского фольклора, она связана с миром мертвых. Это существо без спины, поэтому видны все внутренности Мавы.27![]()
![]()
Вила, женский дух южнославянской мифологии, очаровательная девушка с распущенными волосами и крыльями. Среди ее волшебных свойств — умение предсказывать смерть.29![]()
![]()
![]()
В таком культурологически невозможном окружении оказываются Моцарт и Сальери. Впрочем, сальериевский, точнее, пушкинский мотив разъятия („музыку я разъял как труп”) не только легко встраивается в хлебниковскую мифологему, “возглавляемую” Мавой, но и является одним из ее источников. Заметная фигура того же ряда — Ленин из поэмы «Ночь в окопе»:
(разъятие на части и сложение из частей — одна и та же величина со сменой знака).
Слова Сальери „Поверил Я алгеброй гармонию” особенно важны для Хлебникова. Обычным для понимания этого места у Пушкина является противопоставление алгебры и гармонии. Однако у Хлебникова смысл иной: для него, великого числяра и поэта, алгебра есть гармония, и гармония — алгебра, он — наследник пифагорейского понимания гармонии через число.
Связь с “алгеброй”, то есть с числом, подтверждает родство хлебниковского Сальери и Мавы (внутри которой — чистые законы времени). Подобно Маве, Сальери является носителем необходимости (Вила — свобода, Мава — ‹...›). Поэтому, как объясняет Р.В. Дуганов, фраза Сотня Сальери / И я один с душою Моцарта означает горькую, отравленную чашу жизни, которую необходимость сотни раз подает поэту. Здесь несомненно подчеркнут и усилен по сравнению с пушкинской „маленькой трагедией” мотив Чаши Евангелия: испить чашу — выполнить необходимое.
Если Сальери встраивается в ряд разъятий, смерти, необходимости, имя которому — Мава, то соответствует ли Моцарт Виле-свободе, объединяющему началу? И да, и нет.
Хлебниковский Моцарт “не умещается” в этих измерениях. Во всей мировой моцартиане трудно найти нечто подобное тому, что содержится в хлебниковском мифе: ‘Моцарта’ поют лягвы на Висле, оплакивая мертвецов первой мировой войны, ‘Реквием’ читается во взорах тьмы, сменившей свет, пока черный царь плясал перед народом. Моцарт оказывается вместе с Чингисханом, с лешим...
И все же объяснение возможно.
Каждому факту, имени, легендарному или мифологическому сюжету соответствуют определенные функции в неком едином мировом мифе, и сонм всех богов в «Зангези» Хлебникова — одна из его моделей. В поэме «Что делать вам...» сонм богов невелик. К трем персонажам славянского фольклора присоединяются их античные “собратья”: Юпитер — в качестве названия планеты — и, возможно, Прометей: в “моцартовском” отрывке птицы-века, то есть вечные, прилетают к нищему-царю-богу, к тому, кто и велик, и унижен. Однако цель птиц — не мучить, а заботиться о том, к кому они прилетают (характерная для Хлебникова “смена знака”; ср.: Я — Разин напротив, / Я — Разин навыворот). Прометей, которого Хлебников в «Детях Выдры» именует собратом, “собрат” и Моцарту: и он, „как некий херувим”, приносит в дар людям то, что предназначено небожителям.
В едином мировом мифе античный “код” обнаруживает себя не только в прямых упоминаниях имен или сюжетных мотивов. Для культурного сознания нового времени это — своего рода мифопоэтическое “эсперанто”. Не исключение и русская поэзия начала XX века, и творчество Хлебникова: естественность “перевода” уже известных черт моцартовского образа на “язык” античной мифологии — тому доказательство.
Синева умных небес, где царит Моцарт, — сфера Аполлона, бога строя и меры, порядка и гармонии. По Вяч. Иванову (одному из учителей молодого Хлебникова), музыка аполлоновой лиры — „связующая”, а дионисовой флейты — „разымчивая”.32![]()
Противоположность Вилы и Мавы снимается через связь их с законами времени, подобно тому, как противоположность Аполлона и Диониса снимается в Орфее: „Орфей противопоставляет царю Дионису аполлоническую монаду, отвращающую его от нисхождения в титаническую множественность и от ухода с трона и берегущую его чистым и непорочным в единстве”.36![]()
Орфей — мифологический код общности Моцарта и Хлебникова.
Орфей считал величайшим богом Гелиоса, называл его Аполлоном, играл на лире — инструменте солнечного бога, но при этом спускался в Аид (как мы помним, „Дионис тождествен Аиду”) и был растерзан вакханками, как Дионис-Загрей титанами. Сочетание солнечного света и мрака — важнейшее свойство музыки Моцарта. В различных концепциях моцартовского творчества подчеркивалась то одна, то другая сторона. Исследователи именовали его Гелиосом, Аполлоном; немало сказано и о демонизме, оргиастичности, стихийности моцартовской музыки, иными словами, о проявленности в ней дионисийского начала.
В хлебниковском творчестве все представления о порядке и гармонии, строе и мере охватываются концепцией законов времени. Музыкальные инструменты, игра которых приводит в действие эти законы, — струнные, как лира Аполлона. Есть и подобие разымчивой дионисовой флейты,37![]()
Моцарт — небожитель, херувим, которому открыт мрак гробовых видений. И Хлебников говорит о себе: Я соя небес!; Я из братского гроба — как бы вторя орфическим авторам:
Орфическое начало определяет во многом и характер творчества обоих художников.
Для музыки Моцарта, как и для поэзии Хлебникова, определяющим является сочетание множественного, дробного (дионисийского) и целостного, единого (аполлонического). Моцарт мыслил мельчайшими единицами музыкальной материи, осознавая их как значимые, самостоятельные элементы целого.39![]()
![]()
“Разделенность” подчинена “единовидности”.41![]()
Множественную, многоэлементную организацию моцартовского произведения выявляет аналитическое “разъятие”. По первому впечатлению, Моцарт един, прозрачен, прост. Хлебников, напротив, множествен, темен, сложен. Однако углубляясь в музыку Моцарта, в поэзию Хлебникова, мы начинаем движение во встречном направлении. Моцарт оказывается сложным, множественным, загадочным. Хлебников — все более ясным, единым, классичным.
В контексте сказанного хлебниковская формула Я жизнь пью из кубка Моцарта раскрывает свою многозначность. В ней — не только пророчество близкой смерти поэта (прожившего на несколько месяцев больше, чем Моцарт). Моцарт оказывается “собратом” поэта-будетлянина. Вместе с поэзией Хлебникова его музыка оплакивает всех, кто попал в соломорезку войны. Вместе с поэтом-числяром Моцарт царит в синеве умных небес (заметим, кстати, что другой музыкальный “двойник” Хлебникова — Скрябин — оказывается носителем земного начала: Скрябин — земной шар).
Обращение к древнему мифу позволяет увидеть внутреннее родство — уже не образов Моцарта и Хлебникова, а их произведений. Два гения, разделенных временем и пространством, оказываются “собратьями” и в творчестве. Кубок Хлебникова наполнен тем же “медом поэзии”, что и кубок Моцарта.
| Персональная страница Ларисы Львовны Гервер | ||
| карта сайта | 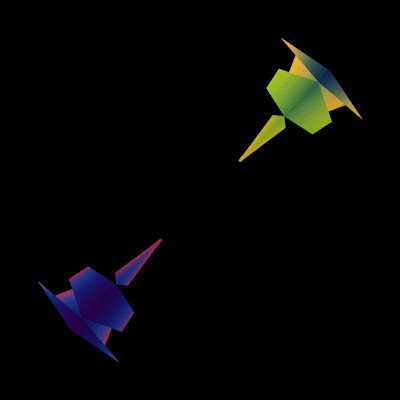 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||