

Некий отголосок этого сочетания противоположных пластов “родовой” идеологии различим в совокупном тексте хлебниковского творчества.
Связь с мировоззрением отца вполне отчетлива. Достаточно вспомнить о естественнонаучных интересах поэта и о влияния на него историософии Толстого, которая, по словам Е.Р. Арензона, послужила „непосредственной моделью для разработок Хлебниковым “законов времени”.3![]()
Значительно сложнее найти такие мотивы творчества или факты биографии, в связи с которыми было бы естественно вспомнить про деда-паломника, и которые могли бы служить несомненным подтверждением хлебниковского credo.
Читатель, взявший на себя такой труд, может усомниться в состоятельности своих намерений, ибо найдет, в первую очередь, не подтверждения, а опровержения. Такие, как фольклорная — языческая — стихия ранних сочинений; идея замены веры — мерой; образ единой книги, которая возникает в результате самосожжения главных книг четырех мировых религий; многочисленные упоминания имени Божиего не только всуе, но и совершенно невозможным образом (как в наброске «Открытого письма к Богу»4![]()
![]()
В какой мере серьезным было отношение к вопросу о вероисповедании у 28-летнего поэта, вписавшего в строки анкеты слово православный? Что это значило для Хлебникова, и как ответил бы он на тот же вопрос через 8 лет, в год смерти?
Прямых ответов на эти вопросы, конечно, нет. Однако возможность составить представление о том, чем было для Хлебникова православие, все же существует, т.к. в его сочинениях и записях содержатся во множестве отсылки к православному тексту.
Речь идет о фрагментах хлебниковских сочинений, как правило очень кратких, которые содержат вкрапления церковно-славянского языка; упоминания о церковных праздниках и церковных таинствах; отсылки к Отче наш и Символу веры — молитвам, которые человек, родившийся в конце XIX столетия, не мог не знать наизусть; отсылки к отдельным строкам некоторых книг Библии (Пятикнижия Моисея, Псалтири, Пророков, Евангелия, Посланий апостолов, Откровения) и некоторых богослужебных текстов.
Cостав и характер присутствия элементов православного текста у Хлебникова позволяет предположить, что для него православие — в отличие от других, весьма многочисленных областей цитирования или отсылок, — не было предметом специального изучения: он воспроизводил по памяти запомнившиеся с детства строки, обращался к тому, что было “на виду и на слуху”. Тем самым, речь идет о присутствии именно православного, а не расширительно понимаемого христианского текста.
Степень близости к первоисточнику в хлебниковских отсылках очень различна. Подчеркнем: речь идет о текстологическом сходстве, которое далеко не всегда оказывается сходством по существу. Правилом для Хлебникова было переосмысление — подчас радикальное.
Приведем несколько образцов, и начнем с редкого случая: слова, указывающие на канонический текст, выписаны (а не стилизованы или даны по памяти). И все же следующая цитата не составляет исключения, т.к. ее источник — отнюдь не богословского свойства:
Это попавший в книгу по демонологии6![]()
Даже когда перед нами явные цитаты, не всегда можно с уверенностью утверждать, что Хлебников подразумевает именно первоисточник. Так, слова апостола Павла „Мне отмщение, Аз воздам” (Римл 12: 19), которые приведены в «Детях Выдры» и в «Отрывке из Досок Судьбы» (SS, III: 475, 476), — цитата скорее из Толстого, нежели из Послания к римлянам. И не только из-за одинаковой неточности — в эпиграфе к роману «Анна Каренина» и в обоих случаях у Хлебникова „Мне отмщение, и Аз воздам”. Как Толстой, так и Хлебников подразумевают скорее ветхозаветный смысл слов, на которые ссылается апостол („В день отмщения воздам” или, в русском переводе, „У Меня отмщение и воздаяние” — Втор 32: 35), но не слова самого апостола, призывающего не воздавать злом за зло и предоставить воздаяние Господу. В «Путешествии на пароходе» («Разговор и крушение во льдах» из 5-го паруса «Детей Выдры») фраза из Послания к римлянам передает предчувствие катастрофы как гнева Божия (смысл последующего двустишья сродни поговорке „Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”):
В других случаях близкое, почти идентичное повторение характерного оборота уживается с многоступенчатым переосмыслением первоисточника. В следующем фрагменте рассказа «Железное перо на ветке вербы» (Утес: 144) словосочетание „сырная гора” вызывает в памяти „гору усыренную, гору тучную” — образ плодородной горы, „юже благоволи Бог жити в ней” (Пс 67). Между тем в рассказе речь идет о пасхе — традиционном блюде Пасхальной трапезы, которое, волею Хлебникова и художника П. Митурича, превращено в нечто невообразимое для православного миропонимания — в пасху 4-х измерений:
Гораздо более неопределен адрес источника в тех случаях, когда свободно воспроизводится мотив Св. Писания, ставший общеупотребительным поэтическим тропом.
Строки «Ладомира», в которых восторг перед величием творения выражен через песнословия самого творения, вызывают в памяти и классические образцы русской поэзии, и обороты псалмопения, которыми эта поэзия вдохновлялась. Однако Хлебников воспринимает, так сказать, средство, уклоняясь от цели: воспеваемый им мир — не творение Создателя, послушное Ему всем, но некая самоосуществившаяся гармония, мировой лад.
Сравним:
Сравним:
Сопоставляя интересующие нас мотивы разных сочинений, можно заметить, что мировосприятие Хлебникова изменялось — скорее резко, нежели постепенно. В то же время присущая ему многомерность мировосприятия обусловливала “нераздельность и несовместность” взаимоисключающих ответов на одни и те же вопросы, в том числе и на вопрос о вероисповедании.
Попытаемся реконструировать некое подобие духовной биографии поэта, для чего выстроим интересующие нас мотивы последовательно, начиная с ранних, “дословотворческих”, сочинений.
Креститься [перед началом обеда — Л.Г.] или нет? Оскорблю я религиозное чувство или нет?, — так, остановившись в неловком положении человека, вставшего, чтобы сесть, но еще не севшего, думал Еня Воейков, герой оставшейся в набросках повести Хлебникова. 19-летний автор9![]()
![]()
В рассказе «Была уже ночь...» (того же 1904 года), написанном уже от первого лица, противоположность духовных движений выражена через намеренно неопределенную и в то же время очень красноречивую оппозицию чего-то одного — порыва броситься наземь, целовать ее, целовать бесконечно ‹...›, броситься перед этим объемом, синим и чистым — и чего-то другого, что
Такое же “что-то” насмешничает, смущая героя, и в других рассказах 1904–1905 гг. Это и доносящийся из-за закрытых дверей голос, который ‹...› насмешливо-ровно говорил в тот миг, что в жизни нет ничего, ради чего можно было бы жить ‹...›, и два мака, красные-черно, запекшейся крови, на ножках узорных, на поле мерцающем синем:
В рассказе «Была уже ночь...» герой не подчиняется наваждению, и злой дух оставляет его:
Языковые открытия словотворческого периода несли в себе, по выражению Б. Лившица, „дыхание довременнóго слова”. Во многом “довременными” были и источники формировавшейся поэтики Хлебникова, который активно изучал и воплощал в своих сочинениях мифологический, фольклорный, этнографический материал. Стремительное “расширение пределов” словесности и образности было тесно связано с языческим — и материалом, и мироощущением. К примеру, в пьесе «Снежимочка» (1908) происходит шутливая реставрация язычества. Сцена, украшенная стягами с надписями Славийская весна, Веничие и величие славян, Дедославль, Веселые детинушки, изображает праздник Очищения. Руководитель празднества обращается с помоста к молодежи: Клянемся ли мы носить только славянские одежды? ‹...› не употреблять иностранных слов? ‹...› утвердить и прославить русский обычай? ‹...› вернуть старым славянским богам их вотчины — верующие души славян?. Вcе отвечают: Клянемся! (Тв: 389)
Одним из центральных мотивов “языческой” линии творчества Хлебникова является сонм богов — своего рода международный конгресс, в котором принимают участие божества самых разных мифологий. Обычно это шуточные сценки: в пьесе «Боги» Юнона напилком скоблит белоснежные каменные ноги, а Венера ставит на своих белокаменных плечах свежую заплатку. Однако в недавно опубликованном стихотворении 1908 года (1: 150) модальность совсем иная. Здесь грезы об иных мирах и иных богах отдаляют человека от горестей окружающей жизни:
В более поздних вещах оковы сброшены и страх преодолен — приведем для сравнения строфу из стихотворения «Свобода»: Двинемся в путь очарованный, / Гулким внимая шагам. / Если же боги закованы, / Волю дадим и богам! (1918, 1922; 2: 39).
В сочинениях и записях 1907–1908 гг. многое может насторожить читателя, решившего найти в текстах поэта подтверждение его credo. И все же мы вправе предположить, что в это время Хлебников не воспринимал стихию “слово- и мифотворчества” (В.П. Григорьев) как имеющую отношение к вероисповеданию. Именно в словотворческом корпусе сочинений находится полюс отчетливости проявления религиозного чувства. Мы имеем ввиду два стихотворения. Первое из них — «Богу» (1907; 1: 44):
Название вещи, ритм и риторическая насыщеннсть стиха, вызывают в памяти оду «Бог» Державина, но этим аналогии не исчерпываются. Тварь (перечень которой составляет самостоятельный “стишок”: заря, моря, дитя и я) хвалит Творца, перемешивая новые слова со старыми и вторя древним песнопениям: по-прежнему моря яростно шумят, но и устыжаются, подчиняясь воле Божией, и младенческий плач служит хвалой Его.
Сравним:
| Моря яротствуют стыдливо. | Возшумеша и смятошася воды их (Пс 45: 4). |
| Дитя лепотствует стеня. | Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу (Пс 8: 3). |
Облик песнословца вызывает славянские аналогии (ср.: “буй-тур”, “яр тур”), а в его восклицаниях узнается свободно переосмысленная лексика литургических провозглашений — сначала „Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся” (ср. у Хлебникова повторение слов „твоя” и „все”), а затем „Един Свят, Един Господь...” (ср. у Хлебникова: Один ты наш, один ты наш!).
Второе стихотворение — опубликованный Н.Н. Перцовой набросок из тетради 1908 года под названием «Загадка»,11![]()
В стихотворении «Загадка» образ воцаряющейся неподвижности передается даже в структуре стиха — через отсутствие глаголов, обилие многосложных слов с неизменной приставкой о- и неизменным ударением на е. Призывы к Богу, которые вторгаются в эти монотонные строки (и во всем им противопоставлены по форме), — совсем иные, чем в пьесе. Это открытое, беспримесное и ничем не отягченное моление — едва ли не единственное у Хлебникова.
Следующее сочинение, к которому мы обращаемся, — рассказ 1911 года «Белой земли люди идут...» (Утес: 66). Написанный в подражание библейским пророчествам, рассказ непосредственно предшествует по времени создания статьям «Учитель и ученик» и «Разговор двух особ» (1912 г.), в которых та же потребность поэта “видеть сразу”, “что было и что будет” находит совершенно иное, собственно хлебниковское выражение. Здесь же отчетливо различима канва заимствований. Небольшой, в одну страничку, рассказ насыщен мотивами, общими для разных книг Библии (как общими для разных времен и народов были те бедствия, о которых там говорится), поэтому нет смысла настаивать на наличии некоего единственного или даже главного источника.
Сравним:
| Белой земли идут люди, ‹...› поводят белками, скрежещут зубами, трясут волосами. ‹...› Они идут сюда, как посланники божии. Они оставляют на пути своем плач, кровь, пепел городов, стен. ‹...› Хлынули они с конца вселенной, соединили судом войны края ее. Отряды рассыпаются по равнине, рыщут, пронзают копьем любовников и предают суду пороки, разврат и пламени города и роскошь. | Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами (Плач 2: 16). Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень ‹...›: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь (Иоил 2: 1–3). |
| Сыны и Дщери, спешите! Старцы, радуйтесь: приходит благословенная смерть. ‹...› | Девы мои и юноши мои пошли в плен. ‹...› Священники мои и старцы мои издыхают в городе (Плач 1: 18, 19). |
| Завтра главы родов с вложенными в зубы уздами и с завязанными за плечами руками побегут за седоками. | Князи ее [дщери Сиона — Л.Г.] ‹...› как олени, не находящие пажити; обессиленные они пошли вперед погонщика (Плач 1: 6) |
Так же отчетливы и новозаветные мотивы, особенно призыв к покаянию:
| Кайтесь, кайтесь! ‹...› Спешите! завтра поздно! | Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 4:17) |
Заглянув в грозное завтра (когда все, кто смеялся и не верил грозным пророчествам, уже лежат мертвыми в пыли разрушенных городов), хлебниковский пророк возвещает: Поздно изменяться, поздно каяться. Это соответствует представлению о покаянии как изменении — понятиях, сходящихся в греческом μετανονια, переводами которого и являются два названных слова.
Воображаемый пророк, от имени которого написан рассказ, призывает к покаянию. Для него несомненно, что Господь смиряет народ, насылая всяческие беды „за множество беззаконий его” (Плач 1: 5). Но поэт Хлебников, который обладал способностями предвидеть грядущие события, и который, будучи наделен подлинной любовью к ближнему и даром сочувствия, безмерно сострадал и жертвам 1905 года, и солдатам, гибнущим на полях сражений Первой мировой войны, и умирающим от голода крестьянам, и всем угнетенным, невинно замученным, — взбунтовался и стал обвинять Бога во всех бедах. Как и прежде, поэт испытывает потребность выразить “нераздельность и несовместность” различных сторон происходяшего, и все же богоборческая стихия становится одной из доминант творчества в последние годы его жизни.
Вот одно из ярких свидетельств происшедших перемен. Сравним два стихотворных фрагмента, в которых говорится о военных знаменах с изображением Спаса Нерукотворного. Первый — из стихотворения, написанного по картине В.И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» в 1908 г. (1: 164):12![]()
Второй — из «Берега невольников» (1916, 1921; 3: 331, 333):
Слово ‘мясо’ вскоре сменяет ‘жратва’ (однокоренное словам ‘жертва’, ‘жрети’, ‘пожирати’, т.е. приносить в жертву): Жрали и жрали нас, ‹...› Мы / Были жратвой чугуна. Как альтернатива ‘жратве’, посредством замены заглавной буквы, возникает cлово ‘братва’: оно, ‹...› цепи снимая / Работорговли, / Полетело, как колокол, / Воробьем с зажженным хвостом / В гнилые соломенные кровли. Это слово ‹...› из полы в полу, точно священный огонь, / На заре / Из уст передавалось / В уста, другой веры завет.
Другой веры завет несет свободу от цепей рабства (оков из стихотворения «Грёзоль о тайных мирах...») — какого же? Без сомнения, речь идет и о рабском существовании солдат, и о рабском труде рабочих. Но не только. В «Ладомире» сказано: ‹...› сам Бог на цепь похож (3: 234), а в стихотворении 1922 года «В столицах, где Волга воль...», опубликованном недавно (2: 359–361), слова Мы не рабы! звучат взамен формулы “раб Божий”:13![]()
В богоборческих сочинениях оборот, который мог бы показаться заимствованием из псалма:
| Холмы и поля молились богу. (SS, III: 534) | Вся земля да поклонится Тебе (Пс 65: 4) |
служат лишь “разбегом” для очередного выпада: Он же обрушивался ревом: в ногу!. В одном из стихотворений говорится: Народ отчаялся, заплакала душа — таким было ощущение многих, и, несомненно, самого Хлебникова. И он сам, вместе с персонажами своих революционных поэм, уверился в том, что только богатым и господам хорошо, только им помогает Бог и Господь — даже словесный состав на это указывает: Не даром приделай — атый / Из бога выйдет богатый. / В один гроб закопать их лопатой! (III: 249). — А где бог бедных? Кто ‹...› / Друг бедноты на небеси? (III: 276). Нет более веры ни словам пророка: „Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголет Господь, положуся во спасение, не обинюся о нем” (Пс 11), ни переданным в Евангелии словам Спасителя: Не собирайте себе сокровищ на земле (Матф 6: 19).
Все переменилось. Теперь, как представляется отчаявшемуся поэту, “свято” лишь то, что не дает умереть от холода и голода. “Cпасом” он называет дымящиеся навозные кучи Горячего поля, городской свалки Петербурга, где согревались бездомные в трескучий мороз (III: 235), храмом — буханки серого хлеба (2: 358), святой землей и спасителем — глину, которую едят точно хлеб, ‹...› от которой не умирают:
Богоборческие мотивы, часто одни и те же, настойчиво повторяются в разных сочинениях 1920–1922 годов. Именно это обстоятельство позволяет заметить, что осмысление изображаемой стихии всякий раз иное. Дело вовсе не в изменении представлений о вещах — временнáя дистанция между интересующими нас сочинениями иногда исчислялась несколькими днями. Хотя речь и идет о поэмах, можно, воспользовавшись словами Пушкина о «маленьких трагедиях», сказать, что Хлебников осуществляет “опыт драматических изучений”14![]()
В «Горячем поле» все части поэмы выражают, по сути, одно настроение: ненависть к Богу, богатству, дворцам — виновникам ужасающей нищеты тех, кто возвышает свои голоса и призывает к мести.
Большие части текста и вместе с ними основные бого- и тираноборческие мотивы «Горячего поля» Хлебников перенес в «Настоящее». Однако общая концепция «Настоящего» иная. Набросок этой поэмы содержит запись Литургия восстания — своего рода указание на жанр (ср. λειτυργια как “общее дело” в буквальном смысле греческого слова). Кроме того, есть основание полагать, что прообразом “хоровых” номеров «Настоящего» служили turbae баховских пассионов. Если же сравнить хор «На о...» («Голоса и песни улицы») с реальной последовательностью слов в одним из хоров «Страстей по Матфею» Баха, где каждый из вступающих голосов начинает заново фразу, еще не успевшую прозвучать до конца в предыдущем голосе, мы увидим, что совпадает не только прием. “Господа” и “цари” в хлебниковском хоре не могут не напоминать про Царя и Господа, распинаемого Христа:15![]()
Тот, кто убивает ближнего, распинает Господа — примерно так можно выразить смысл этой аналогии.
Сходство с баховскими turbae, вместе с авторским обозначением поэмы (или какой-то ее части) как “литургии восстания”, обусловливает совершенно иной ракурс “драматического изучения”. В отличие от «Горячего поля», в «Настоящем» с первых слов задается дистанция между пространством, в котором происходит действие, — и, конечно, между самим этим действием — и точкой зрения на происходящее: Великий Князь (персонаж, немыслимый в «Горячем поле»), стоит у подоконника окна и наблюдает за толпами, видя в их действиях проявление Божественного гнева. О том же говорится в Песне сумрака,16![]()
![]()
Жалоба к Господу на господ переходит в жестокие слова в духе пророческих мотивов из рассказа 1911 года. Однако в рассказе изображен гнев Божий, а в Песне сумрака, как и во всей поэме, — „бунт, бессмысленный и беспощадный”, попущение Божие:
В датированной тем же ноябрем 1921 года поэме «Ночной обыск» богохульство стоящего перед иконой человека изображено как действие, которое “дополнило число” беззаконий (Откр 6: 11). И здесь задается параметр возмездия — как в «Путешествии на пароходе» и в монологе Великого Князя из «Настоящего». Различие в том, что “братишка”, только что расстрелявший белогвардейца в его доме, считает себя не орудием возмездия (в этом пафос слов Великого Князя и Песни сумрака из «Настоящего»), а его “объектом”. Матрос обращается к иконе с безумными речами, зная, что воспоследует, и более того — желая, Чтоб пал огонь смертельный / Из красного угла (Тв: 328). Он ждет наказания как чуда явления Божества.
Потребность повернуть изображение, рассмотреть с разных сторон или же заменить его «отрицательным двойником» (2: 333), воспроизведением “напротив”, “навыворот”18![]()
Иногда сам предмет задает двойной угол зрения.
Таковы мотивы мясопуста и масленицы в стихотворении «Будущее» (2: 385) и поэме «Синие оковы». Оба сочинения написаны в 1922 году, и, следовательно, могут быть соотнесены с одной и той же неделей последней весны в жизни поэта, т.к. мясопуст и масленица — одно и то же. В церковном календаре указание на воскресный день гласит: “Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо”. Начиная с понедельника следует Седмица сырная (масленица) — переход к Великому Посту. Хлебников откликается на обе, по сути взаимоисключающие, возможности: воспеть в поэтическом сочинении, посвященном этим дням, праздник масляницы вечный (3: 196) или же восплакать, „помышляя день страшный”. В стихотворении «Будущее» “сырное”, “масленичное” значение не востребовано:
Строки И будет более плача, / Чем в неделю дней мясопуста могут напомнить о песнопениях Недели о Страшном Суде: „Плачу и рыдаю, егда в чувство прииму огнь вечный, тьму кромешную и тартар...”.20![]()
![]()
Полную противоположность стихотворению «Будущее» составляет описание масленичной трапезы в «Синих оковах» (3: 372–373), где блин уподоблен солнцу, а его “заглатывание” описано в духе сказочных сюжетов о солнечном затмении. Здесь не конец времени, возвещаемый в Откровении, а нарастание дней весной; радость жизни, а не плач и смерть:
Гораздо чаще двойной (или множественный) угол зрения связан с потребностью противопоставить прежнее и новое (желаемое или действительное) отношение к вероисповеданию. В «Разговоре и крушении во льдах» из «Детей Выдры» противопоставление осуществлено в форме диалога. Один из собеседников — тот, кто вспомнил слова апостола про отмщение и воздаяние, — исповедует веру в видящее око, / Чету всевидящую глаз, другой же утверждает: Идет число на смену верам / И держит кормчего труды и призывает отказаться от одной из главных христианских добродетелей: О, человек, забудь смирение! (Тв: 441, 443, 444). Подобных примеров множество и каждый из них отличен от другого. Но есть и то, что остается неизменным.
Противопоставляется что-то одно — что можно было бы с некой долей допущения отнести к области традицио-православных представлений, и что-то другое, что служит отрицанием первого, что уравнивается, смешивается с ним или замещает собою. Столь многозначные переосмысления бывают предельно лаконичны: Когда себе я надоем, / Я брошусь в солнце золотое, / Крыло шумящее одем, / Порок смешаю и святое (1913; 1: 300); Полечу я не с молитвой, / Полечу я мертвый, грозный / С окровавленною бритвой (1914; 1: 309); Мир есть естественный ряд чисел и его тень. Мера, победившая веру;![]()
![]()
![]()
![]()
В построениях такого рода далеко не всегда названо замещаемое понятие: не с молитвой, вместо богомолов. Однако механизм порождения образа очень определен. И сталкиваясь с необычным (но смутно знакомым) хлебниковским построением, мы можем задаться вопросом: “не чтó это?” “вместо чегó?”. К примеру, “вместо чегó” тройной бог смерти из стихотворения «На родине красивой смерти — Машуке...» (1921)? — по-видимому, “вместо” Троицы Животворящей.
Идея замещения смысла приобретала иногда характер взаимной перестановки. В рассказе «Малиновая шашка» (1921; Утес: 123–134) и стихотворении «Поэтические убеждения» (‹1921›; 2: 242) карательный орган советской России уподоблен всевидящему оку Господню и наоборот: суд Божий назван небесной чекой.
В рассказе цитата из 138-го псалма и несколько высвеченных ею аллюзий послужили основой для мрачной шутки времен ЧК.
Слова пророка Давида:
поэт “примерил” к силе, вызывавшей у многих мысли о пришествии Антихриста:26![]()
Слова „Несоделанное мое видесте очи Твои” легко трансформировались в намек на несовершенные (и не замышлявшиеся) преступления, которые часто стоили человеку жизни. А упоминание о нечестивых, именуемых “мужами кровей” (в русском переводе “кровожадными”):
оказалось “зарифмованным” с характеристикой главного героя рассказа — кровожадного и похваляющегося своей кровожадностью. Рассказчик не пожелал быть узнанным (Приехал П. ‹...› Я его когда-то знал — Утес: 124) и уклонился от общения с ним.
Симметричный шаг на пути нахождения аналогий между всевластием ЧК и „владычеством во всяком роде и роде (Пс 144: 13) осуществлен в стихотворении «Поэтические убеждения» (1921; 2: 241–243). Это своего рода credo, но совсем иное, нежели в анкете 1914 года. Стихотворение наполнено мотивами прежних сочинений, особенно связанных с разработками звездного языка: ключевые понятия этой вещи выражены хлебниковскими символами М (разложение целого на части, персонификацией которого является Мава) и П (прямое движение прочь от неподвижной точки, рост объема, занятого телом в трехмерном пространстве, персонификация — Перун). Объект всех этих действий — слово, которое, если воспользоваться словами известного гимна, должно быть „разрушено до основанья, а затем” расти, бесконечно расширяя свои пределы. В близком по идее стихотворении «Старые речи...» жизнь слов уподоблена жизни живых существ: старые умирают (им Завода слoва духовенство / Усталым словам пропоет “Вечную память”), молодые женятся и рождают потомство: Жените и венчайте стад слова пастухи, / Речей завода духовенство! (2: 237–238). Изложенная в «Поэтических убеждениях» “программа” разрушения “старого” и создания нового слова осознается Хлебниковым как бунт против Бога Слова — отсюда и какая-то беспокойная тяга к упоминаниям вновь и вновь слова ‘бог’ (9-кратно) и производных от него (дважды), не считая перифраз вроде книжник Млечного Пути, — в стихотворении, которое, судя по заглавию, выражает поэтические, а не религиозные убеждения автора. Упоминания эти таковы, что для нашего читателя, предпринявшего попытку увериться в православии Хлебникова, чтение этой вещи стало бы одним из самых тяжелых испытаний.
Богоборческие мотивы революционных поэм, в том числе речи вроде ‹...› Слышите раскаты грома гулкого: / Где чинят бога? / Будет на чуде ржа, / И будет народ палачем без удержа (Тв: 315), были проявлениями бунта, вызванного состраданием к горестям народа. Здесь же самые причудливые порождения хлебниковской фантазии являются своего рода вариациями на тему: “что я сделаю с богом?”:
Двустишье И кулака не боюсь / Небесной Чеки помещено в самый центр стихотворения,27![]()
Словно вышло на поверхность и вновь ушло на дно чувство, именуемое страхом Божиим, но выраженное в форме двойного отрицания: не боюсь не Бога.
Наряду с идеями поворачивания изображаемого предмета (как в богоборческих мотивах революционных поэм) или же противопоставления “чего-то одного” чему-то другому” у Хлебникова присутствует идея “единого знаменателя” и даже “равенства” — всего, что только есть на свете. Наиболее полное выражение эта идея получила в сверхповести «Сестры-молнии» (1915–1921), где, по словам Р.В. Дуганова, царит „всепорождающая и всепоглощающая энергийно-смысловая стихия”. „Все разнообразие мира как бы выходит из единого, неразличимого, абсолютного центра и возвращается в него”. Это „безумно-веселый, трагически-жестокий”, „безначальный и бесконечный древний космос, прежде всего — гераклитовско-пифагорейский, где ‘всем правит Молния’”.28![]()
Звучание хора молний Р.В. Дуганов называет „мировым фоном трагедии человеческой истории”.31![]()
![]()
Заключительные строки «Страстной площади» обозначают общий план действия. Перебивая друг друга, звучат безумно-веселые выкрики Улицы и Голосов, появляется Надпись: Не трудящийся да не ест!, которая рифмуется с ремаркой: Сестры-молнии порхают там и здесь. Последними выступают Люди, свидетели страшных событий — подобие хора греческой трагедии, или, с другой стороны, хоровых комментариев в баховских пассионах: По улицам длинным, как пули полет, / Опять пулемет, / Косит, метет / Пулями лиственный веник, / Гнетет / Пастухов денег. Эти слова, впервые вводящие в сверхповесть трагическую интонацию, служит своего рода обоснованием присутствия образа страстей Господних.
Сходный состав отсылок угадывается в поэме «Ночной обыск», но, в отличие от «Страстной площади», они никак не обозначены автором. Не имея возможности подробно рассмотреть поэму, ограничимся перечнем основных параллелей.
В стихотворении «“Верую” пели пушки и площади...» (1919–1920, 1922; 2: 73) изображен мир, смежный с “пространством Страстной площади”.
Следующие далее строки: Мамо! / Чи это страшный суд? / Мамо! содержат ответ на вопрос о характере происходящего, а призыв: Люди, молитесь! словно возвещает о наступлении того дня, о котором предупреждали слова из рассказа 1911 года: Кайтесь, кайтесь! ‹...› Спешите! завтра поздно! В начале же стихотворения звучат голоса пушек, стреляющих в народ, и площадей — места действия. Они “поют” одно и то же, исповедуя свою веру перед образом восстанья. Многозначное выражение Образ восстанья / Явлен народу отсылает к историям о чудесных явлениях икон34![]()
![]()
Переходом в пространство Страстной площади служит вторая строка: Хлещет извозчик коня. Мотив мучений коня, общий для ряда сочинений Хлебникова,36![]()
Первоначальный замысел «Сестер-молний» (III: 380-381) включал действия 2-е и 3-е под названиями «Смерть коня» и «Распятие» (ср. «Чу, зашумели...» и «Страстная площадь»); последовательность частей соответствовала порядку евангельского рассказа. Примечательная подробность: насколько возвышеннна и опоэтизирована конская версия, настолько сниженной предстает “человеческая” часть сюжета, в которой евангельские параллели выдержаны в характере спокойного и по-своему сочувственного “злословия” (Мф 27: 39).
Противоборство, невозможность иначе, чем “навыворот”, вcпомнить святое для всех господа имя (Тв: 315) — все это отступает только в тех случаях, когда Хлебников “присваивает” наиболее близкие ему мотивы православного текста, — соответственно словарным возможностям слова: “присваивать себе; — кому, чему”. Православные, по преимуществу евангельские, мотивы поэт проецирует на собственную жизнь и исторические события, на природную среду и “мировую гармонию” — у Хлебникова она наделена способностью кормить птиц небесных, которые ни сеют, ни жнут ‹...› (Мф 6: 26):
Преобладают личные и природные мотивы “присвоения”.
Р. Вроон отмечает у Хлебникова “евангельскую” интонацию пророка, говорящего притчами, и приводит, в частности, строки, содержащие вполне прозрачную перифразу оборота Нагорной проповеди:38![]()
Действительно, «евангельская» интонация нередка в тех вещах, где поэт пишет о себе как о пророке:
| Русские десять лет / Меня побивали каменьями. (1922; 2: 399) | Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! (Лк 13: 34) |
Не единичны и параллели с Нагорной проповедью:
| Блаженна стрекоза, разбитая грозой, / Когда она прячется на нижней стороне / Древесного листа. / Блажен земной шар, когда он блестит / На мизинце моей руки! (3: 189) | Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. ‹...› Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня (Мф 5: 3, 11). |
Все это — образцы “присвоения”.
В фрагменте, приведенном у Р. Вроона, “я” — а не Тот, Чьи слова передает Пятикнижие Моисея, — „дал закон”: Христос же в Нагорной проповеди говорит: Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф 5: 17).
А в фрагменте из «Войны в мышеловке» евангельская формула („Блаженны.., когда...”) “присвоена” явлениям природы. В то же время шутливый мотив: Я, носящий весь земной шар / На мизинце правой руки, ‹...› Блажен земной шар, когда он блестит / На мизинце моей руки!, вызванный к жизни каким-нибудь перстнем с изображением земного шара, вызывает в памяти стихи, в которых говорится про „Содержащего дланию тварь”.
Наш следующий пример — стихотворение «Пасха в Энзели» (1921; 2: 188) — примечателен местом действия и связанной с ним самоидентификацией поэта. Хлебников в Иране. В сочинениях этого времени он часто именует себя на персидский манер: Гуль-мулла, дервиш урус. Он производит вычисления законов времени, составляет календарный список праздников, по преимуществу языческих,39![]()
![]()
Каспийское море пело “Вечную память” ‹...› (1921; 2: 208) — то, что поют в православных храмах на отпеваниях и панихидах.
Море “поет” «Вечную память», но стихотворение, в котором об этом говорится, может показаться воплощением беспамятства: море называется то священным, то безбожным (ср. порок смешаю и святое в стихотворении 1913 г.). Через ритмическую тождественность строк, противоположных по смыслу (Море священною влагой ‹...› Море, великий безбожник ‹...›), Хлебников передает мерный рокот волн:
Вид рыб, лежащих на берегу, приготовленных затем на костре и послуживших обедом для тех, кто не имел никакой пищи, напоминает о трапезе „при море Тивериадском”:
| Собакам, провидцам, пророкам / Морем шумящим предложен обед . ‹...› Около грелся костер рыбака, / Бродяг приглашая испечь на костре / Мертвую сельдь. (2: 208) | Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. ‹...› Иисус говорит им: приидите, обедайте (Ин 21: 9, 12) |
(В стихотворении «Обед» (1922; 2: 358) тот же мотив и то же присутствие смерти: там мертвые рыбы составляют обед, здесь человек умер бы, если б не “выудил жизнь”.)
В ряд параллелей с евангельским повествованием встраивается и другой, многократно повторенный, мотив стихотворения «Море пело “Вечную память”...» — море, дающее отпущение грехов, и берег морской как исповедь и исповедальня: на берег, к воде, но не морской, а речной, выходили люди, „исповедуя грехи свои” (Матф 3: 5–6). В то же время Хлебниковский мотив стирки белья как очищения отсылает к образу прачки.41![]()
Воинственные слова, многократно повторяемые хором в службе Великого повечерия: „С нами Бог! разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог”,42![]()
С миром растений, точно так же, как и с миром животных, связаны едва ли не самые возвышенные образы Хлебникова. Природа во всех ее проявлениях была для него „возлюбленным селением”, где „зверие дубравнии” и „птицы небесныя привитают, от среды камения дадят глас”... (из псалмов 83, 103). Но, в отличие от псалмопевца и пророка, поэт ХХ века не воспринимает природу как творение рук Божиих. Несомненное для Хлебникова присутствие в природе божественного начала мыслится как “присвоение” природным явлениям самых высоких званий. Право носить эти звания может заслужить и “культурный объект” — но через приравнение к природному. Так, башня отождествлена с березкой, а березка смотрит Богоматерью:
“Природный эквивалент” церковного события, понятия и т.п. примиряет поэта с самим этим событием или понятием. Фигуры идущих один за другим на вечернюю службу святых отцов:
то ли оказываются деревьями, то ли становятся неразличимы
У Хлебникова свист гудящий тысяч жал — светлый cобор, в нем — цветов весенних образа (2: 221); в часовне осени можно молиться Богоматери осени (2: 293),44![]()
![]()
— как некое языческое божество;
Можно молиться самым, казалось бы, неподходящим для этого существам, например, жабам:
В свою очередь, и
Разрастающееся мифотворческое пространство “моления всего всему” составляет оборотную сторону призыва Люди, молитесь! (синхронного большинству приведенных выше фрагментов). Вспомнив и о высказанных когда-то словах молитвы (Боже спаси, помилуй нас! — 1908 г.) и призывах к покаянию из рассказа 1911 года, попытаемся достроить ряд соответствующих понятий.
Церковное покаяние подразумевает исповедь , цель которой — получить отпущение грехов : в уже знакомом нам мотиве 1921 года Море ‹...› давало белью отпущение в грехах. Был берег как исповедь и исповедальня. Особенно важно покаяние перед смертью. В стихотворении «Еще сильней горл мерных шум мер...» (1915; 1: 344–345) действие происходит в стане смерти. Там люди спешно свои души моют в прачешной / И, точно забор, перекрашивают спешно совести лики (белью дается отпущение грехов, а люди моют души в прачечной).
Исповеди предшествует говенье , что, как следует из строк, написанных в том же 1915 году, требует серьезности и сосредоточенности: Тихий дух от яблонь веет, / Белых яблонь и черемух. / То боярыня говеет / И боится сделать промах (1: 325). Одно из значений слова ‘говеть’ — “ничего не есть” — объясняет строки, в которых голод топлива, испытываемый поездами в 1920 году, сравнивается с недостатком влаги в земле: И путь сибирских поездов, примчавшихся говеть, зеленый и стыдливый / Закончит в синеве с печалью лепесток (2: 291).48![]()
Получивший отпущение грехов допускается к причастию. Смысл таинства причастия разъясняют слова Спасителя на Тайной вечери, когда преломленный хлеб был назван Телом, а вино — Кровью Нового Завета (Мф 26: 26–28). В стихотворении «Тайной вечери глаз...» ключевые понятия этого таинства “присвоены” месту расстрела вчерашней демонстрации и значительно искажены — прежде всего потому, что у Хлебникова подразумевается смерти вечеря (2: 179) и кровь как таковая, а не “источник бессмертия”; ср. также словосочетания Спасителей кровь, кровь причастилась:
Названные в этой главке понятия — средоточие духовной жизни православного человека. В сочинениях Хлебникова они “присваиваются” природным или историческим явлениям, предстают переосмысленными, искаженными. И все же неизменно существующими в сознании поэта на протяжении всей его жизни.
Осуществленный нами обзор позволяет составить некоторое представление о присутствии православного текста в творчестве Хлебникова.
Прежде всего, мы вправе сказать, что присутствие это несомненно: корпус интересующих нас мотивов достаточно велик,49![]()
В большинстве своем хлебниковские отсылки к православному тексту очень далеки от канонических представлений, и “полюс приятия” ненамного ближе “полюса неприятия”. Записи последних месяцев жизни поэта показывают, насколько сильна его приверженность к областям духовного, пограничным с православием, прежде всего к фольклорно-языческой стихии народных верований.50![]()
Перефразируя название пьесы А. Введенского применительно к Хлебникову, можно сказать: „Кругом несомненно Бог”.51![]()
| I, II, III, IV, V | В. Хлебников, Собрание произведений, в 5 томах. Под ред. Н. Степанова. Л., 1928–1933. |
| 1, 2, 3 | Хлебников В. Собрание сочинений, в 6 томах, под общ. ред. Р.В. Дуганова, сост., подгот. текста и примеч. Е.Р. Арензона и Р.В. Дуганова, Москва, 2000, т.1, т.2, т.3. |
| SS, III | V. Xlebnikov, Sobranie sochinenij / ed. by V. Markov, Münich, 1971–1972, Bd. III. |
| Тв | Хлебников В. Творения / Общая ред. и вступит. статья М.Я. Полякова, сост., подгот. текста и коммент. В.П. Григорьева и А.Е. Парниса, Москва, 1986. |
| Утес | Хлебников В . Утес из будущего. Проза, статьи. Сост., подгот. текста, вступит. ст., примеч. Р.В. Дуганова, Элиста, 1988, с. 144. |
Предлагаемая заметка — не более чем наблюдения читателя, который уловил сходство между весьма различными текстами, но не представляет себе, каким образом можно было бы эти сходства объяснить.
«Гром. Совершенный ум» — один из позднеантичных текстов т.н. гностической библиотеки, обнаруженной в 1945 г. в Наг-Хаммади (Египет). Тем самым, о возможном знакомстве Хлебникова с этим документом, который исследователи называют “необычайным”,52![]()
К «Сестрам-молниям» Хлебникова полностью приложимы многие строки вступительной статьи М.К. Трофимовой, посвященной «Грому».
Оба сочинения написаны от имени женского персонажа. В обоих случаях текст представляет собой последовательность самоопределений, правда, в «Громе...» это чередование самоопределений и обращений к слушателям (поучаемым, обличаемым...), у Хлебникова же самоопределения (часто в форме намерения стать кем-то или чем-то) одновременно служат и обращениями к “сестрам”, тождественным друг другу.
Сходны наименования той, кто обращается с речью: гром (по-коптски и по-гречески слово женского рода) и молния. Молний бесчисленно много, однако в конце сверхповести множественное число сменяется единственным: Все мы похожи, как капли воды! Великого мы девушка-цаца.
В обоих случаях
Конечно, легко заметны и отличия. „Безумно-веселый, трагически-жестокий” (по словам Р.В. Дуганова) колорит хлебниковского сочинения совершенно не соотвествует характеру «Грома». Еще одно из важных отличий состоит в том, что самоопределения хлебниковских молний строятся по принципу ‘и... и...’, кроме некоторых неприемлемых для поэта вещей: к примеру, есть бедность, но нет богатства. Персонаж «Грома» говорит: „И вы найдете меня в царствии”, в то время как в мире «Сестер-молний» царят “равенство и братство”.
Различна и структура самоопределений. У Хлебникова оппозиции самоопределений рассредоточены по тексту, а в некоторых из них “ненужный” элемент оставлен за его пределами. В «Громе» же наличествующая парность оппозиций составляет важнейшую конструктивную особенность текста: та, от имени которой написано сочинение, и бедна, и богата, и попранная, и царствующая.
Перечислим некоторые из замеченных нами параллелей.
В левом столбце расположены выписки из «Сестер-молний» (указаны номера страниц по III тому Собрания произведений 1928–1933гг.), в правом — из апокрифа «Гром. Совершенный ум» (указаны номера листов рукописи и, через косую черту, номера стихов). Разъяснения и пересказы даны курсивом; в правом столбце в квадратные скобки заключены элементы оппозиций, отсутствующие у Хлебникова.
| «Одежды» молний = их перевоплощения и новые имена | Я знание моих имен. (19/32–33) |
| Буду я глаголом: „Аз есмь Бог”. (155) Ислам моя рубашка. (156) Вытешу, вытешу вытешу / Тело нового бога. (168) Оденусь как безбожие! (157) | Я, я безбожна и я, чьих богов множество. (16/24–25) |
| В глазах моих блестящих / Есть почерк, нет стыда. (165) | Я бесстыдная [, я скромная]. (14/29) |
| Я буду нищим. (167) | Почитайте мою бедность (14/34 ) [и мое богатство (15/1)] |
| Старик седой как лунь я ‹...› Казненным юношей и ‹...› Красивой жницей. (158) (мужчина и женщина, стар и млад) | Я новобрачная и новобрачный ‹...› Я мать моего отца ‹...› (13/28–31) (мужчина и женщина, стар и млад, но + связанные узами родства) |
| Буду я глаголом „Аз есмь бог”. (155) Я „боже! боже!”, я возглас из уст священника. (167) „Отречемся от старого мира!” / Я в поле раздавшийся крик. (169) | Я глас, который многогласен. (14/12) |
| Я буду умной книгой. (166) А я схожу с ума — / Мой разум озарен. (165) | Я немудрая, и мудрость получают от меня. (16/28) |
| Я человеческая молния на молнии земли. / И равенство наполню я Лежащее в пыли. (168) | ‹...› Я брошена на землю ‹...› И не смотрите на меня, (попранную) в кучу навоза. (15/2–6) |
| Сложим одежды, потом перепутаем (отсутствие порядка= беззаконие). Мы равенство миров, единый знаменатель (=закон). (170) | Я та, кого зовут «закон», и вы назвали «беззаконие». (16/13–15) |
| И девы, провожающие мертвого брата, ‹...› Веселые гробы ‹...› Струбай за смертью, смерть! Пока еще мы живы ‹...› («Старые речи...») | Христос воскрес из мертвых, Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав (тропарь Пасхи) |
| Персональная страница Ларисы Львовны Гервер | ||
| карта сайта | 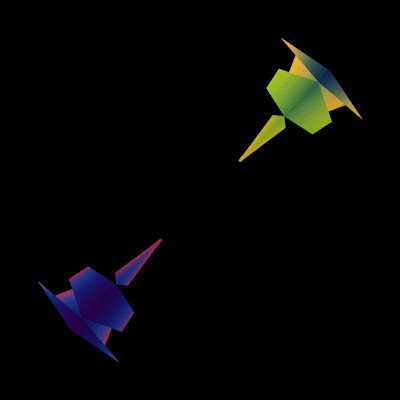 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||