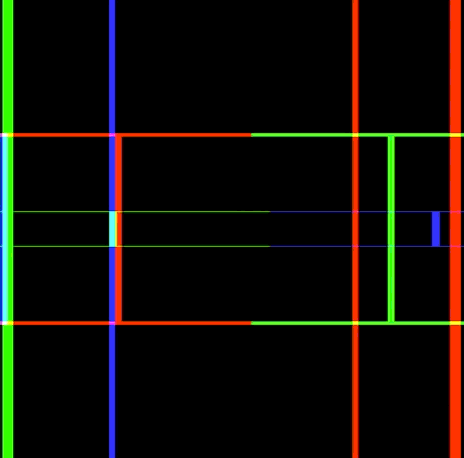Эткинд Е.Г.
из книги «Материя стиха»
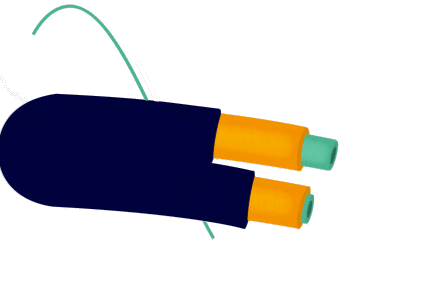
наибольшей последовательностью принцип поэтической этимологии был обоснован в теоретических сочинениях и осуществлён в поэтических опытах Велемира Хлебникова.
Хлебников попытался дать явлению поэтической этимологии обманчиво научное объяснение — это и сообщает некоторым его статьям, если воспользоваться словом Бертольта Брехта, “провокационный” характер: они бесили профессиональных филологов и вызывали тоскливое недоумение у здравомыслящих обывателей. Впервые Хлебников формулировал своё учение в диалоге «Учитель и Ученик» (1912); здесь выдвинуто удивительное положение о
внутреннем склонении, о падежах внутри слова:
‹...›
если родительный падеж отвечает на вопрос откуда, а винительный и дательный на вопрос куда и где, то склонение по этим падежам основы должно придавать возникшим словам обратные по смыслу значения. Таким образом слова-родичи должны иметь далёкие значения.1
Таков постулат Хлебникова, их которого выводится вся его теория; с точки зрения традиционной филологии он фантастичен, — впрочем, не более, чем постулат Лобачевского: параллельные линии сходятся; это и позволило Ю. Тынянову сказать:
‹...› Хлебников-теоретик становится Лобачевским слова: он не открывает маленькие недостатки в старых системах, а открывает новый строй, исходя из случайных смещений. ‹...› Вся суть его теории в том, что он перенёс в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Для него нет неокрашенного смыслом звучания, не существует раздельно вопроса о “метре” и о “теме”. „Инструментовка, которая применялась как звукоподражание, стала в его руках орудием изменения смысла, оживления давно забытого в слове родства с близкими и возникновения нового родства с чужими словами”.
2
Сопоставлению Хлебникова с Лобачевским предшествует принадлежащее Маяковскому сравнение Хлебникова с Колумбом („Колумб новых поэтических материков”) и Менделеевым („Хлебников создал целую “периодическую систему слова”).
3
Итак, подобно Лобачевскому, Хлебников выдвинул новый постулат — о внутреннем склонении. Приняв его, мы по-новому увидим соотношения лексических единиц внутри языковой системы. Перед нами два слова: бобр и бабр; первое — слабый зверёк, второе — полосатый королевский тигр, „зверь, равняющийся по лютости и силе льву” (словарь Даля). Для Хлебникова оба эти слова не случайно близки друг другу по звучанию, они — разные падежи одного корня. В диалоге «Учитель и Ученик» читаем:
‹...› Бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного хищника и образованные винительным и родительным падежами общей основы бо, самым строением своим описывают, что бобра следует преследовать, охотиться за ним как за добычей, а бабра следует бояться, так как здесь сам человек может стать предметом охоты со стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением своего падежа изменяет смысл словесного построения. В одном слове предписывается, чтобы действие боя было направлено на зверя (винительный — куда?), а в другом слове указывается, что действие боя исходит из зверя (родительный — откуда?).
СП V: 171
Другие примеры внутреннего склонения, приводимые Хлебниковым: бег — бог (бег бывает вызван боязнью, а бог — существо, к которому должна быть обращена боязнь); лес — лысый, лысина, лесина (присутствие или отсутствие какой-либо растительности); бык — бок (бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок то место, куда следует направить удар); вол — вал (действие поводырства направлено на ручного вола, которого ведет человек, и исходит из вала, который водит по реке человека и лодку); вес — высь (вес никогда не бывает направлен в высь); еду — иду (‹...› действие то исходит от меня (родительный — откуда), когда я пеш, то покоится во мне (дательный — где), когда я двигаюсь чужой силой (СП V: 172). С точки зрения Хлебникова, язык сам по себе глубоко содержателен, — наука и поэзия призваны обнаружить, открыть эту содержательность: Только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы (V, 172). И, наконец, вывод Ученика в диалоге, формулирующий теоретическую идею Хлебникова:
‹...›
словесное нутро также имеет склонение по падежам. Склоняясь, иногда немая основа придаёт своему смыслу разные направления, и даёт слова, отдалённые по значению и похожие по звуку.
СП V: 1734
Хлебников в течение нескольких лет размышлял над положениями, выдвинутыми им впервые в 1912 году. Его главное теоретическое сочинение было создано семь лет спустя, в 1919 году, и опубликовано в 1920-м — статья «Наша основа». Здесь повторено утверждение о том, что язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его, и ниже: Мудрость языка шла впереди мудрости наук (СП V: 231). Хлебников выдвигает мысль о световой природе мира, вскрываемой языком; он выстраивает два столбца, где языком рассказана световая природа нравов, а человек понят, как световое явление, здесь человек — часть световой области. Вот часть примеров из этой таблицы:
| Тело, туша | Тень |
Тухнуть в смысле
разложения тела | Тухнуть в смысле
исчезновения огня |
| Молодость, молодец | Молния |
| Грозный | Гроза |
| Мерзость | Мёрзнуть |
| Стыд | Стужа |
| Холостой | Холод |
| Жить | Жечь |
| Пылкий | Пламя |
| Ярость | Яркое пламя |
| Искренний | Искра |
| Святой, “светик” | Свет |
| Злой | Зола |
| | СП V: 231 |
Хлебников ставит на одну доску слова, действительно этимологически связанные (грозный — гроза) и другие, по происхождению не имеющие ничего общего (искренний — искра), связанные лишь общностью звучанья, а потому вступающие в родство смысловое. “Потому” — не оговорка; для Хлебникова обшность звука и есть воплощение многовековой мудрости языка. Особое значение приобретает для него звук начальный. В «Разговоре Олега и Казимира» (1913) им замечено, что судьба звуков на протяжении слона не одинакова, и что начальный звук имеет особую природу, отличную от. природы своих спутников; Хлебников приводит примеры упорства этого звука при перемене остальных: Англия и Альбион, Иберия и Испания; ему кажется многозначительным, что А упорно стоит в начале названий материков — Азия, Африка, Америка, Австралия, хотя названия относятся к разным языкам. Может быть, помимо современности, в этих словах воскресает слог А праязыка, означавший сушу (СП V: 191–192). Начальный звук, этот позвоночный столб слова, получает самостоятельное осмысление — благодаря и качеству звука, и смыслу начинаемых им слов; оказывается, что В на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад, что Ч означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого тела, так что отрицательный объем первого тела точно равен положительному объему второго, а Н значит отсутствие точек, чистое поле; иначе говоря, простые тела языка — звуки азбуки — суть имена разных видов пространства ‹...› краткий словарь пространственного мира («Художники мира», 1919, СП V: 217–219). В статье «Наша основа» мысль о начальном звуке конкретизирована; например, получивший выше столь странную характеристику согласный ч здесь объяснён на языковом материале:
‹...› если собрать слова на ч: чулок, чоботы, черевики, чувяк, чуни, чупики, чехол и чаша, чара, чан, челнок, череп, чахотка, чучело, — то видим, что все эти слова встречаются в точке следующего образа. Будет ли это чулок или чаша, в обоих случаях объём одного тела (ноги или воды) пополняет пустоту другого тела, служащего ему поверхностью. Отсюда чара, как волшебная оболочка, сковывающая волю очарованного — воду по отношению чары, отсюда чаять, то есть быть чашей для вод будущего. Таким образом ч есть не только звук, ч — есть имя, неделимое тело языка.
СП V: 236
В «Нашей основе» выдвинуто требование — построить для звуко-веществ ‹...› что-то вроде закона Менделеева или закона Мозелея — последней вершины химической мысли (СП V: 228). В этом своеобразие хлебниковской позиции, — он видел в своих открытиях объективные законы, управляющие языком вообще, к тому же не только национальным языком, русским, но и мировым надъязыком. Он был серьёзно убеждён, что, скажем, согласные звуки — объективные носители вполне определённых смыслов. В статье «О простых именах языка» (1916) рассмотрены согласные М, В, С, К и сформулированы их общеязыковые функции. Так, звуком М начаты имена самых малых членовнескольких многообразий.
Мир растений: мох (игрушечный лес), мурава (относительно деревьев).
Мир насекомых: мошка, муха, моль, муравей (ср. размеры жуков и птиц), мотылёк. ‹...›
Мир зёрен: зёрна мака.
Мир пальцев: самый малый мизинец.
Мир времени: миг — наименьший делитель времени — и мах.
Мир слов о слове — молвить (раз сказать).
В многообразии отвлечённых количеств: малый, махонький меньший (от “мень”), мелочи, мелкий.
В этих 19 словах, начатых с М, видим скитающееся одно и то же понятие — наименьшего количества члена данной области.
СП V: 203
За два года до Хлебникова А. Белый в «Глоссолалии» давал свое понимание согласного М:
М — жидкое, тёплое, что присуще животным: живая вода, излиянная в нас, или — кровь: Элексир, река жизни, животная мудрость; в
м действия красны тогда: „Если дела ваши будут как пурпур, как волну убелю” — говорит нам Исаия; и убелённое
м (через
б) превращается в
в:
в — волна убелённая; в
м живёт жало змия; в
м есть сладострастие; но есть и душевность; где
м душевно, там — в жизнь воплощённое:
мама; высоты
м светятся фиолетовым пурпуром; имя тогда им
Мария.
5
А Бальмонт ещё тремя годами раньше, в 1916 году, определял звук м иначе: „мучительный звук глухонемого, стон сдержанной, скомканной муки”, „мягкое”, „смутное”, „медовое” и т.д.
Каков же он, этот согласный звук ? Означает он наименьшее количество (Хлебников), „жидкое, теплое, что присуще животным” (А. Белый) или подавленную муку (Бальмонт)? Каждый из трёх названных поэтов шёл своим путём: Бальмонт отправлялся от звукоподражательности М, А. Белый — от звукосимволической идеи, проникнутой мистицизмом, Хлебников — от позитивистских наблюдений над значениями слов, этот звук содержащих. Стоит только сопоставить такие три истолкования, чтобы убедиться в произвольности каждого из них. Другой пример — Ч. Как мы видели, для Хлебникова он значит отношения содержащего и содержимого, или, как сформулировано статье «Перечень. Азбука ума» (1916), Ч — Оболочка. Поверхность, пустая внутри, налитая или обнимающая другой объём. Череп, чаша, чара, чулок, чрен, чоботы, черевики, черепаха, чехол, чахотка (СП V: 207).
А для Белого Ч —
проекция темноты на материю, чёрное: уголь, сухой порошок, порох, взрывчатость; силы роста, проявляясь мгновенно, взрываются разом; и — опаляются разом; ч — чирканье; в ч — всё взрывное,что есть в к (минералах), в ч (или в света лучах), в т (иль) росте растений; и ширина звука ш скрыта в ч; ч плюс с даёт взрыв ‹...›
Полувековое развитие филологической науки после Хлебникова не подтвердило его гипотезы; в плане общелингвистическом она осталась такой же фантастической, как и цифровые предположения Хлебникова о том, например, что года между началами государств кратны 413. Что 1383 года отделяют паденья государств, гибель свобод. Что 951 год разделяет великие походы, отраженные неприятелем. Или что время Z отделяет подобные события, причём Z = (365 +48у)х, где у может иметь положительное и отрицательное значения (СП V: 175 и далее). Но эта гипотеза, бесполезная, вероятно, для общего языкознания и для историографии, оказалась в высшей степени плодотворной для теории поэтической речи. Конечно, сам по себе звук М не выражает наименьшее количество, но поэтический контекст может семантизировать этот звук в необходимом ему направлении, — так сделала Цветаева в стихотворении «Минута», где М — носитель значения, окказионально связанного со словами миновать, мимо, мель, мелящая, то есть с понятием преходящети, бренности. Хлебников придавал поэтическим закономерностям характер общелингвистических. Его так долго опровергали как языковеда и философа, что забыли о нём как поэте и теоретике поэтической речи. Маяковский, сопоставляя Хлебникова с его предшественниками, видел в нём новатора. Прежде, писал Маяковский в статье 1922 года, имея в виду в первую голову символистов,
Материал бессознательно ощупывался от случая к случаю. Аллитерационная случайность похожих слов выдавалась за внутреннюю спайку, за неразъединимое родство. Застоявшаяся форма слов почиталась за вечную, её старались натягивать на вещи, переросшие слово. Для Хлебникова слово — самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей. Отсюда — углубление в корни, в источник слова, во время, когда название соответствовало вещи. Когда возник, быть может, десяток корневых слов, а новые появлялись как падежи корня (склонение корней, по Хлебникову)
6
Далее Маяковский приводит пример из диалога «Учитель и Ученик» (бык — бок; лыс — лес, а также лось, лис) и заключает:
Хлебниковские строки —
Леса лысы.
Леса обезлосили. Леса обезлисили —
не разорвёшь — железная цепь.
А как само собой расползается —
Чуждый чарам чёрный чёлн.
Бальмонт
В чём смысл этого противопоставления Хлебникова и Бальмонта? Ведь, казалось бы, и Бальмонт использует столь ценимый Хлебниковым начальный согласный, позвоночный столб слова? Почему же Маяковский утверждает опыт Хлебникова и презрительно опровергает Бальмонта? „Железная цепь” Хлебникова — это звукосмысловые связи между словами; лес — лыс — лось — лис: здесь звуковые подобия выражают смысловую близость или противоположность; это не бессмыслица, а новая семантическая система — скажет Ю. Тынянов в 1928 году, в предисловии к Собранию произведений Хлебникова (I: 26). Семантическая система — вот что привлекало Маяковского. Звукопись Бальмонта внесемантична, она ориентирована на обессмысливающую слово музыкальность звучаний. Для Хлебникова связаны слова чёрный и чёрт, между ними — смысловая скрепа (СП V: 231). Бальмонт играет случайным совпадением начального звука, его музыкальные эффекты отнюдь не обязательны; в «Песне без слов» (1893) — „Ландыши, лютики. Ласки любовные. / Ласточки лепет. Лобзанье лучей...” и т.д. Именно к Бальмонту, автору «Челна томления», был близок Брюсов, сочиняя в своих «Опытах» стихи на м — с одинаковым начальным согласным, который, однако, вовсе не позвоночный столб слова, а фокус:
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк...
В известной степени был прав К. Зелинский, когда в конце пятидесятых годов писал:
В. Хлебников создал в своих статьях, воззваниях, письмах, стихах целый мир поэтической мифологии, внешне стройный, и даже наукообразный, но, конечно, ничего не имеющий общего ни с наукой, ни с реализмом.
7
Но прав он был только в известной степени... Учение Хлебникова связано лингвистической наукой лишь косвенно, оказалось же оно теорией поэтического слова XX века; Маяковский в статье-некрологе недаром говорил:
‹...› я намеренно не останавливаюсь на огромнейших фантастико-исторических работах Хлебникова, так как в основе своей — это поэзия.
8
Хлебников был так убеждён во всеобщей закономерности, господствующей в поэзии, что переносил её на историю и язык; в поэзии, полагал он, нет и не может быть ничего случайного — значит, нет случайного в действительности: ни в смене исторических событий, ни в фактах языка. Отсюда его поиски цифровых соответствий, корневого родства слов: „в основе своей — это поэзия”, — то есть поэтическое безумие, как бы помешательство на почве всеобщей закономерности, вычитанной из поэзии. Хлебников, ощущавший мировой и социальный хаос, искал спасительной гармонии, — её он обретал в математической логике законов бытия, истории, языка. Но эта логика реально существовала, и не только в его воображении, а в мире поэтического искусства, от которого он отправлялся. Поэзия близка к науке по методам — этому учит Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу явлениям.9 Конечно, Хлебников именно это и утверждал, однако Хлебникова-теоретика надо суметь прочесть как Хлебникова-поэта.10
Конечно, Хлебников именно это и утверждал, однако Хлебникова-теоретика надо суметь прочесть как Хлебникова-поэта.10 И тогда то, что могло бы выглядеть бредом, окажется логическим звеном развития его поэтической и поэтико-теоретической мысли; станет понятно, почему опыт и мысли Хлебникова оказали такое влияние на его современников — „‹...› считаем его одним из наших поэтических учителей”, писал Маяковский от имени своего, а также Асеева, Бурлюка, Кручёных, Каменского, Пастернака, — но он учитель и более поздних поэтов, таких, как Цветаева, Заболоцкий, Антокольский, Л. Мартынов и множества других. „Стихи Хлебникова ‹...›, — писал тот же Маяковский в статье 1928 года «Вас не понимают рабочие и крестьяне», — десятилетие заряжали многочислие поэтов ‹...›”.11
И тогда то, что могло бы выглядеть бредом, окажется логическим звеном развития его поэтической и поэтико-теоретической мысли; станет понятно, почему опыт и мысли Хлебникова оказали такое влияние на его современников — „‹...› считаем его одним из наших поэтических учителей”, писал Маяковский от имени своего, а также Асеева, Бурлюка, Кручёных, Каменского, Пастернака, — но он учитель и более поздних поэтов, таких, как Цветаева, Заболоцкий, Антокольский, Л. Мартынов и множества других. „Стихи Хлебникова ‹...›, — писал тот же Маяковский в статье 1928 года «Вас не понимают рабочие и крестьяне», — десятилетие заряжали многочислие поэтов ‹...›”.11 И ведь разделял же Маяковский с Хлебниковым представление о том, что звуки (в особенности — согласные) изначально наделены экспрессией и смыслом; вспомним в «Приказе по армии искусства» (1918):
И ведь разделял же Маяковский с Хлебниковым представление о том, что звуки (в особенности — согласные) изначально наделены экспрессией и смыслом; вспомним в «Приказе по армии искусства» (1918):
Громоздите за звуком звук вы
и вперёд,
поя и свища,
Есть еще хорошие буквы
Эр.
Ша.
Ща.
Это тоже было не филологией, но — поэзией. В статье Как делать стихи (1928) Маяковский специально подчёркивал: „Никакого научного значения моя статья не имеет” (ср. похожие его слова о Хлебникове), а о своём отношении к проблеме “звук — смысл” высказался со всей определённостью:
Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для ещё большей подчёркнутости важного для меня слова. Можно прибегать к аллитерации для простой игры словами, для поэтической забавы; старые (для нас старые) поэты пользовались аллитерацией главным образом для мелодичности, для музыкальности слова и потому применяли часто наиболее для меня ненавистную аллитерацию — звукоподражательную.
12
‹...›
В своих стихах Хлебников использовал выдвинутые им принципы сцепления слов звуком, — иногда он шёл слишком далеко, утрачивая смысловой стержень мысли, иногда лишь намечал действие того принципа, который один из его первых исследователей, Н.Л. Степанов, назвал „осмыслением (семасиологизацией) звука”.13 Вот. некоторые примеры из хлебниковских стихов:
Вот. некоторые примеры из хлебниковских стихов:
Умейте, лучшие умы,
Намордники надеть на моры.
(Ладомир, 1920)
Глагол умейте сопрягается с этимологически родственным ему существительным умы, на этом фоне сближаются и чуждые другу намордники и моры (мора — морок, мрак, сумрак, грёза).
Хлебников охотно создаёт цепи слов, которые, подобно звеньям, зацепляются друг за друга. В монологе Русалки из драматической поэмы «Лесная тоска »(1920–1921) читаем:
Всюду тени те,
Меня тяните!
Только помните —
Здесь пути не те,
Здесь потонете!
Жмурился вечер,
Жмуря большие глаза,
Спрячась в озёрах во сне голубых.
Тогда я держала в руках голубей,
Сидя на ветке шершавой и старой,
И опрокинутой глыбой
Косы веселий
Висели. В осине осенней
То было.
Час досады, час досуга,
Час видений и ведуний,
Час пустыни, час пестуний ‹...›
Полотенцем моей грёзы
Ветру вытру его слёзы.
Ветер ветреный изменник:
Не венок ему, а веник.
Вы помните, страстничал вечер
Громадами томных
Расширенных глаз над озером.
Сюжет монолога выражен в звукосмысловых цепочках: тени те — тяните — пути не те — потонете; жмурился — жмуря; голубых — голубей; веселий — висели; осине — осенней; досады — досуга; видений — ведуний; пустыни — пестуний; вечер — ветру — вытру — ветер — ветреный — венок — веник — вечер; помните — томных.
Далее — монолог Ветра, построенный на том же принципе:
Там не та темнота ‹...›
Чаруетесь теми,
Они сосне
Восклицали: сосни.
Чураетесь теми,
Она во сне
Заклинала весну.
Явен овин темноты.
Я виновен, да — но ты?
Поэма завершается монологом Утра, восклицающего:
Поспешите, пастушата!
Ни видений, ни ведуний ‹...›
«Лесная тоска» — поэма, близкая к народным легендам и песням, и часто её звуковая “плетёнка” восходит к фольклорным мотивам. Впрочем, нельзя и вообще игнорировать родственности этого принципа осмысления звука народно-песенным традициям. Как известно, в частушке первые две строки часто по смыслу не связаны с другими двумя, — зато они прочно связаны звуком, который в частушечном четверостишии проникается смыслом.
Возьму мыльце, пойду мыться
На Череху на реку.
Давай, миленький, мириться,
Давай правую руку.
14 (627)
(627)
Звуковая цепь мыльце — мыться — миленький — мириться прочна, хотя прямой смысловой связи нет. Или — в другой частушке — сцепление иного рода:
Все платочки проносила.
Остаётся одна шаль.
Всех ребят перелюбила,
Остаётся одна шваль.
(595)
Обе половины куплета, далекие по смыслу, скреплены лишь синтаксическим параллелизмом и рифмой, то есть, в сущности, звуком. Строки 2 и 4 отличаются лишь согласным в: Остаётся одна шаль — Остаётся одна шваль; строка 2 имеет право на существование лишь благодаря отблеску, бросаемому на неё строкой 4. Или — еще ближе к хлебниковским цепям:
Моя досада — не рассада,
Не раскинешь по грядам,
А кручина — не лучина,
Не зажжёшь по вечерам.
(547)
Отрицательные уподобления досада — рассада, кручина — лучина возникли только благодаря звуковой близости слов, отличающихся начальными согласными. Выразительность этой частушки определяется смысловой далёкостью, которая сталкивается со звуковым подобием. (В таком случае начальные согласные оказываются как бы носителями антонимичности; можно утверждать, что по законам данного контекста звук д противоположен р, а кр — звуку л. Упаси Бог обобщить этот вывод, перенеся его на фонетическую систему русского языка в целом! Именно так поступал Хлебников-теоретик.)
Такое противоречие, однако, не обязательно; слова, почти тождественные по звуку, могут и по смыслу быть логически связанными:
Как во нынешнем году
Я в монашенки пойду.
Срублю келию под елею,
Монаха заведу.
(783)
Или:
Не целуй меня на улице —
Целуй меня в сенях.
Не целуй меня в сенях —
Целуй на маслену в санях.
(300)
В этой частушке почти полный параллелизм звучаний: не целуй меня — целуй меня — не целуй меня — целуй на маслену... Слова на маслену содержат м — н (меня) и с — л (целуй), на этом фоне особенно выразительно варьируют в сенях — в санях.
Так что принцип звуковых связей имеет прочную фольклорную опору и, хотя стихи Хлебникова часто народной песни чужды, связь с нею всё же несомненна. Она существует даже там, где Хлебников интонационно от песни очень далёк; скажем, в стихотворении «Крымское» (1908?), написанном вольным стихом и построенным на игре омонимов, образующих звуковую цепочку:
‹...› окурки
Валяются на берегу.
Берегу
Своих рыбок
В ладонях
Сослоненных ‹...›
Море в этом заливе всегда засыпает.
Засыпают
Рыбаки в море невод ‹...›
Что же общего у Хлебникова с частушкой? А вот что: отношение к слову как единству смысла и звука, единству, в котором звук при надобности может приобрести ведущую роль и даже принять на себя всю функцию смысла. Таково слово частушки, таково же оно и у Хлебникова в его цепочках. И в том, и в другом случае можно сослаться на проницательное суждение Маяковского, уже цитированное выше: если прежде „аллитерационная случайность похожих слов выдавалась за внутреннюю спайку, за неразъединимое родство”, то у Хлебникова „слово — самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей”.
‹...›
Существенней более сложные музыкально-композиционные формы, развившиеся в русской поэзии XX века — начиная с лирики Ин. Анненского. Не претендуя сколько-нибудь полно раскрыть эту тему, остановимся на одной из таких линий в новейшей поэзии, — эта линия связана с именем В. Хлебникова. «Праздник труда» (около 1920 г.) Велемира Хлебникова дает изображение революционного празднества:
Алое плавало, алое
На крыльях у толпы.
Это труд проходит, балуя
Шагом взмах своей пяты.
Труднеделя! Труднеделя!
Кожа лоснится рубах.
Льётся песня, в самом деле,
В дне вчерашнем о рабах,
О рабочих, не рабах!
И могучая, раскатом
Песня падает, пока
Озаряемый закатом
Отбивает трепака.
Романтическая картина народного шествия, данная общим планом, переходит в словесное изображение сначала песни, потом пляски, причём в последних четырёх стихах основная изобразительность падает на синтаксис и его соотношение со стихом осложнённая инверсией, медленно движущаяся фраза о песне (И могучая, раскатом ‹...›) обрывается внезапным переносом на коротком пока, вслед за которым идут две ритмически подобные строки четырёхстопного хорея с пиррихиями на первой и третьей стопах и с четырьмя ударными а (Озаряемый закатом / Отбивает трепака). Тот же ритм продолжается в следующих диух строках, разрабатывающих тему пляски, и уступает место иной ритмической фигуре, возвращающей тему песни:
Лишь приёмы откололи
Сапогами впереди,
Как опять востоком воли
Песня вспыхнула в груди.
Дело ведь не только в том, что в одном случае речь идёт о песне, в другом — о пляске, а ещё и в том, что словесно-ритмическими средствами воспроизводятся две разные музыкальные стихии: торжественно-неторопливой революционной песни и бурно-стремительного трепака. Это притоптывание звучит в ритмическом движении четырёх стихов, которые не рифмуются друг с другом, что усиливает их динамизм, лишает их замкнутости:
° ΄ ° ΄
Озаряемый закатом
Отбивает трепака.
Лишь приёмы откололи
Сапогами впереди ‹...›
До этих ритмически тождественных строк — песня, и после них — песня; две строки, передающие песню, тоже ритмически тождественны между собой:
Песня падает, пока ‹...›
Песня вспыхнула в груди.
΄ ΄ ° ΄
И стилистически песня и пляска тоже противопоставлены друг другу. Тема песни дана не только с замедляющими архаическими инверсиями, но и с необыкновенно возвышающими слог метафорами: Льётся песня ‹...› / В дне вчерашнем о рабах ‹...› (т.е. о рабах во вчерашнем дне), Могучая, раскатом / Песня падает ‹...›, востоком воли / Песня вспыхнула в груди. Танец изображён разговорно, с юмористическим оттенком профессиональной лексики: Отбивает трепака, ‹...› приёмы откололи / Сапогами впереди ‹...›. Эти две музыкальные стихии сменяются третьей: проходит военный духовой оркестр. Меняется ритм; звучит чистый хорей с четырьмя сильными акцентами; повторы выделяют звуки труб и раскаты р в словах трубачи, трубят, трубам, рот, дорога, чародеям, рог, широкая:
Трубачи идут в поход,
Трубят трубам в медный рот!
Весёлым чародеям
Широкая дорога.
Трубач, обвитый змеем
Изогнутого рога.
Это синие гусары
На заснувшие ножи
Золотые лили чары
Полевых колосьев ржи.
Четыре последние стиха логически осмыслить трудно — да и не надо: они передают общий характер духовой музыки, выше выраженной и в звучании слов (ру — ру — ру — ро — ро — ро — ро), и в неожиданности переходов от четырёхстопного хорея с мужскими окончаниями к трёхстопному ямбу с женскими. Рассказ, между тем, продолжается, тянется шествие демонстрантов, на площадь выходят отряды Красной Армии — бойцы в остроконечных шлемах (рогоголовцы):
Городские очи радуя
Огневым письмом полотен,
То подымаясь, то падая,
Труд проходит, беззаботен.
И на площади пологой
Гулко шли рогоголовцы.
Битвенным богом
Жёлтый околыш, знакомый тревогам.
В последних двух стихах появилась — вне смыслового движения текста — кавалерия: о ней ещё ничего не сказано, лишь десятью строками ниже мы прочтём про скакунов степных долин; но уже цокают копыта в словах: Желтый околыш, знакомый тревогам — с их четырьмя ударными о, с их сочетанием звуков око, ако, ога. Кавалерия появляется как новый звук, как музыкальная тема. Стихотворение Хлебникова развивает уже знакомые нам образы — музыкальные мотивы, сводя и разводя их, вводя новые — например, звуковое изображение шагающей по площади пехоты:
Суровые ноги в зелёных обмотках,
Идут бойцы за свободу знакомых;
В каждой винтовке ветка черемухи —
Боевой привет красотке.
Как жестоки и свирепы
Скакуны степных долин!
Оцепили площадь цепи,
На макушках — алый блин!
Как сегодня ярки вещи!
Золотым огнеё блеснув,
Знамя падает и плещет,
Славит ветер и весну.
И снова — военный оркестр духовых инструментов, реприза, возвращающая нас к теме, уже звучавшей прежде; почти полное текстуальное повторение создаёт композиционное кольцо:
Это идут трубачи,
С ног окованные в трубы.
Это идут усачи,
В красоте суровой грубы.
И, как дочь суровой меди,
Меж богов и меж людей, Звуки, облаку соседи,
Рвутся в небо лебедей!
Весёлым чародеям Свободная дорога.
Трубач сверкает змеем
Изогнутого рога.
Наконец, заключительная торжественная часть, напоминающая начало, которое рисовало шествие демонстрантов со знамёнами и транспарантами на фоне величавой революционной песни:
Алый волос расплескала,
Словно дева, площадь города,
И военного закала
Черны ветренные бороды.
Золото красными птицами
Носится взад и вперёд.
Огненных крыл вереницами
Был успокоен народ.
Красные птицы, огненные крыла концовки подхватывают образ, которым было начато стихотворение: Алое плавало, алое / На крыльях у толпы ‹...›.
Картина праздника дана Хлебниковым как смена и сплетение музыкальных тем; сами же эти темы воплощены ритмически и звукоподражательно, но также движением стилистических плексов.
Принципы музыкальной композиции для Хлебникова существенны, и применял он их не только тогда, когда речь шла о музыке как предмете произведения. Это — проблема особая требующая специальной разработки.
————————
Примечания 1
1 Собрание произведений Велемира Хлебникова, т. 5.
Л. 1933. С. 171. В дальнейшем ссылки на Хлебникова даются cледующим образом: римская цифра обозначает том Собрания произведений (
СП) (1928–1933), арабская — страницу.
 2 Ю. Тынянов
2 Ю. Тынянов. О Хлебникове.
СП I: 25–26.
воспроизведено на www.ka2.ru 3 В.В. Маяковский
3 В.В. Маяковский. В.В. Хлебников (1922) // В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 12.
М. 1959. С. 23–24.
 4
4 Ю.Н. Тынянов писал: „Выбор образов может быть обусловлен и “ложной этимологией”, ср. корнесловие Тредьяковского, Шишкова; причём это “корнесловие” может быть осознано как художественное произведение — Хлебников (“склонения слов”)” Проблема стихотворного языка.
М.: Сов. писатель. 1965. с. 155.
 5 А. Белый
5 А. Белый. Глоссалалия.
Берлин: Эпоха. 1922. С. 112.
 6 В.В. Маяковский
6 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 12.
М. 1959. С. 24.
 7 К. Зелинский
7 К. Зелинский. “Очарованный странник” русской поэзии // На рубеже двух эпох.
М. 1960. С. 236.
воспроизведено на www.ka2.ru 8 В.В. Маяковский
8 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 12.
М. 1959. С. 26.
 9
9 СП I: 28.
 10
10 Ср. у Р. Якобсона: „‹...› Часто теоретизирования поэтов обнаруживают логическую несостоятельность, ибо являют собой незаконное перенесение — подмену логического хода словесной плетёнкою — из поэзии в науку, в философию”. Новейшая русская поэзия.
Прага. 1921. С. 17.
воспроизведено на www.ka2.ru 11 В.В. Маяковский
11 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 12.
М.: Гослитиздат. 1959. С. 165.
 12 В.В. Маяковский
12 В.В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 12.
М. 1959. С. 112.
 13 Н. Степанов
13 Н. Степанов. Творчество Beлемира Хлебникова // СП I: 62. См. также в монографии, изданной почти полвека спустя:
Н. Степанов. Велемир Хлебников.
М.: Советский писатель. 1975. С. 136–137 и далее.
воспроизведено на www.ka2.ru 14
14 Здесь и ниже частушки приводятся по сборнику «Частушка»
Л. 1964. Библиотека поэта / сост. В. Бахтин. Номер в скобках — порядковый по этому изданию.
Воспроизведено по:
Ефим Эткинд. Материя стиха.
Репринтное издание. СПб.: Гуманитарный союз. 1998. С. 316–328, 394–398.
Изображение заимствовано:
Daniel Firman (b. 1966 in France).
Nasatamanus. 2012. Fiberglass, polymer. 200 × 528 × 112 cm.


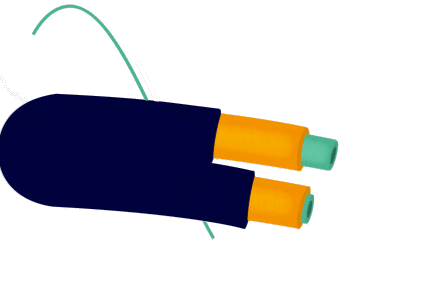 наибольшей последовательностью принцип поэтической этимологии был обоснован в теоретических сочинениях и осуществлён в поэтических опытах Велемира Хлебникова.
наибольшей последовательностью принцип поэтической этимологии был обоснован в теоретических сочинениях и осуществлён в поэтических опытах Велемира Хлебникова.![]()
![]()
![]()
![]()