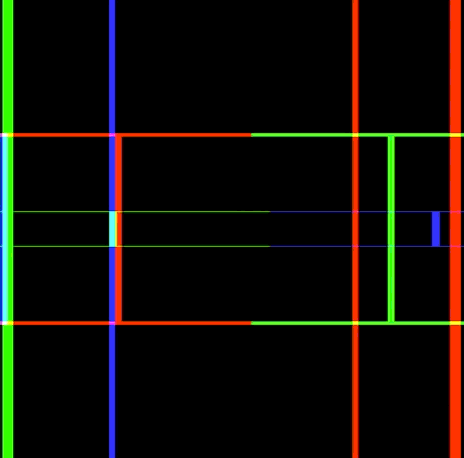Эткинд Е.Г.
Заболоцкий и Хлебников
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды ‹...›
Н. Заболоцкий. Вчера, о смерти размышляя...
Хлебников — один из немногих в мировой литературе пролагателей новых путей. Аналогия с Лобачевским, которого он так высоко ценил, закономерна: творчество Хлебникова — не только развитие поэзии, какой она сложилась от Ломоносова, Пушкина, Жуковского до Блока, но и поворот в новую сторону, создание иной поэтической системы. Казалось бы, Хлебников не обновил стихосложения: пять основных размеров в его творчестве сохраняются — он не осуществил той метрико-ритмической революции, которой мы обязаны Маяковскому с его гиперакцентным стихом или Цветаевой — с ее логаэдами. Но Хлебников создал другую, прежде непредвиденную систему, отличающуюся целостностью мифопоэтического мира — с небывалой иерархией ценностей, с новым представлением о сущности не только литературы, не только слова, но и бытия, с новыми взаимоотношениями человека и природного мира, а также природы культуры, поэзии и потребителя, читателя (слушателя). Хлебников пересмотрел соотношения между литературой и наукой, прозой и поэзией, словом и вещью, названием и объектом, звуком и смыслом. Он новатор в степени семантизации элементов поэтической формы; она так далеко никогда не заходила. Из тех идей, которыми он оплодотворил словесность, он не все реализовал сам; идеи Хлебникова оказались богаче его творчества. Это говорит не об ущербности творчества, а о богатстве идей — потому Маяковский и назвал Хлебникова „Колумбом новых материков“. Ведь и Колумб не довел своих открытий до конца, — он начал, другие продолжили.
В этом смысле роль Хлебникова подобна пушкинской. Пушкин намечал пути: Дантовы терцины («И дале мы пошли, и страх объял меня...»), наброски к «Фаусту», белый стих особой структуры — все это принадлежало будущему и было разработано другими поколениями.
Постепенно становится ясно, что среди русских поэтов нашего века двое оказали наиболее глубокое влияние на других, изменив процесс поэтического развития: Блок и Хлебников. Оба эти влияния не исследованы в должной мере. Впрочем, относительно Блока некоторые факты установлены, хотя далеко не достаточно; есть ли хоть один видный поэт, который бы избег его очарования. Ахматова, Цветаева, Пастернак, Багрицкий, Антокольский, даже Мандельштам, Маяковский, Твардовский... — никто не ушел от блоковского сатанизма, его цыганщины, трагичности, гармонизованной стихийности, его романтической иронии и смертельного лиризма. Второй — Хлебников. Его влияние менее универсально; ему не подверглись Ахматова, Есенин, Клюев, Волошин, многие другие. Но с Хлебникова началась новая эстетическая эпоха, не представимая до него. Хлебников был первым, кто канонизировал “обнаженный материал”, выдвинул языковые факты — фонетические, синтаксические, лексические — на передний план, сообщив им смысловую и художественную самостоятельность, насытил поэтический текст народными или просто фантастическими авторскими этимологиями („Действует закон поэтической этимологии, переживается словесная форма: внешняя и внутренняя“,1 — писал Р. Якобсон), флектированием основ, аллитерацией, основанной на поэтической валентности начального звука слова, lapsus’ами, “парными словами” (Reimwörter), разнообразнейшими неологизмами, обнаженными и составными этимологическими рифмами. Р. Якобсон в той же работе выделяет еще: приглушение значения и самоценность эвфонической конструкции; слова, как бы подыскивающие себе значения („слова с отрицательной внутренней формой“); в пределе — фонетические, точнее эвфонические, слова, заумную речь.
— писал Р. Якобсон), флектированием основ, аллитерацией, основанной на поэтической валентности начального звука слова, lapsus’ами, “парными словами” (Reimwörter), разнообразнейшими неологизмами, обнаженными и составными этимологическими рифмами. Р. Якобсон в той же работе выделяет еще: приглушение значения и самоценность эвфонической конструкции; слова, как бы подыскивающие себе значения („слова с отрицательной внутренней формой“); в пределе — фонетические, точнее эвфонические, слова, заумную речь.
Блок и Хлебников: отметим и то, что они отражались друг в друге. Блоковские мотивы у Хлебникова очевидны, но и хлебниковские встречаются у Блока: „Чудь начудила да Меря намерила ‹...›“ — ср. заклинания Саладина в «Действе о Теофиле» (перевод Блока из Рютбёфа).
Здесь Саладин обращается к дияволу и говорит:
Саладин
Христианин пришел просить
Меня с тобой поговорить.
Ты можешь двери мне открыть?
Мы не враги.
Я обещал — ты помоги.
Заслышишь поутру шаги —
Он будет ждать.
И надо мне тебе сказать —
Любил он бедным помогать,
Тебе — прямая благодать,
Ты слышишь, черт?
Что ж ты молчишь? Не будь так горд,
Быстрей, чем в миг,
Сюда ты явишься, блудник:
Я знаки тайные постиг.
Здесь Саладин заклинает диявола:
Багаги лака Башагé
Ламак каги ашабагé
Каррелиос,
Ламак ламек башалиос,
Кабагаги сабалиос,
Бариолас.
Лагозатха кабиолас,
Самагак эт фрамиолас,
Гаррагиа!
У разных наследников Хлебникова преобладают разные его черты. У Маяковского: неологизмы, обнаженная рифма, в особенности составная и ложноэтимологическая, изоляция слова, подчеркивание его звуковой материи; у Л. Мартынова — аллитерационная техника с использованием начальных звуков слова и основанных на этом каламбурах (ср. «Зелень» — перевод из Юлиана Тувима):
Мало видеть слово. Надо точно
Знать, какая есть у слова почва,
Как росло оно и как крепчало,
Как его звучало зазвучало...
‹...›
Так не лепо ль нам про зель земную
Словесами предков повествуя,
Эту повесть зачинать издревле...
Чтобы голос подал из расселин
Первый шевелистик, нежно зелен...
Кто найдет; придя к предельной цели,
Корень Зели меж других зелинок, —
Всяческих земличек-небылинок
‹...›
„Прочь беззелиц! Так позелеваем“.
В оригинальной поэзии Л. Мартынова хлебниковские “звуковые цепочки” не только сопровождают сюжетное движение, но и порой составляют семантику вещи. В стихотворении «Вологда» (1933) в такую цепочку входят слова: хóлода — Вологда — веселого — смолода — расколота — золото — перемолото.
В стихотворении «Рассвет» (1933) “хлебниковскую группу” образуют не только повторенное двустишие: „Нелюбимая моя, / Ты любимая моя!“ — но и пассаж, построенный на звуковых группах — ор — ар:
Город стар,
Город сед,
Городу тысяча сто сорок лет.
Дом стар,
Стар забор,
Стар бульвар,
Стар собор,
Стар за городом бор ‹...›
Немало хлебниковских “звуковых цепочек”, или впервые мотивированных Хлебниковым “поэтических этимологий”, обнаруживаются у таких, в целом, от него далеких поэтов, как Мандельштам и Цветаева. У Мандельштама в стихотворении «Чернозем» (1935):
Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
‹...›
‹...› безоружная в ней зиждется работа —
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.
И все-таки, земля — проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай...
‹...›
Черноречивое молчание в работе.
К Хлебникову восходят неологизмы — простые и составные (переуважена, перечерна), фонетические “лжеродственники” (в холе — в холках, обух — бухай), семантические группы, связанные друг с другом иногда на каламбурной основе (безоружное — безокружное в окружности, черноречивое молчание). К Хлебникову восходят подчеркнуто-наивные фигуры, принцип которых усвоен зрелым Мандельштамом: „Несется земля — меблированный шар, / И зеркало корчит всезнайку“ (1935).
Многие хлебниковские “зерна” — у зрелой Марины Цветаевой: специфические неологизмы (перехожих ступней, всеутесно, всерощно, в век турбин и динам, слава... скороходкам, сей ухтыл в поларшина — 1931), звуковые цепочки (без дна и без дня, Строительница струн — приструнно... — 1923; ср. у Хлебникова: Пули / Пели. / Пали в Горячие поля — ///, 238), поэтические этимологии (Минута минущая: минешь! / Так мимо не... Минута мерящая! Малость / Обмеривающая... Минута... мающая! Мнимость / Вскачь медлящая... / Нас мелящая! Ты, что минешь: / Минута: милостыня... / Размино-вение минут — 1923), семантизация аффиксов (Рас-стояния... Нас расставили, рас-садили, расклеили, распаяли, развели, распяв, рассорили-рассорили, расслоили, расстроили, растеряли, рассовали — 1925).
У обэриутов, неофутуристов двадцатых годов, преобладает устраненный взгляд ребенка или дикаря, обновляющий мир, сообщающий ему неожиданную форму, возрождающий изначальную образность и порождающий небывалую метафоричность, вереницы сравнений, далеких от литературной традиции. К этому хлебниковскому направлению примыкает и Заболоцкий.
В поэзии Заболоцкого — особенно послевоенного — силен напев, связывающий его с Блоком. Но Заболоцкий начинал с подражания Хлебникову и развития его открытий. В его поздней поэзии соединились две эти противоположные тенденции, которые, казалось бы, исключают друг друга. Стихотворение «Тбилисские ночи» (1948) по мелодическому рисунку, по интонации и образности — блоковское; к Блоку (а через Блока — к Некрасову) восходит и обращение к женщине:
Отчего, как восточное диво,
Черноока, печальна, бледна,
Ты сегодня всю ночь молчаливо
До рассвета сидишь у окна?
‹...›
Хочешь, завтра под звуки пандури
Сквозь вина золотую струю
Я умчу тебя в громе и буре
В ледяную отчизну мою?
В трехстопном анапесте слышится некрасовское:
Что ты жадно глядишь на дорогу...
(«Тройка», 1846)
или:
Если мучимый страстью мятежной...
(1847)
и блоковское:
В черных сучьях дерев обнаженных...
(«Унижение», 1911)
Некрасов соединяется с Блоком совсем уже неожиданно в строфе, кажущейся совмещением цитат из обоих поэтов (ср. у Некрасова: „Так зачем же ты кутала в соболь / Соловьиное горло свое?“ — а у Блока: «Я помню нежность ваших плеч...»; «Черный ворон в сумраке снежном, / Черный бархат на смуглых плечах...» и многое другое):
Я закутаю смуглые плечи
В снежный ворох сибирских полей,
Будут сосны гореть словно свечи
Над мерцаньем твоих соболей.
И вот в этот романсный напев вторгается хлебниковская образность — очеловеченные животные, материализованные абстракции:
Вскрикнут кони, разломится время,
И по руслу реки до зари
Полетим мы, забытые всеми,
Разрывая лучей янтари.
Парадоксальное соединение противоположных поэтических миров — гармонически-музыкального (блоковского) и наивно (впервые) зримого, дисгармоничного (хлебниковского) — встречается едва ли не в каждом стихотворении позднего Заболоцкого. В написанном трехстопным амфибрахием мелодичном «Лебеде в зоопарке» (1948) первый, блоковский, тип выражен так:
Плывет белоснежное диво,
Животное, полное грез.
Колебля на лоне залива
Лиловые тени берез...
Противоположный тон — хлебниковский — перебивает, внося скрежещущий диссонанс:
И звери сидят в отдаленье,
Приделаны к выступам нор,
И смотрят фигуры оленьи
На воду сквозь тонкий забор.
Приделанные звери и смотрящие фигуры сменяются возвращающейся торжественной мелодией:
Крылатое диво на лире
Поет нам о счастье весны.
Н.А. Заболоцкий многим обязан Хлебникову; об этом пишет поэт К. Ваншенкин, обнаруживая у Хлебникова строки, предвосхищающие Заболоцкого (Мысль, рождена из длинной трубки, / Проводит борозды чела — из поэмы «Шаман и Венера»), и „типичную для Заболоцкого как бы пародию на идиллический пейзаж“,2 дело, однако, не только в совпадениях или заимствованиях. Заболоцкий обязан Хлебникову главным: целостной системой поэтического мира, воспринятого как замкнутое пространство («И в углу невысокой вселенной...» — 1948), где царят сверхматериальные закономерности, под влиянием которых газ оказывается жидкостью, а жидкость — твердым телом („Лежал целомудренный влаги кусок“ — «Лесное озеро», 1938), неопределенное — в точности исчисляемым („Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел...“ — «Ночной сад», 1936, или „Четыреста красавцев гондольеров / Вошли в свои четыреста гондол“ — «Случай на Большом Канале», 1958), временнóе — пространственным («Архитектура осени...»).3
дело, однако, не только в совпадениях или заимствованиях. Заболоцкий обязан Хлебникову главным: целостной системой поэтического мира, воспринятого как замкнутое пространство («И в углу невысокой вселенной...» — 1948), где царят сверхматериальные закономерности, под влиянием которых газ оказывается жидкостью, а жидкость — твердым телом („Лежал целомудренный влаги кусок“ — «Лесное озеро», 1938), неопределенное — в точности исчисляемым („Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел...“ — «Ночной сад», 1936, или „Четыреста красавцев гондольеров / Вошли в свои четыреста гондол“ — «Случай на Большом Канале», 1958), временнóе — пространственным («Архитектура осени...»).3
Отношение поэтической системы Заболоцкого к Хлебникову можно иллюстрировать интересным примером: 1932 — дата двух стихотворений Заболоцкого на одну и ту же тему и под одним и тем же заглавием — «Осень». Одно из них, небольшая двухчастная поэма, было опубликовано по рукописи тридцать три года спустя, в 1965 году,4 второе — всего только два года после написания, в «Известиях» (1934, 18 ноября). Можно думать, что первую «Осень» Заболоцкий и не пытался печатать; в 1933-м она была бы принята в штыки — ведь в самом начале этого года появилась поэма «Торжество земледелия», вызвавшая политический и литературный скандал. Эта первая «Осень» — вещь последовательно хлебниковская, описание мужика, с которого она начинается, соответствует характеристике, данной Хлебникову Ю. Тыняновым: „Новое зрение, очень интимное, почти инфантильное ‹...› оказалось новым строем слов и вещей“.5
второе — всего только два года после написания, в «Известиях» (1934, 18 ноября). Можно думать, что первую «Осень» Заболоцкий и не пытался печатать; в 1933-м она была бы принята в штыки — ведь в самом начале этого года появилась поэма «Торжество земледелия», вызвавшая политический и литературный скандал. Эта первая «Осень» — вещь последовательно хлебниковская, описание мужика, с которого она начинается, соответствует характеристике, данной Хлебникову Ю. Тыняновым: „Новое зрение, очень интимное, почти инфантильное ‹...› оказалось новым строем слов и вещей“.5
В овчинной мантии, в короне из собаки,
Стоял мужик на берегу реки,
Сияли на траве, как водяные знаки,
Его коровьи сапоги.
Сколько раз Хлебников, вслед за современной ему газетой, с чуть иронической наивностью твердил о том, что на троне — новый монарх:
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
— Да будет народ государем,
Всегда, навсегда, здесь и там!
Пусть девы споют у оконца,
Меж песен о древнем походе,
О верноподанном Солнца,
Самодержавном народе.
(«Война в мышеловке», II, 253)
Или:
Народ поднял верховный жезел,
Как государь идет по улицам.
(III, 24)
Именно этот новый царь и появляется в «Осени» Заболоцкого в мантии (овчинной) и короне (из собаки). Понятно, что царь живет во дворце; следует пассаж, выдержанный в духе Хлебникова, начиная с „холма предков“:
Мужик стоял и говорил:
„Холм предков мне немил.
Моя изба стоит как дура,
И рушится ее старинная архитектура,
И печки дедовской портал
Уже не посещают тараканы —
Ни черные, ни рыжие, ни великаны,
Ни маленькие. А внутри сооружения,
Где раньше груда бревен зажигалась,
Чтобы сварить убитое животное, —
Там дырка до земли образовалась,
И холодное
Дыханье ветра, вылетая из подполья,
Колеблет колыбельное дреколье,
Спустившееся с потолка и тяжко
Храпящее...“
Как часто бывает у Хлебникова, здесь ощутимо перемешаны несоединимые пласты речи, выраженные “стилистическими цитатами”: 1. старинная архитектура, портал; 2. тараканы, дырка, изба стоит как дура; 3. внутри сооружения, сварить убитое животное, 4. дыхание ветра, колеблет, тяжко храпящее... Первый слой — профессионально-архитектурный, второй — просторечно-прозаический, третий — деловито-научный, четвертый — условно-поэтический; причем все эти четыре речевых пласта обнажены — они резко сталкиваются друг с другом, как бы производя при этом скрежет. В дальнейшем тексте «Осени», подражающем оде (гимну), скрежет усиливается:
„‹...› Приветствую тебя, светило заходящее,
Которое избу мою ласкало
Своим лучом? Которое взрастило
В моем старинном огороде
Большие бомбы драгоценных свекол!
Как много ярких стекол
Ты зажигало вдруг над головой быка,
Чтобы очей его соединение
Не выражало первобытного страдания!
О солнце, до свидания!
Недолго жить моей избе:
Едят жуки ее сухие массы,
И ломят гусеницы нужников контрфорсы,
И червь земли, большой и лупоглазый,
Сидит на крыше и как царь поет“.
Пассаж был бы выдержан в декламационно-одическом стиле, если бы не демонстративно-псевдонаучное, очей его соединение (особенно экспрессивное благодаря поэтическим очам, не идущим к делу), прозаические избе, быка, свекол, огороде, жуки, просторечный эпитет лупоглазый, ученое ее сухие массы, и в особенности профессионально-архитектурное контрфорсы, производящее сильное впечатление вследствие сочетания с нужниками, да еще усиленное поэтической инверсией: нужников контрфорсы. К стилю гимна примыкает перифраза червь земли, комически продолженная: сидит на крыше (червь... сидит!) и еще более комическим сравнением как царь поет. Стилистическая какофония продолжается, усиливаясь:
Мужик замолк. Из торбы достает
Пирог с говяжьей требухою
И наполняет пищею плохою
Свой невзыскательный желудок.
Имея пару женских грудок,
Журавль на циркульном сияет колесе,
И под его печальным наблюденьем
Деревья кажутся унылым сновиденьем,
Поставленным над крышами избушек.
И много желтых завитушек
Летает в воздухе. И осень входит к нам,
Рубаху дерева ломая пополам.
Вторжение в нейтрально-повествовательный текст пародийно-ученых формул (наполняет пищею... Свой невзыскательный желудок) создает внезапный зигзаг. Другой зигзаг — немотивированное деепричастие имея, вводящее удивительное сочетание пару женских грудок. Другое сочетание: глагол сияет, относящийся к журавлю, загадочное определение циркульное при существительном колесе, поэтическое сновиденье с прозаическим эпитетом унылое и необычайное по своей конкретности причастие поставленное, относящееся к сновиденью (поставленное — как спектакль? или как шкаф?). Затем пейзаж превращается в детский рисунок — „Много желтых завитушек / Летает в воздухе“, и, наконец (в непонятной функции, но, несомненно, торжественно), появляется осень, которой и посвящено стихотворение. Следует патетическое обращение к читателю и характерное как для Хлебникова, так и для Заболоцкого натурфилософское отступление, в котором дерево отождествлено с человеком:
О слушай, слушай хлопанье рубах!
Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах
И в каждом камне Ганнибал таится.
Вот наступает ночь. Река не шевелится.
Не дрогнет лес. И в страшной тишине,
Как только ветер пролетает,
Ночное дерево к луне
Большие руки поднимает
И начинает петь. Качаясь и дрожа,
Оно поет, и вся его душа
Как будто хочет вырваться из древесины,
Но сучья заплелись в огромные корзины,
И корни крепки, и земля кругом,
И нету выхода, и дерево с открытым ртом
Стоит, сражаясь с воздухом и плача.
Первая часть «Осени» завершается размышлениями мужика, выдержанными в несвойственном ему стиле не то учебного пособия, не то научно-популярного очерка, не то бюрократической тирады:
Мужик сказал: „Достойно удивленья,
Что внутренности таракана
На маленькой ладошке микроскопа
Меня волнуют так же, как Европа
С ее безумными сраженьями.
Мы свыклись с многочисленными положеньями
Своей судьбы, но это нестерпимо —
Природу миновать безумно мимо“.
После чего происходит волшебное превращение, причем сказка парадоксально сопрягается с крайней материальной конкретностью:
И туловище мужика
Вдруг принимает очертания жука,
Скатавшего последний шарик мысли,
И ночь кругом, и бревна стен нависли,
И предки равнодушною толпой
Сидят в траве и кажутся травой.
Вторая часть повествует о мужике, идущем „в колхозный новый дом“, где, может быть, свершатся ожиданья людей и животных. Встречаются яркие и твердые строки, однако в целом эта часть вялая, аморфная. Заболоцкий, видимо, не доделал стихотворения и, отбросив его, написал другое, в котором кое-что из первой «Осени» использовал (ср. „колечки / И завитушки осени“ в строфе 5, а также столь любимый Заболоцким персонаж Жука, строфа 6):
ОСЕНЬ
Когда минует день и освещение
Природа выбирает не сама,
Осенних рощ большие помещения
Стоят на воздухе, как чистые дома,
В них ястребы живут, вороны в них ночуют,
И облака вверху, как призраки, кочуют.
Осенних листьев ссохлось вещество
И землю всю устлало. В отдалении
На четырех ногах большое существо
Идет, мыча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?
Кленовый лист напоминает нам янтарь.
Дух Осени, дай силу мне владеть пером!
В строенье воздуха — присутствие алмаза.
Бык скрылся за углом,
И солнечная масса
Туманным шаром над землей висит,
И край земли, мерцая, кровенит.
Вращая круглым глазом из-под век,
Летит внизу большая птица.
В ее движеньях чувствуется человек.
По крайней мере он таится
В своем зародыше меж двух широких крыл.
Жук домик между листьев приоткрыл.
Архитектура Осени. Расположенье в ней
Воздушного пространства, рощи, речки,
Расположение животных и людей,
Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет, —
Вот то, что выберем среди других примет.
Жук домик между листьев приоткрыл
И, рожки выставив, выглядывает,
Жук разных корешков себе нарыл
И в кучку складывает,
Потом трубит в свой маленький рожок
И вновь скрывается, как маленький божок.
Но вот приходит ветер. Всё, что было чистым,
Пространственным, светящимся, сухим, —
Всё стало серым, неприятным, мглистым,
Неразличимым. Ветер гонит дым,
Вращает воздух, листья валит ворохом
И верх земли взрывает порохом.
И вся природа начинает леденеть.
Лист клена, словно медь,
Звенит, ударившись о маленький сучок.
И мы должны понять, что это есть значок,
Который посылает нам природа,
Вступившая в другое время года.
Формально Заболоцкий ушел в сторону от хлебниковской манеры; здесь он кажется более классичным (строфы a b a b с с с вариантом в заключительной строфе — a a b b с с), а его стилистические зигзаги более мотивированными. В уже цитированной выше статье Ю. Тынянов подчеркивал: „Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивающее малое с большим ‹...› И вот случайное стало для Хлебникова новым элементом искусства ‹...› Хлебников ‹...› открывает новый строй, исходя из случайных смещений“ (там же). Кажется, что здесь, во второй «Осени», “случайных смещений” меньше, — но это только кажется. Строфа 1 представляет осенние рощи как закрытые помещения, чистые дома, строфа 2 содержит элементы научной речи (вещество осенних листьев) и школьного учебника (Кленовый лист напоминает нам янтарь), строфа 3 — пародийно-романтические (Дух Осени...) и противоречащие им научные (солнечная масса) формулы, которые развиты в строфе 4, где, однако, физика уступает место антропологии; в конце строфы 4 появляется детский рисунок (Жук... домик...), развернутый в следующей строфе 5 (колечки, завитушки) и в особенности в 6-й (Жук... домик..., рожки выставив, корешков, кучку). Детский взгляд снова появится в самой последней строфе, 8-й (Лист... ударившись о маленький сучок), которая завершается терпеливыми объяснениями учителя школьникам (И мы должны понять, что это есть значок...). Во второй «Осени» сменяются, постоянно взаимодействуя, несколько противоположных стилей, обновляя друг друга; при этом стихотворение делится на две равные части по четыре строфы, начинающиеся обе “архитектурным” мотивом (I — „Осенних рощ большие помещенья...“, V — „Архитектура Осени, Расположенье в ней / Воздушного пространства, рощи, речки, / Расположение животных и людей“).
Все эти образно-стилистические элементы способствуют обновлению зрения: мир увиден впервые, с небывалой свежестью. Понятно, как обновляется привычный облик быка в наивно-перифрастической, нелепой формуле: „На четырех ногах большое существо / Идет мыча...“; ту же роль играют „колечки и завитушки листьев“, и жук, который „трубит в свой маленький рожок“. Столкновение разноопытных взглядов на мир — инфантильного, научного, учительского, романтического, — придает изображению яркость. А столкновение разнокачественных стилей порождает новый, казавшийся невозможным поэтический язык. Открывателем таких “сопряжений далековатых стилей”, такой зигзагообразной стиховой речи, мотивированной первобытностью наивного взгляда и случайностью спонтанного бытия, был Хлебников:
Друзьями верными несомая,
По степи конница летела.
Как гости, как старинные знакомые,
Входили копья в крикнувшее тело.
А конь скакал...
Как желт
Зубов оскал!
И долго медь с распятым Спасом
Цепочкой била мертвеца.
И как дубина: „Бей по мордасам!“
Летит от белого конца...
(«Ночь в окопе», I, 178–179)
Впрочем, и у Хлебникова есть стихотворение, озаглавленное «Осень» (1921). Здесь многое предвосхищает Заболоцкого — например, отождествление растений (прежде всего, деревьев) и человека:
Где опустило солнце осеннее
Свой золотой и теплый посох
И золотые черепа растений
Застряли на утесах,
Реяли сонные тучи осени синей.
Но небу ясному мечется иней.
Лишь золотые трупики веток
Мечутся дико и тянутся к людям:
„Не надо делений, не надо меток,
Вы были нами, мы вами будем“.
Бьются и вьются,
Сморщены, скрючены,
Ветром осенним дико измучены.
Улиц тянулись кверху уступы.
Черных деревьев голые трупы
Черные волосы бросили нам,
Точно ранним утром, к ногам еще босым,
С лукавым вопросом:
„Вы верите снам?“
„С тобой буду на ты я“.
Сады одевают сны золотые.
Все оголилось. Золото струилось.
Вот дерева призрак колючий:
В нем сотни червонцев блестят.
„Скряга, что же ты?
Пойди и сорви...
Набей кошелек!
Или боишься, что воры
Большие начнут разговоры?“
Сходная мешанина речевых и стилистических слоев, преобладание “случайных” сопоставлений и звучаний над смыслами, метафорическое “очеловечивание” деревьев; характерное для Хлебникова, а вслед за ним для Заболоцкого, смешение грамматических времен (после Сады одевают
‹...› неожиданное прошедшее: Золото струилось ‹...›). В дальнейшем образность строится на метафоре, сближающей силуэт горных цепей с фонограммой, а также с зазубренной бритвой или кремневым ножом (научный характер сопоставлений и отдельных формул — запись далекого звука | А или У в передаче иглой | небесный объем — предвосхищает систему Заболоцкого, в которой, однако, сильна чуждая Хлебникову ирония):
Грозя убийцы лезвием,
Трикратною смутною бритвою
Горбились серые горы.
Дремали здесь мертвые битвы,
С засохшею кровью гнева и ссоры —
Это Бештау — грубый, кривой,
В всплесках камней свободней разбоя,
Похожий на запись далекого звука,
На А или У в передаче иглой,
И на кремневые стрелы
Древних охотников лука,
Полон духа земли, облаком белым
Небу грозил боевым лезвием,
Точно оно, слабое горло, нежнее, чем лен.
Он же — кремневый нож
В грубой жесткой руке,
К шее небес устремлен...
Но не смутился небесный объем:
По-прежнему ясно чело.
Как прокаженного крепкие цепи
Бештау связали,
Прибили к долу и степи...
„Бесноватый дикарь — будь вдалеке!“
По небу ходят белые полосы
На записи каменной голоса,
На почерке звука жили пустынники.
В светлом бору, в чаще малинника —
Слушать зарянок
И желтых овсянок —
Жилою была горная голоса запись.
Хлебников продолжает метафорическую разработку: запись голоса (фонограмма) сменяется Чертежом российских железных дорог, на который похоже дерево осени, или собаками и овцами:
Горы мирно лежат, на лапы морды свои положив,
А в городе смотрятся в окна
Писатели, дети, врачи и торговцы.
Это зеленые крыши, как овцы,
Спят мирным сном!
Все мирно. Дым курился.
Ножами золотыми стояли тополя ‹...›
Все эти стилистические парадоксы и временны́е перебои учителя преобразуются и усиливаются в поэзии его преданного ученика.
Важнейшие черты поэтики раннего Заболоцкого восходят к Хлебникову, приобретая в «Столбцах» (1926–1928) своеобразное качество. К ним относятся принципы “голого слова”, обмана (нарушения ожидания) и культурно-исторической многослойности. Принцип “голого слова” опирается на инфантильную непосредственность восприятия и представляет собой, по точному определению исследователя, „попытку освободить слово от ореолов, пустить его в строку голым — пускай само набирает значения, какие может. Имитация первозданного названия предметов“.6 Пример:
Пример:
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки,
Сидят и держат их перед собой,
Не увлекаясь быстрою ездой.
(«Ивановы», 1928)
Классический стих построен на удовлетворении нескольких видов ожидания: метрико-ритмического, рифменного, стилистического.
Игра на обмане нередка и в классической поэзии. Одним из образцов может служить конец пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом», который резко нарушает инерцию стиха. Книгопродавец произносит очередной монолог и утверждает в заключение:
‹...› Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И, признаюсь — от вашей лиры
Предвижу много я добра.
Поэт
Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.
На “рифменном обмане” строятся известные шуточные (обычно полупристойные) песенки. Своеобразный пример — стихотворение Саши Черного «Переутомление», в котором исписавшийся популярный поэт лихорадочно ищет рифмы, — вот последнее четверостишие:
Нет, не сдамся... Папа-мама,
Дратва-жатва, кровь-любовь,
Драма-рама-панорама,
Бровь-свекровь-морковь... носки!
Как правило, нарушение производит впечатление комизма. В «Столбцах» — вслед за Хлебниковым — самые различные формы обмана. В стихотворении «На рынке»:
В уборе из цветов и крынок
Открыл ворота старый рынок.
Такое начало со смежной рифмовкой предполагает нечто подобное и в продолжении. Однако дальше так:
Здесь бабы толсты, словно кадки
Их шаль невиданной красы ‹...›
Теперь читатель ожидает перекрестной рифмовки (скажем, например: кадки — красы — ухватки — весы), но получает он вот что:
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Читатель соглашается на новое предложенное ему условие и готов считать стих белым, однако с регулярным чередованием мужских и женских окончаний; следующая строка это ожидание оправдывает:
Сверкают саблями селедки, —
но дальнейшие почему-то возвращают нас к стиху рифмованному:
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
Среди всех этих перемен и перескоков остался неизменен один повтор: чередование мужских и женских окончаний (кадки — красы, великаны — воде, селедки, кротки — ножом, ужом), но теперь и он нарушается — за смежными мужскими (ножом — ужом), ломая наше ожидание, следует новая пара мужских рифм:
И мясо, властью топора,
Лежит, как красная дыра.
Теперь осталось лишь одно последнее условие — закономерное и, казалось бы, неизбежное: ритмическое. До сих пор не нарушался четырехстопный ямб, и это — последняя опора читательского ожидания. Описывается собака, о ней сказано:
‹...› кудрявый пес
Несет на воздух постный нос ‹...›
И голова как блюдо ‹...›
Здесь четырехстопный ямб внезапно уступил место трехстопному, это несколько режет слух, однако дальше — хуже:
И ноги точные идут,
Сгибаясь медленно посередине.
Последняя строка нарушает несколько ожиданий: и рифменное, и ритмическое, и жанрово-стилистическое; читатель, ждущий продолжения стихов, вдруг получает обрывок прозы (хотя чисто формально эту строку и можно толковать как ямбический пятистопник). Нарушения ожиданий всех родов — важнейший иронический прием Заболоцкого, который ведет с читателем (конечно, искушенным) такую игру. Это устойчивый стилистический признак в поэмах Хлебникова. Примеры обманов:
Рифма:
Волшебно-праздничною рожей,
Губами красными сверкнув,
Толпу пугает чернокожий,
Копье рогожей обернув,
За ним с обманчивой свободой
Рука воздушных продавщиц,
Темнея солнечной погодой,
Корзину держит овощей.
(«Поэт», 1919)
Ритм:
Опять брони блеснул хребет,
И вновь пустыня точно встарь,
Но служит верный пулемет
Обедню смерти, как звонарь.
Друзьями верными несомая,
По степи конница летела.
Как гости, как старинные знакомые,
Входили копья в крикнувшее тело.
(«Ночь в окопе», 1920)
С тем же “обманом ожидания” связаны и сравнения Заболоцкого. Сравнение — его важнейший прием, оттеснивший другие, даже метафоры. В «Столбцах» сравнение не упрощает и не уточняет восприятие, у него другая функция. Из того же стихотворения «На рынке»:
1. бабы толсты, словно кадки ‹...›
2. огурцы, как великаны ‹...› плавают в воде
3. сверкают саблями селедки
4. мясо ‹...› лежит, как красная дыра
5. пасть (собаки) открыта, словно дверь
6. И голова, как блюдо ‹...›
7. Костыль, как деревянная бутыль
8. визгнул палец, словно крот
9. рот большой, как рукоять
10. весы, как магелланы
11. И шапки полны, как тиары, / Блестящей медью
12. И лампа взвоет, как сурок.
Двенадцать сравнений на 70 строк, — они составляют около 20% текста, — небывалая пропорция. Некоторые из них обладают отчетливой наглядностью (3, 5, 7), другие понятны, хоть и вызывают удивление (1, 2, 4, 11), остальные загадочны (6, 8, 10, 12). Почему „визгнул, словно крот“ или „взвоет, как сурок“? Разве кротам свойственно визжать, а суркам — выть? Большинству читателей это неизвестно. Почему „весы, как магелланы“? Причем тут португальский навигатор XVI века? Может быть, имеется в виду убийство Магеллана и тот факт, что его тело плавало в крови? Так или иначе, сравнения в стихотворении «На рынке» призваны не столько уточнить образы, сколько ввести в данный участок реальности возможно больше фактов из других участков совершенно других реальностей: сказочных, бытовых, исторических, инонациональных, — все это сообщает тексту многосмысленность и фантасмагоричность. Впрочем, и это — от Хлебникова:
Как самовар, блестит затылок ‹...›
‹...›
Сухая крышка мухомора
Летит, как довод разговора.
(«Вила и Леший»)
Сидел на корточках медведь,
Неодолимый, точно медь,
‹...›
‹...› служит верный пулемет
Обедню смерти, как звонарь.
(«Ночь в окопе»)
Принцип культурно-исторической многослойности.
У Заболоцкого намеренно хаотично соединяются вполне точно обозначенные “цитаты” — стилей, культурных комплексов, авторов, произведений. Обычно эти разнородные элементы друг с другом несоединимы. Стихотворение «Бродячие музыканты» начинается рассказом о троих, идущих в город играть, — этот рассказ напоминает балладу Уланда «Проклятье певца», да и другие романтические баллады на тот же распространенныи сюжет; стилистически начало отсылает читателя к разным предшественникам:
Закинув дудку за плечо,
Как змея, как сирену,
С которой он теперь течет
Пешком, томясь, в геенну ‹...›
Размер (чередование четырехстопного ямба мужского окончания с трехстопным женского) вызывает в памяти балладную строфику (ср.: пушкинский «Жених», написанный строфой «Леноры» Бюргера); однако этот ритм у Заболоцкого скандально ломается:
‹...› В котором — рев, в котором — рык
И пятаком летанье золотое.
(Здесь вместо трехстопного ямба — пятистопный!)
Так вышел музыкант — старик.
(А здесь — снова — четырехстопный.)
Течет — в смысле ‘идет’, в геенну, змей — относятся к одному из этих источников, самому архаичному; дудка и пешком — к другому. Про второго музыканта сказано — с еще более резким нарушением ритмической инерции:
Он был горбатик, разночинец, шаромыжка,
С большими щупальцами рук,
Его вспотевшие подмышки
Протяжный издавали звук.
Мы вступили в круг футуристической образности, близкой не столько Хлебникову, сколько Д. Бурлюку и раннему Маяковскому. Описание города возвращает в XVIII век, соединенный, впрочем, со ссылкой на Салтыкова-Щедрина:
На стогнах солнце опускалось,
Неслись извозчики гурьбой,
Как бы фигура пошехонцев
На волокнистых лошадях ‹...›
Затем начинает играть второй скрипач:
Слепил перстом улыбочку
На личике коротком
И, визгнув поперечиной
По маленьким струнам,
Заплакал — искалеченный —
Тилим-там-там.
В этом трехстопном ямбе с чередованием дактилических и мужских рифм проскальзывает голос Лермонтова, автора «Свидания»:
Уж загорев дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ ‹...›
Оно и понятно, поскольку Лермонтов в этом стихотворении уже присутствует: о гитаристе было сказано, что он „огромный нес в руках крестец / С роскошной песнею Тамары“, а потом он „ ‹...› с песней нежною Тамары / Уста тихонько растворил“:
И в звуке том — Тамара, сняв штаны,
Лежала на кавказском ложе.
Сиял поток раздвоенной спины
И юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
Махали руками,
И стр-растные дикие звуки
Всю ночь р-раздавалися там!!!
Тилим-там-там!
Эти стихи — перепев лермонтовских строф стихотворения «Тамара»:
На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчуг убрана,
Ждала она гостя... Шипели
Пред нею два кубка вина.
Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там.
И Заболоцкий игриво добавляет: „Тилим-там-там“.
Редактируя себя для позднейшего издания и приближая раннего Заболоцкого ко вкусам позднего, поэт смягчит пародию:
И в этой песне сделалась видна
Тамара на кавказском ложе.
Пред нею, полные вина,
Шипели кубки дотемна,
И юноши стояли тоже...
Различие между обоими вариантами свидетельствует о пути, пройденном Заболоцким за три десятилетия. Он подобен эволюции наиболее почитаемого им поэта, Гете, который в период “веймарского классицизма” переделывал стихотворения своей юности, по возможности сглаживая и успокаивая свой собственный “штурм унд дранг”. Такой переделке подверглось, например, «Свидание и разлука» («Willkommen und Abschied»),7 стихотворение, которое Заболоцкий перевел в 1946 году (в сотрудничестве с пианисткой М.В. Юдиной); интересно, что поздний Заболоцкий, переводя, невольно приблизился к позднему, уже классическому, Гете — он гармонизировал гётевский текст параллелизмами, повторами разных типов, уравновешенностью синтаксиса.
стихотворение, которое Заболоцкий перевел в 1946 году (в сотрудничестве с пианисткой М.В. Юдиной); интересно, что поздний Заболоцкий, переводя, невольно приблизился к позднему, уже классическому, Гете — он гармонизировал гётевский текст параллелизмами, повторами разных типов, уравновешенностью синтаксиса.
Душа в огне, нет силы боле,
Скорей в седло — и на простор!
Уж вечер плыл, лаская поле,
Висела ночь у края гор.
Уже стоял, одетый мраком,
Огромный дуб, встречая нас.
Уж тьма, гнездясь по буеракам,
Смотрела сотней черных глаз ‹...›
8
В «Бродячих музыкантах» пародийная ссылка на Лермонтова меняется ссылкой на иной “источник”:
Вокруг него — система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.
Очевидно, эти строки восходят к учебнику диамата: слово ‘система’ — одно из частых в специфически советской лексике: система партпросвещения, работать в системе Академии наук, определенная система взглядов и т.д. Видимо, “советскость” и вызвала озлобление казенных критиков: две особенно грубые статьи о «Столбцах» озаглавлены: одна — «Система кошек» («На литературном посту», 1929, № 15), другая — «Система девок» («Печать и революция», 1930, № 4).
Перечисленные формально-стилистические особенности сообщают тексту Заболоцкого остраненность в том смысле, какой имел в виду В. Шкловский. Наилучшим описанием поэтики раннего Заболоцкого остается работа Романа Якобсона «Новейшая русская поэзия», посвященная Хлебникову. Здесь, понятно, о Заболоцком нет речи — как поэт он еще не родился; однако, многое из того, что Якобсон говорит об учителе, относится к ученику: обнажение приема; повседневный словарь — „в сочетании ошеломляющем“; широкое использование lapsus’a (оговорки) — в согласовании чисел, времен и падежей; нарушение синтаксического равновесия („два параллельных члена качественно или количественно не эквиваленты“); обнажение определения; особые сравнения („У Хлебникова сравнения почти не оправданы действительным впечатлением сходства объектов, а являются композиционными заданиями“9 ); обнажение рифмы — „эмансипация ее звуковой валентности от смысловой связи“. К наблюдениям Якобсона добавлю характеристику, которую дал Хлебникову Ю. Тынянов:
); обнажение рифмы — „эмансипация ее звуковой валентности от смысловой связи“. К наблюдениям Якобсона добавлю характеристику, которую дал Хлебникову Ю. Тынянов:
Хлебниковская стиховая речь — это не конструктивная клейка, это интимная речь современного человека, как бы подслушанная со стороны, во всей ее внезапности, в смешении высокого строя и домашних подробностей, в обрывистой точности, данной нашему языку наукой XIX и XX веков, в инфантилизме городского жителя.
10
И далее Тынянов утверждает, что
голос Хлебникова в современной поэзии уже сказался: он уже ферментировал поэзию одних, он дал частные приемы другим. Ученики подготовили появление учителя.
11
Николай Заболоцкий — из тех, чью поэзию Хлебников “ферментировал”. Большинство черт, которые Якобсон и Тынянов видят у Хлебникова, свойственны и Заболоцкому. Было бы, однако, невероятно, если бы русский неофутуризм конца 20-х годов повторил футуризм первых двух десятилетий века, — топтание на месте не заслуживает ни внимания, ни изучения. Продолжая Хлебникова, Заболоцкий оказался в известном смысле его противоположностью. Ученик опровергает учителя. Коротко говоря, суть этого утверждения вот в чем:
Футуризм был бунтом личности против нивелирующих сил XX века — во имя самоутверждения; неофутуризм Заболоцкого — признание победы нивелирующих сил над человеком и капитуляция личности перед враждебными ей могущественными “державами”.
————————
Примечания 1 Якобсон Р.
1 Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Прага, 1921, с. 47.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 2 Ваншенкин К.
2 Ваншенкин К. Поэт для читателей. — Литературная газета, 13 ноября, 1985.
 3
3 См. об этом в моей статье «Прощание с друзьями». — Поэтический строй русской лирики. Л., 1973, с. 298–310.
 4 Заболоцкий Н.А.
4 Заболоцкий Н.А. Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта. Большая серия). М.; Л., 1965, с. 307–310.
 5 Тынянов Ю.
5 Тынянов Ю. О Хлебникове (
I, 25).
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 6 Гинзбург Л.
6 Гинзбург Л. О Заболоцком конца двадцатых годов. — Воспоминания о Заболоцком. М., 1977, с. 124.
 7
7 Анализ двух редакций (1777 и 1789) — в статье В.М. Жирмунского «Опыт стилистической интерпретации стихотворений Гёте» (1969), в книге этого автора «Из истории западноевропейских литератур» (1981).
 8
8 Те же строки у Тютчева: „Ночь хмурая, как зверь стоокий / Глядит из каждого куста“.
 9 Якобсон Р.
9 Якобсон Р. Новейшая русская поэзия... с. 39.
 10 Тынянов Ю.
10 Тынянов Ю. О Хлебникове (
I, 27).
 11
11 Там же, с. 20.
Воспроизведено по:
Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования 1911–1998.
М.: Языки русской культуры. 2000. С. 403–427, 821
Изображение заимствовано:
Arman, christened Armand, Pierre Fernandez (b. 1928 in Nice, France; d. 2005 New York).
Spirit of Yamaha. 1997.
Edition size: unique. Technique: sandwich combo.
Dimensions in inches: 81,9×80,7×62,2. Medium: sliced piano and two motorcycles.
www.arman-studio.com/RawFiles/001997.html
————————
Памяти Ефима Григорьевича Эткинда* Лариса Вольперт
Лариса Вольперт ‹...› Судьба Е.Г. Эткинда — в чем-то необычна, а в чем-то и вполне “типична” для советского ученого. Он родился в Петербурге в семье коммерсанта и певицы (отца, арендатора бумажной фабрики, после НЭПа приговорили к многолетней ссылке). В 1941 г. закончил романо-германское отделение филологического факультета Ленинградского университета и ушел добровольцем на фронт; участвовал в освобождении Венгрии, был награжден орденом Красной Звезды. Демобилизовался в 1948 г. и начал преподавать французский и немецкий языки в Ленинградском пединституте иностранных языков. В разгар борьбы с так называемым “космополитизмом” в декабре 1949 г. был уволен, несколько месяцев оставался без работы, жил, по его воспоминаниям, пробавляясь сочинением диссертаций для партийных чиновников („из материала заказчика“), затем устроился в Тульский пединститут. В 1952 г. его неожиданно пригласили в Ленинградский пединститут им. А.И. Герцена на должность доцента (кандидатская диссертация о творчестве Золя была защищена им еще в 1947 г.). В 1965 г. он защитил докторскую диссертацию «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики». В этой работе объединились три главных сферы его будущих научных штудий:
стиховедение, перевод, стилистика. В 1960–70-е годы Е.Г. Эткинд — вдохновенный учитель молодых поклонников поэзии, его книги о стихах («Об искусстве быть читателем», 1963; «Разговор о стихах», 1970) покоряют читателей тонкостью анализа, эрудицией, умением увлечь самыми сложными вопросами стиховедения. Одновременно выходят его работы по поэтике, стилистике, истории литературы. Для филологов-романистов он создает поистине “настольную” книгу — двухтомный «Семинарий по французской стилистике» (1961). Его монография «Бертольд Брехт. Жизнь и творчество» (1971) — образец новаторского описания целостной авангардистской драматургической системы.
Еще одно направление его деятельности — многоаспектное изучение искусства перевода, охватывающее вопросы как теории, так и практики, методики сравнительно-сопоставительного описания. Он основывает сборник «Искусство перевода», публикует основополагающие книги «Поэзия и перевод» (1963), «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» (1965), двухтомник «Мастера русского стихотворного перевода» (1968), «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» (1973); выпускает прекрасную двуязычную антологию «Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв.» (1969).
Е.Г. Эткинд становится одним из неофициальных руководителей всей переводческой деятельности в СССР, области исключительно значимой, так как для многих преследуемых поэтов (Пастернак, Ахматова, Заболоцкий, Слуцкий и др.) эта “площадка” осталась единственным убежищем для творчества. „Нет худа без добра“; грустный парадокс: искусство перевода в СССР достигло невиданного мастерства, а страна, преследующая великих поэтов, вышла в искусстве перевода на первое место в мире. Е.Г. Эткинд выступает и как практик-переводчик (он перевел Д’Обиньи, Корнеля, Барбье, Лопе де Вега, Лонгфелло, Гердера, Лессинга, Шиллера, Гельдерлина, Гейне, Келлера, Фрейлиграта, Брехта, Кестнера и др.).
Знакомство и дружба с Александром Солженицыным, помощь в сборе материалов для «Красного колеса», а также мужественное выступление Ефима Григорьевича на суде в защиту Иосифа Бродского, вызвали преследование со стороны властей. 25.IV.1974 г. в Пединституте был разыгран позорный спектакль по сценарию КГБ; Е.Г. Эткинд был изгнан с кафедры, лишен всех научных степеней и званий; ему было запрещено печататься. Тогда же он был исключен из Союза писателей, в котором состоял с 1956 г. по секции переводчиков. Е.Г. Эткинд был вынужден эмигрировать во Францию.
С октября 1974 г. он — профессор Десятого Парижского университета (читает курсы по русской литературе, стилистике, стиховедению и теории перевода). В 1975 г. в Сорбонне он повторно защищает диссертацию на степень “доктора литературы и гуманитарных наук”; публикует книгу «Записки незаговорщика» (1978), переведенную на многие языки, и издает десятки публицистических статей в защиту культуры, направленных против преследования инакомыслия в СССР.
После того, как в 1986 г. Е.Г. Эткинд выходит на пенсию, он в качестве приглашенного профессора преподает в ведущих университетах Европы и Америки, читая курсы по истории русской литературы, стилистике, теории стиха и перевода и везде притягивает к себе молодежь, руководит научной и переводческой деятельностью молодых филологов. „Его универсальная культура, его энергия, способность мобилизовать молодые энтузиастические силы были поистине фантастическими ‹...› он пересекает материки, покоряя молодых своей страстностью, эрудицией, талантом и особенно — интеллектуальной щедростью. Неутомимый читатель чужих рукописей, он воодушевляет и сплачивает переводчиков и исследователей, разрушая стену академического индивидуализма“,
1
— пишет швейцарский профессор-славист Жорж Нива. Все это время он неутомимо работает как исследователь.
В эмиграции многое из задуманного ранее получает завершение. Он подвергает критике состояние искусства перевода во Франции (монография «Un art en crise: Essai d’une potique de la traduction potique», 1982); издает книги о поэзии и поэтах: «Форма как содержание» (1976), «Стихи и люди (Рассказы о стихотворениях)» (1989); «Русская поэзия от Октябрьской революции до современности» (Мюнхен, 1984; по-немецки); «Там внутри...»: Статьи о русской поэзии ХХ в. (1995). И — что весьма важно — становится одним из организаторов и соавторов многотомного монументального труда — французской «Истории русской литературы» («Histoire de la littrature russe». Fayard); один из подготовленных им разделов — «Серебряный век» — издан теперь по-русски.
2
В последние десятилетия жизни Эткинда-исследователя буквально “захватил” Пушкин. Он опубликовал множество статей о творчестве поэта, об отзвуках в его поэзии французской традиции, издал монографию «Симметрические композиции у Пушкина» (1989). У него была давняя мечта: создать адекватный перевод Пушкина на французский язык. Ему удалось зажечь своей идеей группу талантливых двуязычных переводчиков, и в 1981 г. вышли два тома поэзии по-французски:
Pouchkine A. Oeuvres potiques: En 2 vol. / Publ. sous la dir. d’Efim Etkind; Etude prliminaire et notes d’E. Etkind — Lausanne: L’Age d’Homme, 1981.
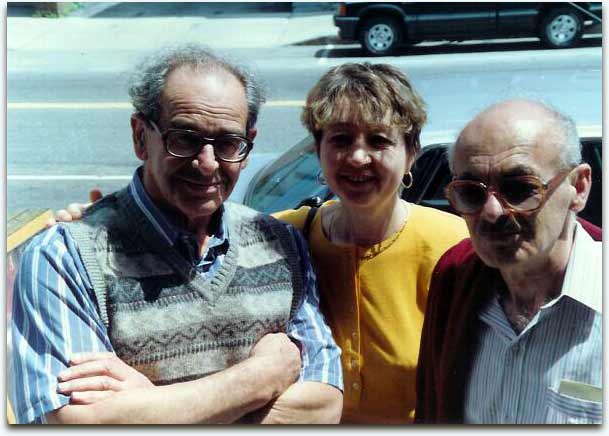
В Европе заслуги Е.Г. Эткинда были по достоинству оценены: его избрали в 1976 г. членом-корреспондентом трех германских Академий: Академии литературы и языка (Дармштадт), Академии наук и литературы (Майнц), Баварской Академии изящных искусств (Мюнхен). В 1986 г. он был награжден Золотой Пальмовой ветвью Франции — за заслуги в области французского просвещения; в 1999 году — избран доктором “honoris causa”.
Ефим Григорьевич был не только блестящим ученым, но и по-настоящему добрым и отзывчивым человеком, способным прийти на помощь по первому сигналу. Крупный, высокий, спортивный (каждое утро — пробежка), с веселыми проницательными глазами (в них таилась скрытая насмешка), он был награжден какой-то особой витальной силой и буквально
излучал энергию. Кто-то очень верно заметил: „Е.Г. Эткинд — из породы
победителей“.
Действительно, он не допустил торжества смерти над собой на фронте (вернулся с орденом), с предельным мужеством выступил на суде в защиту Иосифа Бродского (понимал, что может поехать
на Восток, а не
на Запад), бесстрашно помогал Александру Солженицыну. На него обрушились репрессии. А каков финал? Санкт-Петербургские власти принесли ему извинения, в 1994 г. ему были официально возвращены ученые степени и звания, тогда же он был избран действительным членом Академии Гуманитарных наук России.
Конец жизни Е.Г. Эткинда — поистине творческий взлет. За два последних года он успел издать четыре исключительно содержательных, прекрасно оформленных, ёмких по мысли и по объему книги; каждую в данной сфере можно назвать
итоговой. 1) «Маленькая свобода: 25 немецких поэтов за пять веков в переводах Ефима Эткинда (обратная двуязычная антология)» (1998); 2) «“Внутренний человек” и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы XVIII–XIX вв.» (1998); 3) Двуязычная антология, вобравшая лишь лучшие переводы «А.С. Пушкин. Избранная поэзия в переводах на французский язык» (1999); 4) «Божественный Глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции» (1999), которую он сам назвал «Книгой жизни».
Е.Г. Эткинд — из тех людей, которым удалось осуществить идею своей жизни и полностью
состояться. Сама смерть его пощадила. В октябре, во время пушкинской конференции в Париже, он сделал прекрасный доклад, был остроумен, подвижен и бодр, а в ноябре — его не стало. Он умер, как жил,
непобежденным.
—————————— Примечания
 * Пушкинские чтения в Тарту 2. Тарту, 2000. С. 421–424.
* Пушкинские чтения в Тарту 2. Тарту, 2000. С. 421–424.
 1 Mond. 1999. 27. 11 (перевод Л.В.).
1 Mond. 1999. 27. 11 (перевод Л.В.).
 2 Эткинд Е.Г. Серебряный век: Петербург и Вена // Санкт-Петербург — окно в Россию. СПб., 1998. С. 193–204www.ruthenia.ru/document/392513.html
2 Эткинд Е.Г. Серебряный век: Петербург и Вена // Санкт-Петербург — окно в Россию. СПб., 1998. С. 193–204www.ruthenia.ru/document/392513.html


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
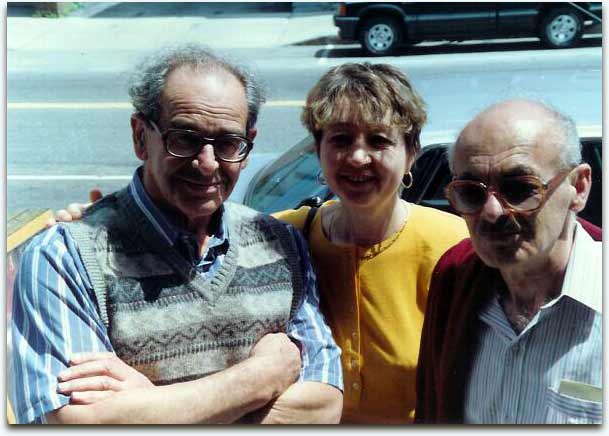 В Европе заслуги Е.Г. Эткинда были по достоинству оценены: его избрали в 1976 г. членом-корреспондентом трех германских Академий: Академии литературы и языка (Дармштадт), Академии наук и литературы (Майнц), Баварской Академии изящных искусств (Мюнхен). В 1986 г. он был награжден Золотой Пальмовой ветвью Франции — за заслуги в области французского просвещения; в 1999 году — избран доктором “honoris causa”.
В Европе заслуги Е.Г. Эткинда были по достоинству оценены: его избрали в 1976 г. членом-корреспондентом трех германских Академий: Академии литературы и языка (Дармштадт), Академии наук и литературы (Майнц), Баварской Академии изящных искусств (Мюнхен). В 1986 г. он был награжден Золотой Пальмовой ветвью Франции — за заслуги в области французского просвещения; в 1999 году — избран доктором “honoris causa”.