Б.М. Гаспаров


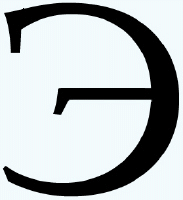 то и некоторые другие стихотворения Хлебникова выглядят, как будто они специально написаны, чтобы проиллюстрировать принцип смыслоразличения, легший в основу структурной фонологии. Каждое двустишие являет собой фонологическую “минимальную пару” словесных знаков, различающихся только одним фонологически релевантным признаком. В двух первых парах различение основывается на оппозиции палатального / непалатального (или, в терминах универсальной номенклатуры дифференциальных признаков у Якобсона, „диезного” / „недиезного”) согласного: [в] vs. [в']. Вторая половина стиха почти с такой же точностью иллюстрирует различительные признаки гласных: „небемольный” vs. „бемольный” ([а] – [о]) и „диффузный” vs. „компактный” ([и] – [о]).
то и некоторые другие стихотворения Хлебникова выглядят, как будто они специально написаны, чтобы проиллюстрировать принцип смыслоразличения, легший в основу структурной фонологии. Каждое двустишие являет собой фонологическую “минимальную пару” словесных знаков, различающихся только одним фонологически релевантным признаком. В двух первых парах различение основывается на оппозиции палатального / непалатального (или, в терминах универсальной номенклатуры дифференциальных признаков у Якобсона, „диезного” / „недиезного”) согласного: [в] vs. [в']. Вторая половина стиха почти с такой же точностью иллюстрирует различительные признаки гласных: „небемольный” vs. „бемольный” ([а] – [о]) и „диффузный” vs. „компактный” ([и] – [о]).В работах по фонологии каламбуры и паронимы нередко используются для иллюстрации и диагностирования фонологически релевантных признаков, поскольку в таких случаях их смыслоразличительная способность выступает на передний план. Склонность Якобсона к такого рода играм хорошо известна (знаменитое „I like Ike”); её экстремальным проявлением служит контрастная пара предложений, составленных в виде цепочки паронимов:
Примеры параномастической игры у Хлебникова и Якобсона выглядят взаимно заменимыми — если не в отношении эстетического достоинства, то в качестве способа обработки языкового материала.
Поэзия, вернее поэтика Хлебникова была предметом самых ранних исследовательских интересов Якобсона.2![]()
![]()
Несмотря на очевидный параллелизм, с одной стороны, усилий поэта-футуриста пересоздать язык, и с другой, усилий современного ему поколения лингвистов пересоздать репрезентацию языка в научном описании, вопрос о конкретных концептуальных нитях, связывавших авангардную поэтику и структурную лингвистику, требует конкретизации. Структурная фонология, в особенность в том строго формальном воплощении, которое она получила в поздних работах Якобсона и его соавторов, — это строго техническая дисциплина, опирающаяся на чётко сформулированные концептуальные постулаты. В этом своём обличье она кажется бесконечно далёкой от интуитивных “откровений” Хлебникова 1910-х годов.
И, однако, то, что фактура стиха у Хлебникова так хорошо согласуется с диагностическими процедурами структурной фонологии, симптоматично для подхода к языку, стоящего за обоими этими феноменами. И для Хлебникова, и для Якобсона возможность параномастической игры — это нечто большее, чем художественный или эвристический приём; в ней находит выражение сущностная природа языка как семиотического поля, в котором формы и значения включены в множественные взаимосвязи. Обнаружить универсальный ключ, который позволил бы увидеть скрытые силы, управляющие этими бесконечными переплетениями в их тотальной всеобщности, возвышающейся над всеми частными проявлениями, — такова конечная цель, к которой устремлены и поэтические “творения” Хлебникова, и усилия Якобсона постигнуть универсальную сущность „звуковой формы языка”.
Обратимся теперь к истокам этого диалога, имевшего кардинальные последствия для направления, принятого теоретической лингвистикой, в особенности во второй половине ХХ века. Наша история берёт начало в январе 1914 года. К этому времени 17-летний Якобсон уже установил связи с группой кубо-футуристов, или будетлян, как они предпочитали называть себя. Его вкладом в движение были стихи радикально “заумного” толка, которые он подписывал псевдонимом „Роман Алягров” (с типичным для Хлебникова или Кручёных сдвигом, имитирующим диалектное произношение):
Будетляне готовились к визиту в Россию общепризнанного вождя футуризма Филиппо Томмазо Маринетти. Полемическая настроенность группы подогревалась сарказмом критиков, любивших показывать на них пальцем как на провинциально неотёсанных последователей мэтра европейского авангарда. В письме к Кручёных „Роман Алягров” выражал настроение кружка с особенной воинственностью:
Визит Маринетти высветил действительно глубокие различия между российской группой и их предполагаемым западным ментором. Идеи Маринетти о том, как вырваться из плена языковых конвенций, в основном относились к двум сферам языка: расширению словаря за счёт фонетических жестов — звукоподражаний и междометий; и синтаксисических приёмов (эллипсис, произвольный словопорядок, отмена пунктуации), имеющих целью “освобождение” слов из рабства грамматических связей (parole in libertà). Знаменитым примером реализации этой программы стало описание битвы при Адрианополе в Балканскую войну (при которой, как и при нападении на Ливию, Маринетти не преминул присутствовать в качестве энтузиастического свидетеля), представлявшее собой словесный поток почти без разделительной пунктуации (но с обилием восклицательных знаков), то и дело перебиваемый выражениями типа „траак-траак ... пик-пак-пам-тумб ... флик флак зинг зинг шьяааак ... чачача чаяак” и т.п.
Итальянская версия преобразования языка полностью игнорировала морфо-лексический потенциал языковых инноваций, опирающийся на экспансию деривационных возможностей слов. Это была футуристическая устремлённость в будущее без оглядки на прошлое, акт индивидуального “своеволия” по отношению к языку, игнорирующий память о заложенных в самом языке потенциальных смыслах, вернее, стремящийся сбросить этот давящий груз прошлого. Когда речь шла о литературных традициях, будетляне и сами были готовы сбросить их „с парохода современности”; но безлично-коллективная стихия языка вызывала у них (в первую очередь у Хлебникова) совсем другое отношение.
Футуристическая поэтика экспрессивных “шумов” и будетлянская поэтика “заумного” языкотворчества исходила из принципиально различного воззрения на то, что представляет собой звуковая материя языка: множество акустических феноменов (квантов “шума”), каждый из которых сам по себе обладает некоторой экспрессивной ценностью, либо семиотическое поле, в котором смысловые ценности возникают символически, из соположения элементов. Переводя этот спор первой половины десятых годов на язык пражской фонологии четверть века спустя, можно сказать, что речь идёт о размежевании “фонетического” и “фонологического” как двух уровней представления звуковой формы языка.
Игра этимологическими либо псевдо-этимологическими (паронимическими) сближениями совершенно не привлекала итальянских футуристов; но для будетлян она составляла ядро их авангардного языкотворчества. Синтаксические манипуляции с готовыми стационарными словами (и тем более увлечение звукоподражанием) представлялись им чем-то совершенно поверхностным и наивным. Истинная инновация должна не просто добавлять что-то на поверхности текста, но привести в движение языковую почву, из которой текст вырастает. Поэтому дорога к авангардному будущему пролегала через архаическое прошлое. Словообразовательный неологизм, будучи шагом вперёд, вместе с тем обращался к возможностям, зачастую коренящимся в историческом прошлом языка; будучи актом индивидуального творчества, он апеллировал к коллективной памяти о языке.
Вооруженные такой позицией, будетляне встретили Маринетти с демонстративным пренебрежением, как носителя идей, бывших в их глазах безнадёжно устаревшими и “провинциальными”. Лившиц так сформулировал это настроение в своих мемуарах:
В стычке русских и итальянских футуристов можно увидеть интересное подобие полемическому противопоставлению немецкого и французского языков (и соответственно, культуры и психологии их носителей) в работах немецких философов и филологов за сто лет до этого. Фридрих и Август Шлегели, Бопп, Гумбольдт выступали с утверждениями о превосходстве языков с развитой морфологией и словообразованием (в первую очередь, конечно, немецкого) над языками, у которых центр тяжести в образовании новых смыслов перенесён на служебные слова и синтаксический порядок (имелись в виду романские языки, об английском в те времена речь не шла). “Превосходство” одних над другими обосновывалось тем, что первые лучше сохранили, при всех исторических изменениях, структурное наследие, восходящее к пра-историческому прошлому, тогда как в „нефлективных” (как их называл Ф. Шлегель) или “аналитических” (как их стали называть позднее) языках изначальная модель распадается и дегенерирует. Замечания об отсутствии у французского языка исторической глубины были общим местом у немецких романтиков в их полемическом утверждении своей “истинно” новаторской (в противовоположность легковесной моде) философии, эстетики и учения о языке.
Можно утверждать, что основными чертами “хронотопа” русских футуристов были симультанность и синтез. Их художественный мир был более панхроническим, чем устремлённым в будущее, поливекторным, а не линейно проспективным. Будущее для будетлян означало не прямолинейный скачок вперёд, а надвременной синтез, в котором линейное течение эмпирического времени будет преодолено, и все его пласты сольются в универсальном единстве.
Для модернистского сознания был типичен взгляд на время и пространство в их взаимосвязи. Усилиям нового поколения поэтов преодолеть однонаправленное течение времени (так сказать, одержать победу над солнцем) соответствовали усилия живописцев преодолеть однонаправленность пространственной перспективы. Хорошо известны теоретические соображения Флоренского на этот счёт. Что касается художественной практики, то здесь устремления нового движения ярче всего выразил Михаил Матюшин, художник, с которым Якобсона связывали тесные дружеские отношения.8![]()
![]()
![]()
Связь между преодолением пространственной и временнóй линейности получила эмблематическое выражение в заглавии мемуаров Лившица: «Полутораглазый стрелец». Лившиц рассказывает, как посреди размышлений об отношении между русским и западным “искусством будущего” ему предстало видение: всадник–скиф, мчащийся из глубин азиатского континента, чей взгляд обращен назад, к Востоку, и лишь “половина” глаза “искоса” глядит по ходу движения, на Запад. Стрелец Лившица действует в точном согласии с предписаниями Матюшина. Но зрительный синтез пространства сочетается у него с синтезом между “Западом” как символом проспективного движения и “Востоком” как локусом архаических архетипов.
Применительно к языку, наиболее полное выражение эта позиция получила в теоретических работах Хлебникова, равно как и в поэзии, в которой он стремился воплотить свои идеи. Апокалиптический всевременной синтез (он же уничтожение эмпирического линейного времени), заставляющий вспомнить о Фёдорове, становится у Хлебникова конкретной творческой задачей, путь к осуществлению которой может быть предсказан с точностью научного закона.
Хлебников видел язык — прежде всего русский, но, в конечном счёте, язык вообще — как непрерывное поле смыслов; каждая смысловая “точка” или квант в этом поле связан отношением сродства с целым рядом других квантов, те в свою очередь ещё с другими, и так далее до бесконечности. В принципе всегда возможно, двигаясь по этим линиям связи, трансформировать любой смысл в любой другой, не нарушая логической непрерывности в каждом посредствующем звене трансформации. Таким образом, язык заключает в себе бесконечные возможности смысловых превращений. Однако использование этого бесконечного потенциала в практической жизни ограничено объёмом того, что говорящие способны удержать в памяти. Карта языковых смыслов, которую мы имеем в сознании, вся перерезана разрывами и лакунами. Они создают искусственные барьеры на пути смысловых метаморфоз, делая каждый смысл прерывным, ограниченным локальной сферой, границы которой определяются случайностью действующих конвенций употребления. Говорящий употребляет язык, не подозревая о громадном резервуаре смысловых возможностей, которые имеются в его распоряжении:
Фрагмент-набросок — самое раннее из теоретических рассуждений Хлебникова — был задуман 19-летним автором как собственная будущая эпитафия (он начинается словами Пусть на могильной плите прочтут: ‹...›). В этой кажущейся экстравагантности есть логика, поскольку откровение тотальных смысловых превращений может явиться сознанию лишь в последний миг перед смертью; эпитафия как бы авансом фиксирует видение, имеющее явиться её субъекту за миг перед смертью. Однако допускается и другая возможность: что потусторонняя страшная быстрота всегда с нами, только мы неспособны уловить полёт нашего собственного сознания, именно из-за его сверхъестественной скорости, и можем “увидеть” нашу мысль, лишь когда она приземляется в конце пути. Тут делу и способен помочь поэт, в силу его способности к более быстрым сопряжениям смыслов, чем в обыденном языковом сознании. Чем больше таких сопряжений сознанию поэта удастся извлечь из глубин языка, тем ближе человечество подойдет к смысловому абсолюту много, неопределённо протяженногo многообразия, непрерывно изменяющегося (ibid.).
Конкретный способ продвижения к этой цели состоит в том, чтобы “заполнить” пустующие пространства между единицами стандартного словаря путём создания новых слов, с таким расчётом, что все в принципе возможные минимальные звуковые переходы от одной словесной единицы к другой будут реализованы.
Эту систему, в которой каждый элементарный звуковой сдвиг приводил бы к такому же элементарному — и при этом предсказуемому — сдвигу содержания, Хлебников сравнивал с периодической системой элементов Менделеева. Её полная реализация предполагает заполнение лакун не только между словами одного языка, но, в идеале, между всеми словами всех языков, рассматриваемыми как совокупное целое. Скольжение из одного смысла в другой, путём элементарного звукового сдвига, приобретает универсальный характер во вселенском масштабе всех языков человечества.
Однако создание новых словесных единиц путём соположения уже существующих и заполнения лакун между ними рассматривалось Хлебниковым лишь как первый этап продвижения к заумному языку. С увеличением массы таких соположений оказывается возможным поставить вопрос о сверхсмысле, заложенном в каждом единичном звуке и представляющем собой общий знаменатель всех содержащих этот звук слов:
Но и это не последний пункт на пути к конечной цели — создания тотального языка будущего, в котором всё будет связано со всем. В воззвании к художникам мира, написанном в 1919 году, посреди всеобщего разрушения и разъединения, Хлебников обращается к художникам и мыслителям всех стран объединить усилия в общей работе (выражение, живо напоминающее об „общем деле” Фёдорова) для разрешения этой задачи вселенского масштаба:
В небольшой статье, посвящённой Хлебникову — одной из своих последних работ, — Якобсон дал языковому проекту Хлебникова проницательную и эмоциональную оценку. Якобсон подчеркнул синтезирующую основу всех творческих усилий Хлебникова, их направленность на постижение всеобщего знаменателя всех смыслов во всех языках:
Этих слова парафрастически выражают усилия самого Якобсона построить единую и универсальную лингвистическую теорию. Кажется, что призыв Хлебникова к языковому общему делу — по крайней мере, тот его аспект, который предполагал участие “холодного разума” науки, — не остался совсем безответным. Рассмотрим теперь, имея в виду эту связь, фундаментальные идеи Якобсона о звуко-смысловой природе языка, в их эволюции на протяжении более полустолетия.
В годы между двумя мировыми войнами Якобсон активно участвовал в разработке теоретических оснований и концептуального аппарата Пражского структурализма. Хотя Пражская лингвистика в принципе стремилась охватить все сферы языка в качестве взаимно связанных субструктур, теоретическое определение и дескриптивное изучение звуковой структуры языка и языков (в первую очередь русского и славянских) находилось в центре их интересов и исследовательской деятельности. Результатом этой коллективной работы явилось создание новой лингвистической дисциплины (в принципе намеченное, как известно, почти за полвека до этого Казанским кружком), получившей название фонологии.
Уже на этом раннем этапе становления фонологической теории можно заметить некоторое её сходство с идеями Хлебникова 1910-х годов. Ориентация на системные фонологические оппозиции между звуковыми единицами — в отличие от их собственных субстанциальных свойств, которыми занята описательная фонетика, — делает диагностически особенно важными случаи, когда два слова в языке тесно сополагаются между собой на основании единственного дифференциального признака. Подчёркнутое внимание к “минимальным парам” слов игнорирует сравнительную редкость и нетипичность и самих таких пар, и случаев, когда они сталкиваются лицом к лицу в языковом употреблении. Поисковая позиция фонолога молчаливо признаёт ситуации, когда идентификация слова опирается сразу на множество признаков (не ‘ел ель’ и не ‘пил пыль’, но ‘ел суп’ и ‘пил воду’), чисто отрицательным феноменом, отражающим лишь неполноту и фрагментарную нерегулярность, с которой система заявляет о себе в прагматике употребления языка. Фонологического описание постулирует своего рода идеальный язык, в котором все такого рода лакуны и разрывы между словами заполнены, что сделало бы фонематические противопоставлений абсолютно необходимыми для различения слов. Стратегия имплицитного заполнения системной неполноты реально существующего языка проявляет себя в том, что наличие единственного примера минимальной оппозиции, и даже не очень убедительного, зачастую признаётся достаточным, чтобы проецировать его в фонологическую систему (вспомним противопоставление “слов” ыкание и икание в качестве аргумента в пользу фонематического статуса [ы]). С этой точки зрения, язык, созданный, или вернее дополненный по рецептам хлебниковского словотворчества, мог бы стать истинной мечтой фонолога: вместо редких и зачастую случайных случаев тесного фонологического соположения слов, за которыми фонолог вынужден охотиться в “естественном” азыке, он весь состоял бы сплошь из “минимальных пар” на все виды фонологических оппозиций.
Было, однако, и существенное различие между Пражской фонологией (какой она была кодифицирована в «Основах фонологии» Трубецкого, 1939) и футуристической утопией сплошного языкового пространства Нью-Йорк—Москва. Ко второй половине 1930-х годов Якобсон начал испытывать возрастающую неудовлетворенность тем направлением, в котором развивался пражский фонологический проект. Расхождение Якобсона со стандартной фонологической теорией проходило по двум основным пунктам; оба имели прямое отношение к идеям и мессианским амбициям будетлянского движения.
Во-первых, одной из центральных (возможно, абсолютно центральной) идей, направлявших интеллектуальные усилия Якобсона на протяжении всей его жизни, был поиск путей к преодолению линейного течения речи. 18-летний „Алягров”, раздражённый тем, что любой речевой акт — даже поэтическая строка с высокой степенью компрессии смысла, — вынужден развёртываться слово за словом, наивно надеялся избежать этого (хотя бы на бумаге), располагая звуки по вертикали в виде речевых “аккордов”.18![]()
О том, что борьба с эмпирическим принципом линейности речи оставалась в центре интересов Якобсона и в зрелые годы, свидетельствует знаменитое (не в последнюю очередь в силу его профетической темноты) определение им “поэтической функции” языка: „Поэтическая функция проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации”.19![]()
Всё же изъятие феномена versus из плена линейной проспективности (Якобсон даже возводил этимологию латинского термина — как кажется, не совсем корректно, — к идее “обратного движения”) не даёт кардинального решения проблемы. Как быть с “простой”, нефигуративной речью (prorsus), самое имя которой недвусмысленно указывает на движение “прямо вперёд”? К концу 1930-х годов Якобсон приходит к выводу, что фундаментальным препятствием на пути нелинейного представления языка является пражская теория фонемы. Именно в силу того, что основной единицей в этой теории признавалась фонема — структурная проекция звука, хотя и идеализированная, но сохраняющая свойства протяжённого “тела”, — всё здание языка, построенное на этом фундаменте, оборачивалось комбинациями разного уровня: от сочетания фонем — к морфеме, от морфем к слову, от слов к синтаксической фразе и так далее. В последние годы жизни, оглядываясь на эту (в итоге им побеждённую) трудность, Якобсон в острых выражениях критиковал один из центральных тезисов «Курса общей лингвистики» Соссюра о “линейности” как фундаментальном свойстве знака. Любопытно, что эта критика связывается у него с отрицательным отношением к фонологии, ориентированной на фонему.
Хотя то, что Якобсон говорит здесь о недостатках ранней фонологической теории, относится, среди прочего, и к его собственным работам 1920–30-х годов, он не упускает случай представить этот дефект как продукт “романского духа”, с его склонностью к поверхностным манипуляциям с языком на оси линейной комбинаторики. Инвектива в адрес “соссюровской идеологии” звучит как эхо превосходительного отношения будетлян к языковым инновациям Маринетти.
Ещё один аспект Пражской фонологии, противоречивший стратегической направленности интеллектуальных поисков Якобсона, заключался в подчёркивании (вслед за Соссюром) уникальности структуры каждого языка, и в частности, его фонологической системы. На первый взгляд, такой подход с неизбежностью вытекает из трактовки языка как системы, лежащей в основании структурной лингвистики: если отдельные компоненты языка системно соотнесены между собой, характер каждого из них определяется его положением в системе. Сама целостность системы делает её уникальной: даже если физически отдельные звуки в разных языках могут походить один на другой, их смыслоразличительная способность никогда не совпадает, так как она определяется оппозициями со всеми другими единицами в системе каждого языка. Одним из излюбленных эвристических приёмов Пражской школы была демонстрация физически сходных, но функционально различных звуковых единиц в разных языках, либо в различных исторических состояниях одного языка.
Кризис в отношении Якобсона к Пражской лингвистике пришёлся на 1938 год:
Ситуация живо напоминала (в особенности в ретроспекции) о времени на пороге первой мировой войны. Описываемый Якобсоном “лихорадочный” бег его мыслей живо напоминает то, как Хлебников описывал откровение, являющееся разуму в последнее мгновение перед смертью. В этот момент, как утверждал Хлебников, разум со сверхъестественной скоростью перескакивает через все барьеры, загромождавшие сознание в обычной жизни. Хлебникову в этот воображаемый момент представало видение тотальной континуальности языкового поля, преодолевающей все разделения. Четверть века спустя, апокалиптическое откровение возвращается — только место абсолютного языка будущего заступает абсолютная лингвистика будущего.
Новый подход отказывался признавать за фонемой статус абсолютно первичной, минимальной единицы языка. Эта роль перемещается на уровень ещё более элементарный, но вместе с тем более глубокий более глубокий: к дифференциальному признаку, то есть единичному аспекту фонемы, выявляемому в ее противопоставлении другой фонеме. До этого, дифференциальные признаки не занимали собственного места в структуре языка; они рассматривались в качестве атрибутов фонемы. Теперь дифференциальные признаки сами стали рассматриваться как языковые единицы, и более того, самые основные единицы, к которым, в конечном счёте, восходит вся структура языка. В свою очередь, фонема получила статус составного феномена, строящегося из сочетания дифференциальных признаков.
В отличие от фонемы, дифференциальный признак внеположен линейности. Любой сегмент языковой ткани, начиная с фонемы, протяжён во времени; но дифференциальные признаки выступают в симультанной комбинации. Мечта “Алягрова” о создании поэзии, которая могла бы использовать звуковые “аккорды”, получила воплощение в лингвистической теории, превзошедшее все утопические фантазии. Оказалось, что за эффектом языкового аккорда не нужно было ходить далеко: он повсеместно присутствует в языке, необходимо было лишь его обнаружить, что и сделала новая теория.
Другое примечательное следствие переноса центра тяжести с фонемы на дифференциальный признак состояло в том, что новый подход открыл путь к всеобщей фонологической модели, возвышающейся над внутриязыковыми особенностями фонематических систем. Реализация потенциально возможных комбинаций фонем данного языка привела бы к созданию множества морфем или слов, далеко превосходящего то, чем реально располагает лексикон этого языка. Но реализация возможных комбинаций дифференциальных признаков позволяет получить множество фонем, бесконечно превосходящее репертуар любого отдельного языка; можно сказать, что продуктом потенциальных комбинации дифференциальных признаков являются все фонемы всех существующих (и даже не существующих, но теоретически мыслимых) языков. При этом репертуар самих признаков, достаточный для создания этого бесконечного фонемного поля, может оставаться строго ограниченным и постоянным. Поэтому дифференциальные признаки оказываются легко представимыми в виде универсальной системы, в отличие от фонем, конфигурации которых в различных языках слишком далеко расходятся, чтобы можно было их свести к общему системному знаменателю. Перед нами своего рода фонологическая таблица Менделеева, свойства которой — способность не только покрыть собой всё сущее, но дедуктивно предсказать всё потенциально возможное, — весьма близки к состоянию заумного сверх-языка, предсказанному в свое время Хлебниковым.
Призыв Хлебников к художникам и мыслителям человечества создать универсальный вселенский язык прозвучал посреди его хаотичных скитаний посреди разрушений мировой и гражданской войны. Два десятилетия спустя для Якобсона, в свой черёд, наступила пора Wanderjahre. Читатель может изумиться слишком очевидному символизму кризисной даты 1938, обозначенной им в воспоминаниях. Но дело в том, что в момент оккупации Чехословакии Якобсон, незадолго до того получивший, наконец, профессуру в Брно, выступал с лекциями в Голландии. Оттуда он перебрался в Данию, далее в Норвегию, каждый раз оказываясь на несколько месяцев впереди движения гитлеровской армии, — затем в Швецию, пока не достиг Нью-Йорка в 1943 г. На этом пути создавалась книга «Детский язык, афазия и всеобщий закон языка» (она вышла в Стокгольме в 1942 г. на немецком языке).23![]()
Книга явилась первым опытом выявления универсалий фонологической системы. Проблема ставилась здесь в генетическом аспекте; тезис об универсальности дифференциальных признаков подкреплялся наблюдениями над ранними этапами становления языка у детей. Утверждалось, что последовательность, с какой младенец осваивает различительные признаки слов в своей речи, всегда одинакова и неизменна, в силу того, что она отражает имманентные иерархические отношения между дифференциальными признаками в системе. При всём различии фонемного репертуара в разных языках, система дифференциальных признаков, на которой этот репертуар покоится, являет собой всеобщий и единый “закон”.
Может показаться, что дети, усваивающие разные языки, далеко расходятся в характере звуков, которые они научаются производить. Однако за этим внешним различием, согласно Якобсону, стоит непреложная последовательность, с которой в языковом умении ребёнка наращиваются элементарные дифференциальные признаки, — как бы ни различались звуки, в которых эти признаки манифестируются. Универсальный звуковой закон формулируется не без торжественности:
Зеркальным отражением модели усвоения языка ребёнком служит модель поступенной потери языка у страдающих различными степенями афазии (исследования афазии, в особенности в результате мозговых травм, получили большое распространение после мировой войны). Последний процесс подчиняется тем же универсальным закономерностям, но в обратном порядке: те уровни фонологической системы, которые ребёнок усваивает последними, при афазии пропадают первыми; чем тяжелее травма, тем глубже погружается пациент в глубины начальных языковых умений, как бы совершая обратное путешествие во времени в самые ранние состояния языка, пока его способность различать слова не редуцируется до самых базовых дифференциальных признаков. Эта двувекторная модель, способная и к проспективному, и к ретроспективному движению, сама служит выразительной иллюстрацией хлебниковского прорыва в будущее, неотделимого от погружения в доисторические глубины прошлого.
Для Хлебникова такое погружение было необходимо, чтобы добраться до первоэлементов языковой субстанции для создания на их базе универсального, всё в себя вместившего языка третьего спутника солнца. Эволюция теории Якобсона идёт тем же путём. Выяснение базовых элементов, по которым происходит фонологическое развитие языка ребёнка, позволяет ему затем построить всеобщую систему этих элементов, призванную покрыть эмпирические данные всех без исключения языков мира. Работы, последовавшие за «Детской речью»,26![]()
Ещё одно отличие этих поздних работ от «Детского языка» — трактовка гласных и согласных. В «Детском языке» гласные и согласные описывались по традиции в качестве двух подсистем, характеризуемых каждая своими артикуляторными параметрами. Но к началу 1950-х годов Якобсон и его соавторы отказались от классификации по артикуляционным признакам, таким как “узкий”, “широкий”, “губной”, “зубной” и т.д., которые ранняя фонологическая теория унаследовала от традиционной фонетики. Взамен этого был предложен новый набор признаков, основывающийся на акустических характеристиках: „высокий” / „низкий”, „компактный” / „диффузный”, „яркий” / „тусклый”, „диезный”, „бемольный” и т.д. То, что новые признаки не были привязаны к артикуляции, позволило выстроить их в единую систему, действительную и для согласных, и для гласных. В результате всё построениеа приобрело полное единство и симметричность.
В этой своей поздней версии система состояла из двенадцати контрастных пар признаков, организованных в бинарные оппозиции. Позднее появлялись попытки ревизовать этот набор, тем более, что не все признаки выглядели одинаково убедительно,27![]()
Последняя большая работа Якобсона, посвящённая проблемам фонологии,28![]()
Исследовательскую стратегию Якобсона можно определить как синтез через редукцию. Мысль, способная достигнуть самого глубинного, и в силу это самого элементарного в языке, тем самым достигает трансцендентального основания, из которого исходит всё разнообразие поверхностных манифестаций. Внезапно, как бы поворотом магического ключа, то, что представлялось разными эмпирическими феноменами и концептуальными параметрами, обнаруживает единство в своей подчинённости всеобщему порядку. Коммуникативные усилия человечества во всём многобразии их форм, разделённые социальными барьерами и условиями времени и пространства, сходятся вместе в качестве частных вкладов в этот вселенский порядок. Бинарные корреляции дифференциальных признаков были призваны стать этим магическим ключом именно потому, что они несут в себе самое элементарное из возможных отношений: наличие / отсутствие единичного акустического параметра. Бинарная оппозиция являет в себе минимальный шаг, необходимый и достаточный для различения двух значений. В ней схвачен самый первый момент в жизни языка, в который звучание и значение сходятся вместе в знаке, — по словам Якобсона, „наивысшая и всецело структурированная всеобщность связи между signans и signatum”.29![]()
Будетляне верили, что начало “общего дела” создания всеобщего языка должно быть положено в России. По словам Хлебникова:
„Зарницам Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова” («Пощечина общественному вкусу», 1912) не суждено было стать непреложной действительностью. Хлебников умер вскоре после своего воззвания к художникам мира. Восемь лет спустя последовала гибель младшего мессии движения (к этому времени существенно переродившегося). Самоубийство Маяковского было воспринято многими — в их числе Якобсоном,33![]()
И однако, “общее дело” русского авангарда не было потеряно. Его след обнаруживается в конце 1930-х, времени, когда первоначальное движение, казалось, полностью сошло со сцены. Вселенская языковая утопия, имевшая целью победить время и пространство средствами языка, преодолев разрозненность смыслов, рассеянных по разным народам и эпохам, не была оставлена, она лишь предстала теперь в новом облике. “Заумное” преобразование самого языка заменилось преобразованием его описания, в котором заложенный в его глубине трансцендентальный смысл стал явью. Новая лингвистика позволяет языку сбросить “проклятие” фрагментарной разрозненности и поверхностной линейности. Способность “проецировать принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации” не ограничивается больше мессианскими прорывами поэтического языка, но оказывается фундаментальным свойством всякой знаковой коммуникации. Нигде эта всеобщность не заявляет о себе с такой непреложной отчётливостью, как в самом первом движении языковой мысли ребёнка — русского или голландца, француза или японца, — осваивающего самый первый дифференциальный признак.
Фонологическая теория Якобсона, при всей её технической оснащённости и объективной (вернее, надличностной) направленности, вдохновлялась модернистским пафосом преодоления эмпирической (“позитивистской”) поверхности, помноженным на нео-романтическое стремление к всеохватывающему синтезу. Парадоксальным, но психологически понятным образом, эти её черты проступили с особенной отчётливостью в том направлении, которое Якобсон придал фонологии Пражской школы, радикально её трансформировав в 1940–70-е годы, то есть в эпоху, когда не только Пражский кружок, но вся питательная культурная среда русского и центрально-европейского авангарда остались в прошлом.
Когда мы имеем дело с интеллектуальным феноменом таких масштабов и такой интенсивности, в нём, несомненно, заключается множество источников, восходящих к различным эпохам и различным областям знания — от риторики, поэтики и поэтической практики до философии языка и теории знака и от нейрофизиологии и когнитивной психологии до акустики, не говоря о различных аспектах самой науки о языке, — с большой энергией сплавляя это интеллектуальное разноречие в новое целое. Нет нужды говорить здесь о различных источниках лингвистической мысли Якобсона, которым он сам всегда отдавал щедрую дань в своих трудах. При всём том, кажется оправданным признать футуристический порыв “доминантной” интеллектуального мира Якобсона (если воспользоваться его собственным теоретическим понятием), сообщающей его многообразным компонентам векторную направленность.
Структурная лингвистика 1920–30-х годов и в Европе, и в Америке сосредоточивалась, в первую очередь, на дескриптивных аспектах нового подхода к языку. В центре её внимания оказывалось бесконечное разнообразие структурных конфигураций, масштабы которого далеко выходили за рамки того, что представлялось позитивистскому взгляду, ориентированному на субстанциальные характеристики языковых единиц. Новая теория опиралась на философскую традицию предшествовавшего столетия: англо-американский эмпиризм с одной стороны, романтическая идея плюрализма национально-языковых сообществ — с другой. Отличие Якобсона от большинства участников структуралистского движения между двумя войнами заключалась в его укоренённости в утопических идеях авангарда начала двадцатого века. Именно это различие лежало в основе той трансформации, которой структуральная теория подверглась в его работах, начиная с 1940-х годов. Центр тяжести теоретической мысли переместился на поиск всеобщей сущности человеческой коммуникации, поверх барьеров не только различных языков, но различных знаковых систем.
Идея глубинной универсальной структуры, внутренне присущей не только всем языкам, но самой языковой способности человека, долгое время продолжала доминировать в лингвистике, как вы не замечавшей революционной смены парадигмы, произошедшей в философии и литературной теории на рубеже 1960–70-х годов. Конечно, поколения генеративистов, пришедшие на смену Якобсону, не хотели, да и не могли ничего знать о том взрывоподобном первоначальном толчке, который сообщил лингвистической мысли такую необычайную протяжённость инерционного движения.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 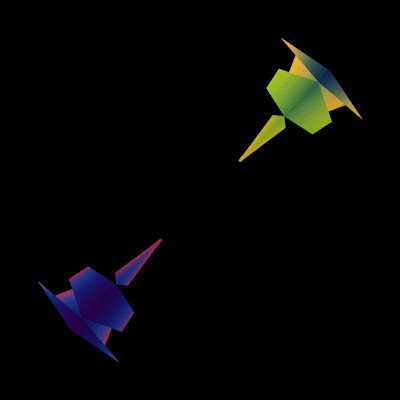 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||