

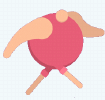
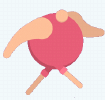
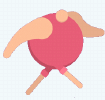
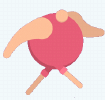
Бог её ведает, как это происходит.
Я не видел её возникновения даже вблизи.
Не избирал неудачничества как профессию, хотя она, конечно, профессия и даже специальность.
В тринадцатом году я меньше всего предполагал, что некогда буду писать мемуары.
Не гнался за материалом.
Не интервьюировал моих товарищей, стараясь запомнить их мысли и изречения.
Не разъезжал с ними по городом бывшей Российской империи, с задней мыслью использовать свои наблюдения для будущих воспоминаний.
Говоря проще, я не считал тогда непростительной роскошью отношение к себе если не как к средоточию системы, то как к неотъемлемой части её основного ядра.
Жил, как жилось, как складывалась жизнь.
Тянул воинскую лямку в Новгородской губернии и упорно отклонял призывы бурлившего энергией Бурлюка ехать в Москву то на тот, то но другой диспут.
Это не было, конечно, случайно, и военная служба, на которую я обычно ссылался как на причину, препятствующую мне принимать участие в публичных выступлениях, была только удобным поводом к отказу, не больше.
Мне претили те способы привлечения общественного внимания, к которым прибегал и Давид, едва ли не первый пустивший их в ход, и Ларионов, осуждавший их главным образом потому, что переплюнуть Бурлюка было трудно.
Между тем как раз в эти месяцы, с февраля по май, прожитые мною в медведском уединении, Бурлюк и Маяковский развивают в Москве особенно кипучую деятельность, не упуская ни одного случая заявить о себе, принимая участие во всех диспутах если не в качестве докладчиков, то в роли оппонентов, стараясь вклинить свои имена в любое событие литературной и художественной жизни Москвы.
1 октября кончилась моя военная служба: награждённый ефрейторской нашивкой и знаком за отличную стрельбу, я был уволен в запас.
Ехать в Киев мне не хотелось, я решил пожить немного в Петербурге и поселился у Николая Бурлюка на Большой Белозерской.
Он лишь недавно возвратился с Безвалем из Чернянки, и их студенческая квартира напоминала собой кладовую солидного гастрономического магазина: снаряжая младшего сына и будущего зятя в голодную столицу, Людмила Иосифовна всякий раз снабжала их съестными припасами на целый семестр.
Мы ели домашние колбасы толщиной с ляжку взрослого человека и вели бесконечные разговоры об искусстве, которых не стенографировал секретарь «Гилеи» Антоша Безваль. Самое странное было то, что на узких железных кроватях, на которых мы долго валялись по утрам, лежали единственные в мире футуристы.
Как это случилось?
Каким образом мы, полгода назад употреблявшие слово “футуризм” лишь в виде бранной клички, не только нацепили её на себя, но даже отрицали за кем бы то ни было право пользоваться этим ярлыком?
Сыграла ли тут роль статья Брюсова в «Русской Мысли», где он, со свойственными ему методичностью и классификаторским талантом, разложил по полкам весь оказавшийся у него в руках, ещё немногочисленный к тому времени материал наших сборников и, не считаясь с нашими декларациями, объявил нас московскою разновидностью футуризма, в отличие от петербургской, возглавляемой Игорем Северянином?
Повлияли ли жёлтые газеты, все эти «Биржёвки», «Рули» и «Утра России», которым уже никак нельзя было обойтись без расхожего термина для обозначения новых гуннов, угрожавших прочно расположиться на их продажных столбцах?
Или, окинув хозяйским оком создавшееся положение, решил смекалистый Давид, что против рожна не попрёшь, что упорствовать дальше, отказываясь от навязываемой нам клички, значило бы вносить только лишний сумбур в понятия широкой публики и, чего доброго, оттолкнуть её от себя?
Как бы то ни было, новое наше наименование было санкционировано “отцом российского футуризма”, быть может, по сговору с Маяковским, и я, по приезде из Медведя, был постовлен перед совершившимся фактом: «Дохлая Луна», уже сданная в набор и открывавшаяся моей программной статьей, была снабжена шмуцтитулом:
В своих неопубликованных «Фрагментах из воспоминаний футуриста» Давид открещивается от этого, утверждая, что „кличка была приклеена нам газетьём”, но, разумеется, без прямого участия Бурлюка, полновластно распоряжавшегося нашими изданиями, это не могло произойти никак. Подхватывая уже популярный ярлык, Бурлюк руководствовался определённым “хозяйственным” расчётом и нисколько не обманулся в своих ожиданиях: по своему диапазону термин пришёлся как раз впору разраставшемуся движению, над остальным же меньше всего задумывался Давид, никогда не относившийся серьёзно к вопросам терминологии.
В одно из тех октябрьских утр, которые надолго закрепили дружбу между мною и Николаем Бурлюком, мы ещё нежились в постелях, когда, приоткрыв дверь, на пороге показался приехавший прямо с вокзала Маяковский.
Я не сразу узнал его. Слишком уж был он непохож на прежнего, на всегдашнего Володю Маяковского.
Гороховое в искру пальто, очевидно купленное лишь накануне, и сверкающий цилиндр резко изменили его привычный облик. Особенно странное впечатление производили в сочетании с этим щегольским нарядом — голая шея и светло-оранжевая блуза, смахивавшая на кофту кормилицы.
Маяковский был детски горд переменой в своей внешности, но явно ещё не освоился ни с новыми вещами, ни с новой ролью, к которой обязывали его эти вещи.
В сущности, всё это было более чем скромно: и дешёвый, со слишком длинным ворсом цилиндр, и устарелого покроя, не в мерку узкое пальто, вероятно, приобретённое в третьеразрядном магазине готового платья, и жиденькая трость, и перчатки факельщика; но Володе его наряд казался верхом дендизма — главным образом оранжевая кофта, которой он подчёркивал свою независимость от вульгарной моды.
Это пресловутая кофта, напяленная им якобы с целью „укутать душу от осмотров”, имела своей подоплёкой не что иное, как бедность: она приходилось родной сестрою турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишинёвский период.
С первых же слов Маяковский ошарашил меня сообщением, что ему поручено Давидом доставить меня, живого или мёртвого, в Москву. Я должен ехать с ним сегодня же, так как на тринадцатое назначен „первый в России вечер речетворцев” и мое участие абсолютно необходимо.
Никаких отговорок не может быть теперь, когда военная служба кончилась. Деньги? Деньги есть, — мы едем в мягком вагоне, и вообще беспечальная жизнь отныне гарантирована всем футуристам.
Устоять против таких соблазнов было трудно. Мне удалось только выторговать, что не я открою вечер докладом, хотя, по словам Маяковского, на этом особенно настаивал Бурлюк, почему-то убеждённый в моём ораторском даровании. Он ошибался. У меня не было ни расположения, ни навыка к выступлениям перед большой аудиторией, между тем как у него и у Маяковского накопился уже известный опыт: постоянные схватки на диспутах и перепалка с публикой были отличной школой самообладания.
Николаю, который, разумеется, тоже участвовал в вечере, необходимо было по каким-то делам остаться ещё на сутки в Петербурге, мы же с Маяковским в тот же день укатили курьерским в Москву.
В Москве сразу начались сумятица и неразбериха.
В город я попал впервые, не понравился он мне чрезвычайно. Согласия на устройство вечера градоначальник, опасаясь скандала, всё ещё не давал. Я стал подумывать, не стоит ли уехать обратно в Питер.
Тогда Маяковский, с которым я неосторожно поделился своими намерениями, прибег к гениальному средству положить конец моим колебаниям. Под каким-то предлогом заняв у меня все бывшие при мне деньги, он через полчаса заявил, что возвратит их только после вечера, заботу же о моём крове, пропитании и прочем он целиком берёт на себя. Волей-неволей я оказался прикованным к нему, как каторжник к тачке.
Не помню, куда мы заехали с вокзала, где остановились, да и остановились ли где-нибудь. Память сохранила мне только картину сложного плутания по улицам и Кузнецкий мост в солнечный, не по-петербургскому тёплый полдень.
Купив две шикарных маниллы в соломенных чехлах, Володя предложил мне закурить. Сопровождаемые толпою любопытных, поражённых оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться.
Маяковский чувствовал себя как рыба в воде.
Я восхищался невозмутимостью, с которой он встречал устремлённые на него взоры.
Ни тени улыбки.
Напротив, мрачная серьёзность человека, которому неизвестно почему докучают беззаконным вниманием.
Это было до того похоже на правду, что я не знал, как мне с ним держаться.
Боялся неверной, невпопад, интонацией сбить рисунок замечательной игры.
Хотя за месяц до того Ларионов уже ошарашил москвичей, появившись с раскрашенным лицом на Кузнецком, однако Москва ещё не привыкла к подобным зрелищам, и вокруг нас разрасталась толпа зевак.
Во избежание вмешательства полиции, пришлось свернуть в одну из боковых, менее людных улиц.
Заглянули к каким-то Володиным знакомым, потом к другим, ещё и ещё, заходили всюду, куда Маяковский считал нужным показаться в своём футуристическом великолепии. В Училище живописи, ваяния и зодчества, где он ещё числился учеником, его ждал триумф: оранжевая кофта на фоне казённых стен была неслыханным вызовом казарменному режиму школы. Маяковского встретили и проводили овациями.
Ему этого было мало.
Решив, что его наряд уже примелькался, он потащил меня по мануфактурным магазинам, в которых изумлённые приказчики вываливали нам на прилавок всё самое яркое из лежавшего на полках.
Маяковского ничто не удовлетворяло.
После долгих поисков он набрёл у Цинделя на чёрно-жёлтую полосатую ткань неизвестного назначения и на ней остановил свой выбор.
Угомонившись наконец, он великодушно предложил и мне „освежить хотя бы пятном” мой костюм. Я ограничился полуаршином чудовищно-пёстрой набойки, из которой, по моим соображениям, можно было выкроить достаточно кричащие галстук и носовой платок. На большее у меня не хватило размаха.
Сшила полосатую кофту Володина мать.
Он привёл меня к себе домой, и странными показались мне не аляповатые обои мещанской квартирки, от которых он, вероятно, по принципу цветового и всякого иного контраста отталкивался своей обновкой, представлявшей нечто среднее между курткой жокея и еврейским молитвенным плащом, — странным казалось, что у Володи есть дом, мать, сёстры, семейный быт.
Маяковский — нежный сын и брат, это не укладывалось в им самим уже тогда утверждаемый образ горлана и бунтаря. Мать явно была недовольна новой затеей Володи: её смущала зарождавшаяся скандальная известность сына, ещё мало похожая на славу.
Володины “шалости”, как любовно называли их родные, тяготели значительно больше к “происшествиям дня”, чем к незримой рубрике: “завоевание славы”.
Но Маяковский был баловнем семьи: против его прихотей не могла устоять не только мать, но и сёстры, милые, скромные девушки, служившие где-то на почтамте.
Одна из них, по просьбе брата, соорудила мне галстук, чрезвычайно напоминавший дагомейское лангути, между тем как мать кроила и примеряла Володе его полосатую кофту.
От характерной московской суеты этих дней, прожитых бок о бок с метавшимся по всему городу Маяковским, память, повторяю, сберегла мне немногое: впечатление сплошного кавардака, лавиной нараставшего с утра и угрожавшего к вечеру раздавить своей никак не осмысливаемой кентавроподобной весёлостью беспомощного заезжего человека.
Надо было обладать от рождения даром прямолинейного жеста, устанавливающего в любой среде планиметрию людских отношений, искусством крутого и вместе с тем безобидного поворота, чтобы, не задевая ничьего самолюбия, сохранять, как Маяковский, в этой безликой толчее своё собственное лицо.
Он, как всегда, был полон собой, своими ещё не оформленными окончательно строчками, обрывками отдельных фраз, ещё не сложившимися в задуманную им трагедию, и на ходу всё время жевал и пережевывал, точно тугую резину, вязнувшие на его беззубых деснах слова.
Впрочем, горланил он не только собственные стихи.
Ему нравился тогда «Громокипящий кубок», и он распевал на узаконенный Северянином мотив из Томá:
Это можно было бы счесть данью сентиментальности, от которой в известные минуты не свободен никто из нас, но мне, прошедшему хорошую школу фройдизма, послышалось в акцентировании первой строки нечто совсем иное.
„Зачем с такой настойчивостью смаковать перспективу исчезновения всех мужчин на земле? — думал я. — Нет ли тут проявления того, что Фройд называет Selbstminderwertigkeit — сознания, быть может, только временного, собственной малозначительности?”
Далеко не уверенный в правильности этого прогноза, я высказал свои догадки Володе и — попал прямо в цель.
Словно не решаясь открыть свою тайну в городе, где он со всеми булыжниками и кирпичами был но короткой ноге, Маяковский стремительно увёз меня в Сокольники. Там, на уже опустевшей даче, в заброшенном доме, где мы расположились на ночлег, он признался мне — в чём?
В пустяке, который не взволновал бы и гимназиста четвёртого класса.
Неожиданные сочетания часто вызывают впечатление сверхъестественной глубины и магической силы. На смену бархатной блузе Фауста приходят тибетские порошки Бадмаева. Не потому ли Маяковский был убеждён, что Рембо, настоянный на аракчеевской казарме, должен дать потрясающий лечебный эффект?
Я не чувствовал себя вправе колебать его уверенность и с чистой совестью поделился с ним мнимым опытом не только видавшего виды служаки, но и привычного потребителя диавольской тизаны, предпочитающего, вместо поездок на воды, проводить четверть года в аду.
Утром Володя, опять шумный и жизнерадостный, рвался обратно в город. У нас уже не было ни гроша, но он не думал унывать и объявил, что к обеду деньги будут.
В «Метрополе» я следил за его кием, как за бушпритом судна, уносящего нас к обещанным в Сокольниках кисельным берегам. Маяковский нервничал, играл плохо, и через час мы ушли, нисколько не разбогатев.
Поехали к Ханжонкову, издававшему первый и в то время, кажется, единственный киножурнал. В этом журнале Маяковский иногда помещал свои шаржи и зарисовки, сопровождая их стихотворными подписями.
У Ханжонкова он был в долгу, но — две-три бархатные ноты в голосе, полуиздевательском, полупокровительственном, никак не похожем но голос получателя аванса, и Володя двумя пальцами уже небрежно опускал в карман спасавшую нас пятерку.
По дороге в столовую завернули к нему домой: полосатая кофта была, по его предположениям, готова, и ему не терпелось нарядиться в обновку.
В вегетарианской столовой, где, как и всюду, платили по счёту за уже съеденное, я пережил по милости моего приятеля несколько довольно острых минут. За обедом он с размахом настоящего амфитриона уговаривал меня брать блюдо за блюдом, но, когда наступили неизбежные четверть часа Рабле, Маяковский с каменным лицом заявил мне, что денег у него нет: он забыл их дома.
Мое замешательство доставляло ему явное наслаждение: он садически растягивал время, удерживая меня за столом, между тем как я порывался к кассе, намереваясь предложить в залог мои карманные часы. Лишь в самый последний момент, когда я решительно шагнул к дверям, он добродушно расхохотался: всё было шуткой, пятерка оказалась при нём. На этом, однако, мои испытания не кончились.
Чтобы ясно представить себе всю картину скандала, в котором поневоле пришлось принять участие и мне, необходимо вспомнить, что вегетарианство десятых годов имело мало общего с вегетарианством современным. Оно в своей основе было чем-то вроде секты, возникшей на скрещении толстовства с оккультными доктринами, запрещавшими употребление мяса в пищу. Оно воинствовало, вербуя сторонников среди интеллигенции приблизительно теми же способами, к каким прибегали трезвенники, чуриковцы и члены иных братств.
Слепительно белые косынки подавальщиц и снежные скатерти но столах — дань Европе и гигиене? Конечно, конечно! А всё-таки был в них какой-то неуловимый привкус сектантства, сближавший эту почти ритуальную белизну с мельтешением голубиных крыл на хлыстовских радениях.
Цилиндр и полосатая кофта сами по себе врывались вопиющим диссонансом в сверхдиетическое благолепие этих стен, откуда даже робкие помыслы о горчице были изгнаны как нечто греховное. Когда же, вымотав из меня все жилы, Маяковский встал наконец из-за стола и, обротясь лицом к огромному портрету Толстого, распростершего над жующей паствой свою миродержавную бороду, прочёл во весь голос — не прочёл, а рявкнул, как бы отрыгаясь от вегетарианской снеди, незадолго перед тем написанное восьмистишие:
мы оказались во взбудораженном осином гнезде.
Разъярённые пожиратели трав, забыв о заповеди непротивления злу, вскочили со своих мест и, угрожающе размахивая кулаками, обступали нас всё более и более тесным кольцом.
Не дожидаясь естественного финала, Маяковский направился к выходу. Мы с трудом протиснулись сквозь толпу: ещё одна минута накипания страстей, и нам пришлось бы круто. Однако мой спутник сохранял все внешние признаки самообладания. Внизу, получив в гардеробе пальто, он даже рискнул на лёгкую браваду. Взглянув на перила лестницы, усеянные гроздьями повисших на них вегетарианствующих менад, и на миловидную кассиршу, выскочившую из-за перегородки, Маяковский громко загнусавил под Северянина:
Под звуки этих фанфар мы в полном боевом порядке отступили на заранее намеченные Маяковским позиции. Сообщений о происшествии в газетах не появилось, так как полиция к вегетарианцам относилась хорошо, а без протокола какой же это был скандал?
Бедные вегетарианцы! Я не питал к ним никакой злобы в эти осенние дни, когда взоры всей России были устремлены на юг, к Киеву, где разыгрывался последний акт бейлисовской трагедии. Они ведь были настоящими донкихотоми в стране, населённой миллионами моих соплеменников-антропофагов!
Петербургские и московские газеты выходили с вкладными листами, посвящёнными процессу, а «Киевская Мысль» разбухла до размеров «Таймса». После статей Шульгина, выступившего в защиту Бейлиса, подписка на «Киевлянин» выросла вдвое, и вчерашние союзники Шульгина открыто говорили о нём как о жертве еврейского подкупа.
В кинематографах обеих столиц демонстрировался вместе с долгожданными «Ключами счастья» короткометражный фильм — хроника киевского дела.
Предприимчивые люди уже составляли конспект безобидной лекции о воздухоплавании, с которой собирались повсюду развозить оправданного Бейлиса.
Предвосхищая вероятный исход процесса, «Раннее Утро» издевалось над матёрыми антисемитами — Замысловским и Шмаковым:
А в квартирах зажиточных архитекторов, врачей и адвокатов, куда бог весть зачем приводил меня Маяковский, угасал — молчи, грусть, молчи! — осыпаясь малиновым и зелёным японским просом, ниспадая ниагарами выцветающих драпировок, три десятилетия отравивший пылью предшественник и сородич венского сецессиона — стиль макарт. Изнемогая в невозможно восточной позе, принимала интервьюеров Изабелла Гриневская, автор драматической поэмы «Баб».
И, отпечатанная на клозетной бумаге (всё по той же проклятой бедности, которую публика считала оригинальничаньем), афиша «Первого в России вечера речетворцев» красовалось на перекрёстках среди обычных в то время реклам и объявлений:
„Скрипка говорит, поёт, плачет и смеётся в руках артиста-виртуоза г. Дубинина, выступающего со своим оркестром с семи часов вечера в «Волне»”.
„Дивное обаяние Монны-Лизы товариществом Брокар и Ко воплощено в аромате нового одеколона «Джиоконда»”.
„Осторожно! Гигиенические резиновые изделия опасно брать где-нибудь. Целесообразно обращаться только в единственный специальный склад отделения парижской фирмы Руссель”.
Чтобы отгородиться от этого фона, нужна была не одна чёрно-жёлтая блуза, а километры полосатой материи; нужны были многосаженные плакаты, а не скромная афиша на канареечном пипифаксе.
Мы захлебывались в море благонамеренной, сознательно легализуемой пошлости, и энергия, с которой горсточка людей выкарабкивалось из трупной кашицы омертвевших бытовых форм, уже начинала внушать законные подозрения властям предержащим.
К боязни скандала у охранителей порядка примешивались опасения несколько иного рода, и нельзя сказать, чтобы они были вполне неосновательны.
Понемногу мы привыкли к тому, что разрешение на устройство вечеров давалось всё более и более туго, и нисколько не удивлялись, когда в снятый для очередного доклада или диспута зал нам приходилось пробираться сквозь усиленный наряд полиции.
«Первый вечер речетворцев», состоявшийся 13 октября в помещении Общества любителей художеств на Большой Дмитровке, привлёк множество публики. Билеты расхватали в какой-нибудь час.
Аншлаги, конные городовые, свалка у входа, толчея в зрительном зале давно уже из элементов случайных сделались постоянными атрибутами наших выступлений. Программа же этого вечера была составлена широковещательнее, чем обычно. Три доклада: Маяковского — «Перчатка», Давида Бурлюка — «Доители изнурённых жаб» и Кручёных — «Слово» — обещали развернуть перед москвичами тройной свиток ошеломительных истин.
Особенно хороши были “тезисы” Маяковского, походившие на перечень цирковых аттракционов:
В этой шестипалой перчатке, которую он, ещё не изжив до конца романтической фразеологии, собирался швырнуть зрительному залу, наивно отразилась вся несложная эстетика тогдашнего Маяковского.
Однако для публики и этого было поверх головы.
Чего больше: у меня и то возникали сомнения, справится ли он со взятой на себя задачей. Во мне ещё не дотлели остатки провинциальной, граничившей с простодушием, добросовестности, и я всё допытывался у Володи, что скажет он, очутившись на эстраде.
Маяковский загадочно отмалчивался.
В вечере, согласно афише, должны были участвовать шесть человек, вся «Гилея» в полном составе. Кроме того, объявление гласило, что „речи будут очерчены художниками: Давидом Бурлюком, Львом Жегиным, Казимиром Малевичем, Владимиром Маяковским и Василием Чекрыгиным”. Под этим разумелись не зарисовки нас художниками, а специально расписанные экраны, но фоне которых, условно отгораживавшем футуристов от остального мира, мы хотели выступать.
Но Хлебников находился в Астрахани. Кроме того, его нельзя было выпускать на эстраду ввиду его слабого голоса и безнадёжного „и так далее”, которым он, как бы подчёркивая непрерывность своей словесной эманации, обрывал чтение первых же строк.
Давида тоже не было в Москве: ему срочно пришлось выехать по делам в Петербург, и он поручил прочесть свой доклад брату Николаю. Чтобы как-нибудь выправить положение, я вызвался читать сверх своих собственных стихов вещи Хлебникова.
Успех вечера был в сущности успехом Маяковского. Непринуждённость, с которой он держался на подмостках, замечательный голос, выразительность интонаций и жеста сразу выделили его из среды остальных участников.
Глядя на него, я понял, что не всегда тезисы к чему-то обязывают. Никакого доклада не было: таинственные, даже для меня, египтяне и греки, гладившие чёрных (и непременно сухих) кошек, оказались просто-напросто первыми обитателями нашей планеты, открывшими электричество, из чего делался вывод о тысячелетней давности урбанистической культуры и... футуризма. Лики городов в зрачках речетворцев отражались, таким образом, приблизительно со времён первых египетских династий, водосточные трубы исполняли berceuse чуть ли не в висячих садах Семирамиды, и вообще будетлянство возникло почти сейчас же вслед за сотворением мира.
Эта весёлая чушь преподносилась таким обворожительным басом, что публика слушала, развесив уши. Только когда Маяковский заговорил о складках жира в креслах зрительного зала, в первом ряду, сплошь занятом военными, раздался звук, похожий на дребезжанье развихлявшегося мотора: блестящие, „в лоск опроборенные” кавалеристы, усмотрев оскорбительный намёк в словах докладчика, в такт, “по-мейерхольдовски”, застучали сердито о пол палашами.
Я наблюдал из-за кулис этих офицеров, перед которыми две недели назад должен был бы стоять навытяжку, и предвкушал минуту, когда буду читать им хлебниковское «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил». Мне доставляли неизъяснимое удовольствие сумасшедший сдвиг бытовых пропорций и сознание полной безнаказанности, этот однобокий суррогат чувства свободы, знакомый в те годы лишь умалишённым да новобранцам.
Только звание безумца, которое из метафоры постепенно превратилось в постоянную графу будетлянского паспорта, могло позволить Кручёных, без риска быть искрошенным на мелкие части, в тот же вечер выплеснуть в первый ряд стакан горячего чаю, пропищав, что „наши хвосты расцвечены в жёлтое” и что он, в противоположность „неузнанным розовым мертвецам, летит к Америкам, так как забыл повеситься”. Публика уже не разбирала, где кончается заумь и начинается безумие.
Блестящая рампа вытянувшихся в одну линию офицерских погонов — единственная осязаемая граница между бедламом подмостков и залом, где не переставал действовать «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» — во втором отделении была взорвана раскатами бархатного голоса, из которого Маяковский ещё не успел сшить себе штаны.
Хотела или не хотела того публика, между нею и высоким, извивавшимся на эстраде юношей не прекращался взаимный ток, непрерывный обмен репликами, уже тогда обнаруживший в Маяковском блестящего полемиста и мастера конферанса.
Он читал свои последние стихи, которые впоследствии, не знаю, по каким причинам, сбив хронологию, отнёс к более раннему периоду своего творчества: «Раздвинув локтем тумана дрожжи...», «Рассказ о влезших на подмосток», «В ушах обрывки теплого бала...», «Кофту фата».
Особенный эффект, помню, произвело его «Нате!», когда, нацелившись в зрительном зале на какого-то невинного бородача, он заорал, указывая на него пальцем:
и тут же поверг в невероятное смущение отроду не ведавшую никакой косметики курсистку, обратясь к ней:
Но уже не застучали палашами в первом ряду драгуны, когда, глядя на них в упор, он закончил:
Даже эта, наиболее неподатливая часть аудитории, оказалось, за час успела усвоить конспективный курс будетлянского хорошего тона.
Всем было весело. Нас встречали и провожали рукоплесканиями, невзирая на заявление Кручёных, что он сладострастно жаждет быть освистанным. Мы не обижались на эти аплодисменты, хотя и не обманывались насчёт их истинного смысла.
Газеты, объявившие нас не „доителями изнурённых жаб”, а доителями карманов одураченной нами публики, усматривали в таком поведении зрительного зала тонкую месть и предрекали нам скорый конец. Нас не пугали эти пророчества: напротив, в наступавшем зимнем сезоне мы собирались развернуть нашу деятельность ещё шире. Маяковский готовил свою трагедию. Матюшин писал оперу. Футуризм перебрасывался даже на театральный фронт.
