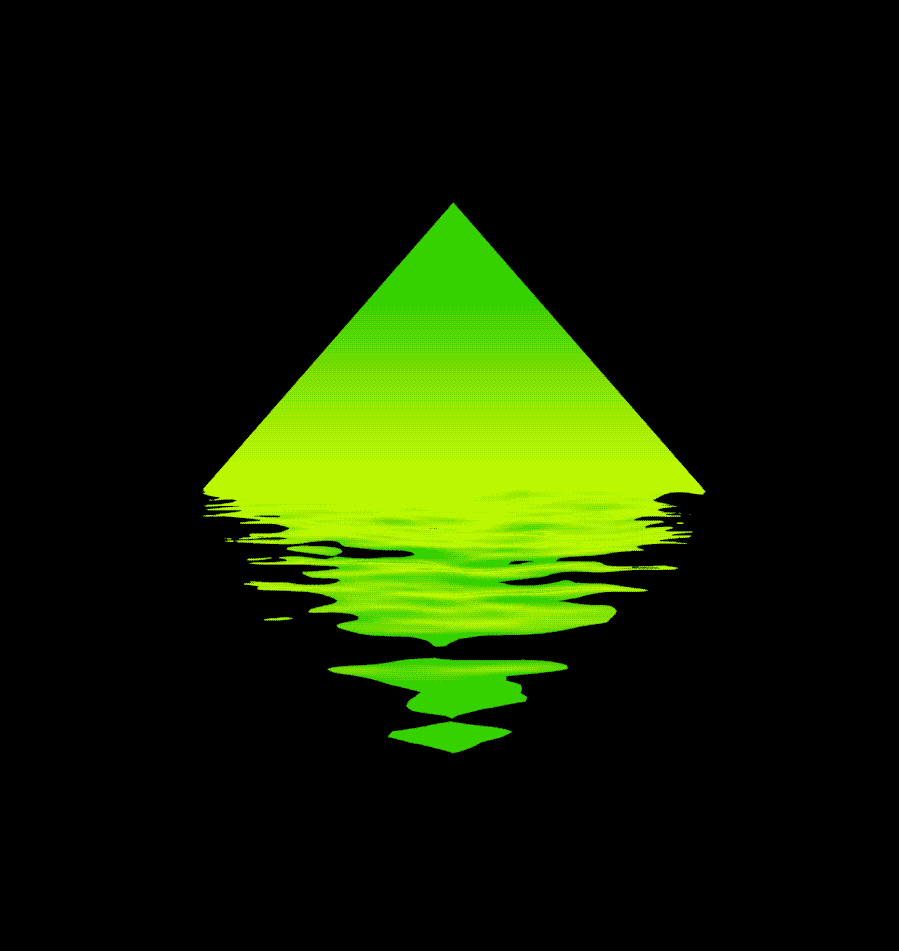
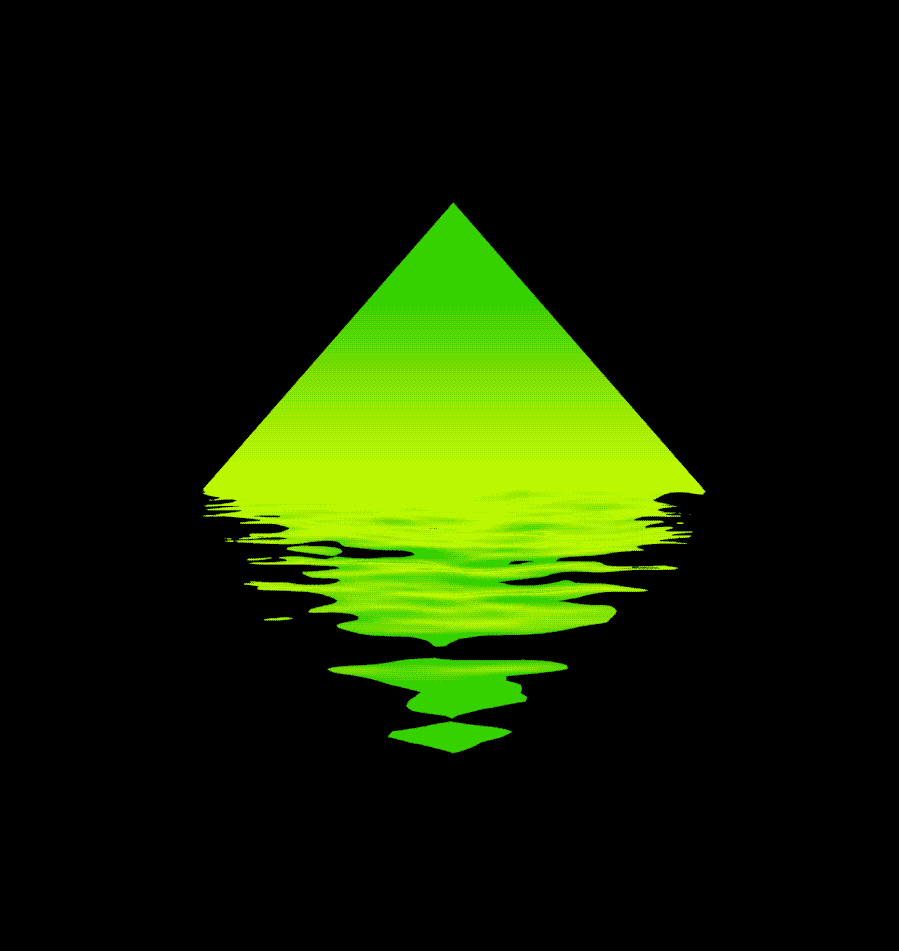
 одвижник устного маяковедения В.Д. Дувакин (1909–1982) раскрывается посетителю Хлебникова поля постепенно, неспешным течением его бесед с Романом Якобсоном, Виктором Шкловским, Сергеем Бобровым, Надеждой Павлович, Виктором Киселёвым, Оксаной Асеевой и Михаилом Бахтиным; составить отчётливое представление о Екатерине Генриховне Гуро, в первом браке Эрлих, во втором Венгровой (1874–1972), значительно труднее: упомянута единожды, кратко и с прохладцей. А именно:
одвижник устного маяковедения В.Д. Дувакин (1909–1982) раскрывается посетителю Хлебникова поля постепенно, неспешным течением его бесед с Романом Якобсоном, Виктором Шкловским, Сергеем Бобровым, Надеждой Павлович, Виктором Киселёвым, Оксаной Асеевой и Михаилом Бахтиным; составить отчётливое представление о Екатерине Генриховне Гуро, в первом браке Эрлих, во втором Венгровой (1874–1972), значительно труднее: упомянута единожды, кратко и с прохладцей. А именно: Среди участников «Садка судей» есть три малоизвестных автора, два из которых появляются в футуристских изданиях в первый и последний раз. Под псевдонимом Е. Низен скрывается сестра Елены Гуро Екатерина (1875–1972). «Садок судей», таким образом, оказался почти двухсемейным предприятием: Елена Гуро, её сестра и муж, с одной стороны, и три брата Бурлюка — с другой. О Екатерине Гуро известно только то, что за свою социал-демократическую деятельность она была выслана в Вятку. В «Садке судей» напечатаны два прозаических отрывка, написанные под явным влиянием сестры, но очень интересные и совершенно не ученические; это комбинация импрессионистских приёмов с чисто символистскими образами горбунов и карликов. Первый рассказ («Детский рай») представляет собой описание детской площадки в дачном посёлке и использует важный приём, впоследствии названный критиками-формалистами „остранением”: вместо слова ‘дети’ употребляется выражение „маленькие животные”, а их матери зовутся „лиловыми”. Другой рассказ («Праздник») вводит читателя в мир мыслей и чувств ребёнка (который стоит у окна, смотрит на улицу и, наконец, засыпает) и в мысли случайных прохожих на улице.
Среди участников «Садка судей» есть три малоизвестных автора, два из которых появляются в футуристских изданиях в первый и последний раз. Под псевдонимом Е. Низен скрывается сестра Елены Гуро Екатерина (1875–1972). «Садок судей», таким образом, оказался почти двухсемейным предприятием: Елена Гуро, её сестра и муж, с одной стороны, и три брата Бурлюка — с другой. О Екатерине Гуро известно только то, что за свою социал-демократическую деятельность она была выслана в Вятку. В «Садке судей» напечатаны два прозаических отрывка, написанные под явным влиянием сестры, но очень интересные и совершенно не ученические; это комбинация импрессионистских приёмов с чисто символистскими образами горбунов и карликов. Первый рассказ («Детский рай») представляет собой описание детской площадки в дачном посёлке и использует важный приём, впоследствии названный критиками-формалистами „остранением”: вместо слова ‘дети’ употребляется выражение „маленькие животные”, а их матери зовутся „лиловыми”. Другой рассказ («Праздник») вводит читателя в мир мыслей и чувств ребёнка (который стоит у окна, смотрит на улицу и, наконец, засыпает) и в мысли случайных прохожих на улице.В.Д.: Екатерина Генриховна, а вы мне сейчас расскажите просто, уже безотносительно ко всяким конкретным датам, расскажите о своей сестре, Елене Генриховне. Что она была за человек? Что вы о ней помните? Вот ведь с вашей юностью больше всего связана Елена Генриховна? Красивая она была?
Е.Г.: Нет-нет, Лена тоже нет. Она лучше меня. Про меня говорили, что у меня огромный рот до ушей, и что вообще я некрасивая. А про Лену ничего не помню, что говорили. Но, во всяком случае, у Лены моей были золотые волосы. Очень длинные, длинные.
В.Д.: Золотые волосы? Она рыжеватая была?
Е.Г.: Нет, не рыжеватые, а просто золотые. В детстве у неё определённо только золотые. Ничего там рыжего не было. Потом, впоследствии, они стали как-то темнеть. И когда она умерла и умирала, то уже они были такие спутанные. Конечно, не было уже вот этого золотого. А в детстве это буквально золотые волосы были.
В.Д.: Вы были дружны с ней?
Е.Г.: С ней? Бесконечно, бесконечно дружны. Я скажу, что за всю мою жизнь я никого: ни мужей, ни детей — никого никогда не любила так, как я любила свою Лену. И она то же самое.
‹...›
В.Д.: Гуро — это ваша фамилия по мужу или девичья?
Е.Г.: Гуро? Это фамилия моего отца.
В.Д.: Очень странная фамилия... Французская или какая?
Е.Г.: Французская, он же француз, мой отец.
В.Д.: А маму вашу как звали, вы помните?
Е.Г. (смеётся): Конечно! Анна Михайловна Чистякова.
В.Д.: Это тоже дворянская фамилия, да?
Е.Г.: Чистякова? Неужели я вам ничего не говорила, неужели вы ничего не знаете?! Так вот, Чистяков был до семнадцати лет, он абсолютно неграмотный. Парень деревенский, и больше ничего. Он талантливый был, этот Чистяков, потому что с ним было так: он вздумал учиться. И из деревни он пошёл пешком, по-моему, в Петербург (ближе была не Москва, а Петербург). Ходил там по улицам и спрашивал, как ему попасть в университет. Очень ему удивлялись, но случайно он попал на кого-то из кружка Некрасова… Тот взял его к себе домой, и там вся компания этого кружка, они занимались образованием этого Чистякова, но, с другой стороны, Чистяков на них попросту работал. Он им носил воду, колол дрова. Вот так они существовали все вместе.
В.Д.: И этот Чистяков был отец вашей мамы?
Е.Г.: Этот Чистяков был Михаил Борисович Чистяков. Это был отец моей матери.
В.Д.: А мама, значит, уже получила образование?
Е.Г.: Благодаря ему. Множество известных людей восхищались, что он такой талантливый мальчишка, деревенский парень…
В.Д.: И значит, ваша мама уже получила образование и вышла замуж за офицера Гуро, который потом стал генералом. Ну, на этом мы сегодня поставим точку.
В.Д.: Екатерина Генриховна, а когда вы Маяковского увидели и в какой обстановке? Постарайтесь, словом, дать его образ таким, каким вы его воспринимали.
Е.Г.: Со стороны Маяковский производил впечатление, я бы сказала, такого кузнечика.
В.Д.: Хорошо... Кузнечика?
Е.Г.: Понимаете, что-то длинное, складывающееся, очень гибкое... но которое производило впечатление скорее странное, но не зацепляющее душевно. Это пришло только потом.
В.Д.: Не захватывающее душевно? Не цепляющее?
Е.Г.: Производило впечатление вот этого кузнечика, у которого очень хорошо двигались ноги, прижимались, вытягивались, но который ничем вас самого не захватывал.
В.Д.: Не зацеплял, да?
Е.Г.: Не зацеплял, совершенно верно.
В.Д.: Это пришло потом, говорите?
Е.Г.: А пришло потом.
В.Д.: Вы не помните, как его увидели впервые?
Е.Г.: Просто не припомню. Пожалуй, я бы для себя, для своего собственного удовольствия, начала бы с самого последнего. Тогда было так. Сидела на земле около костра, помешивая там что-то палочкой. Проходила их компания, проходил Маяковский. Когда я посмотрела на него, то мне показалось, что он очень большой, и что очень жаль, что я такую большую фигуру совершенно пропустила мимо. Я его действительно пропустила мимо. В значительной мере. Видите, мне почти что нечего... Моя беда, что я всё переживаю описательно. И вот для меня описательно то, что я помешиваю палочкой в золе, в какой-то потухающей золе, и стоит высокий человек, у которого очень хорошо, складно и красиво обрисовывается (опять же глупость для вас) та тужурка, которая на нём сидит. С каким-то красноватым рантиком, и как будто такая шерстяная, что ли, тужурка... И вот я подумала, что Маяковский и то, что он писал, это не совсем так совпадает. Что можно было от него ожидать ещё гораздо большего. Вообще что он оказался живой, вот я из-за пустяка какого-то почувствовала его живым, что он гораздо больше того, что я о нём думала. И несмотря вот на это, я отлично помню, как я его защищала перед другими. Почему-то так выходило, что я его защищала отчаянно. Я помню, я сказала: «А зато у него шаги от звезды до звезды, а вы этого не чувствуете».
В.Д. (удивленно): Это вы так сказали? Кому?
Е.Г.: Вот видите, тут скажу, кто были. Значит, кто у них всегда бывал: Каменский, ну, моя сестра, конечно, муж моей сестры.
В.Д.: Матюшин?
Е.Г.: Матюшин. Который у них почему-то был какой-то величиной. Я её не чувствовала.
В.Д.: Вы не чувствовали величину?
Е.Г.: Нет. Величины этого самого Матюшина я не видела. Но влияние его на сестру я чувствовала, и неприятно для меня было его влияние на сестру. И то же самое, когда он говорил о Маяковском, то мне тоже показалось, что вроде как: «Нечего вам говорить! Кто вас просил говорить!» — вот такое чувство.
В.Д.: О Маяковском? Я верно вас понял, что вас раздражало, как Матюшин говорил о Маяковском?
Е.Г.: Совершенно правильно. Правильно, правильно, правильно...
‹...›
В.Д.: Ну, а может быть по этому, где среди футуристов, может быть, вы что-нибудь добавите, потому что этот образ вы никак не раскрыли. Вот его не помните в какой-нибудь живой обстановке, с Бурлюком ли, с Каменским ли, с Хлебниковым ли, с Еленой Генриховной, с Матюшиным? Что-нибудь конкретно не помните?
Е.Г.: Видите, конкретного довольно много, но только оно какое-то рваное (усмехается). Насчёт Хлебникова мне яснее то, что он всегда окружён какой-то своей непроницаемой оболочкой кругом. А у Маяковского этого нет. Но об этом никто не думал. Вот что мне сейчас очень странно, что о Маяковском как футуристе футуристы ни разу и не думали, а ведь он футурист, огромный футурист.
В.Д.: Как так не думали, кто?
Е.Г.: Наши, наши, наши. То есть первое дело — моя сестра, её муж Матюшин, потом — бывал у нас, как его звали, он надоедал у нас... он очень часто, каждый день приходил... Кто ещё у меня бывал, из футуристов-то? Это уж такой завсегдатай...‹...› Вот-вот-вот. Кручёных, верно. Кручёныха очень хорошо помню, что он у нас бывал каждый день почти что. И Кручёных мне ни к чему как-то был, на редкость ни к чему...
В.Д.: Он так и был ни к чему. Хотя кое-что... Он интересен как деталь, очень важная, но деталь. Как прилагательное, он сам по себе не существительное, по-моему. Не знаю, может, я ошибаюсь. Некоторые думают иначе. Вы видели Маяковского разговаривающим с кем-нибудь из товарищей-футуристов? Ну, вместе с Бурлюком?
Е.Г.: Очевидно, должна была бы видеть. Конечно, я видела. Но он как-то не запомнился. Вот сдержанность, сдержанность какая-то. Когда они бывали вместе оба, то оба относились друг к другу с некоторой сдержанностью.
В.Д.: А! Если эта сдержанность, скажем, применительно к Матюшину, может быть, правильнее заменить — настороженность? Или дружеская сдержанность?
Е.Г.: Нет, скорее, пожалуй, была настороженность.
В.Д.: Вот я и уточняю. А Елена Гуро сама, сестра, у неё тоже такое же было настороженное отношение к Маяковскому, как у её мужа? Или нет?
Е.Г.: Нет. У неё вообще как у человека не могло быть никакой настороженности. Я её очень хорошо чувствую. У неё никакой... Ей решительно всё равно, что из этого выйдет и как. Вот она видит человека, ей хочется сказать, она и скажет, не хочется — она не скажет. Одним словом, настороженности у ней ни малейшей. А у большинства... И вот между ними то же самое чувствовалась иногда друг против друга настороженность. Это неприятно всегда было.
‹...›
В.Д.: Хорошо. Ну, вспомним, давайте, теперь о Хлебникове, о Каменском.
Е.Г.: Каменский совсем тёмная для меня, неясная литература. Я знала, что он очень много знает.
В.Д.: Каменский? (В сторону.) Да что он знает...
Е.Г.: Да, Каменский.... И может на каждый вопрос дать ответ. Мне понадобилось, я у него могла спросить: «А вот вы помните такую-то и такого?» И он дал мне что-то точное и ясное. Но больше ничего не могу вам сказать. Я, конечно, читала, потому что все читали, но у меня сейчас ни одного кусочка от Каменского...
В.Д.: ...в голове нет. Интересно. Вы мне подсказали вопрос: а от Маяковского хоть какая-нибудь строчка у вас есть запавшая в сознание?
Е.Г.: От Маяковского? Да масса!
‹...›
В.Д.: Вы были старше этой всей молодёжи. В 914-м году Маяковскому был двадцать один год.
Е.Г.: Ой, молодой, слишком молодой!
В.Д.: Вам было сорок. Так что разница-то большая.
Е.Г.: Да, но, понимаете, у меня не так это выходило. Неужели ему было так мало?
В.Д.: Он 93-го года. Он вам почти в сыновья годился.
Е.Г.: Да, мне жалко очень. Сейчас это для меня жалко. Зачем он такой ещё молодой был? Ему надо было бы быть значительно старше... (усмехается).
В.Д.: Вы его не воспринимали как мальчишку?
Е.Г.: Нет.
В.Д.: Так, ну а насчёт Хлебникова?
Е.Г.: Насчёт Хлебникова у меня было очень много интересного и, по-моему, о Хлебникове я всё-таки писала как-то более толково... Во всяком случае, у меня о Хлебникове как-то точнее и, как мне казалось, правильнее было впечатление, чем о Маяковском. C Маяковским какое-то случайное ‹нрзб›.
В.Д.: Ну, вы Хлебникова лучше знали, вы с ним больше встречались. Он же близок был очень с Матюшиным.
Е.Г.: Может, потому что он ближе был как-то к Елене... А вот Маяковский нет. Я его в обществе моих близких людей не встречала так. Я если встречала... И как бы он себя держал, я тоже не представляю.
В.Д.: А с Бурлюком вы же его встречали?
Е.Г.: Да.
В.Д.: А у вас Бурлюк был?
Е.Г.: Был тоже. Они оба заходили. Ну, так — посидят, посидят немножко — и уйдут.
В.Д.: Он мог ведь быть очень галантным и сладким. А мог быть и совсем наоборот. Так вот с вами-то он был?..
Е.Г.: Этого буквально не было. (Пропуск в записи.) Он, по-моему, тоже очень дельно был заинтересован в том, что они все делали. Все замечания, которые он делал, это всегда были дельные замечания. Вообще мне показалось, что, если были созданы вот эти «Садки судей», то это всё-таки были Каменский, Бурлюк и...
В.Д.: И Гуро.
Е.Г.: Вот, может, Маяковский... Но относительно этого моего зятя Матюшина... это в смысле денег. Потому что всё-таки деньги были, главным образом, моей сестры; и, по-моему, это очень правильно и хорошо было, и...
В.Д.: Матюшин сам ведь в сборнике не участвовал. Он же не литератор.
Е.Г.: Он сам не участвовал. Он не литератор, да. Он музыкант, как музыкант интересный, как музыкант он несомненно — футурист. Я считаю, что резкой линией делить, что вот, мол, музыка — это одно, а литература — это другое, нельзя делить. Искусство есть искусство.
В.Д.: Верно. И Матюшин вместе с Кручёныхом писали оперу «Победа над солнцем».
Е.Г.: Вот-вот-вот. Совершенно верно.
В.Д.: Вот вы что-нибудь напомните в связи с этим, какой-нибудь эпизод? И саму эту оперу вы слышали?
Е.Г.: Да, конечно, у меня масса воспоминаний. Просто вот в данный момент... Если бы у меня была эта книжка, я бы вспомнила... Я ведь была против многого в душе... Как вам сказать, опять против, только теперь — футуристов. Что-то было у меня такое неприятное.
В.Д.: В этой опере?
Е.Г.: К их подходу. К подходу Матюшина и Кручёныха. Кручёных мне представлялся каким-то надоедливым. Не знаю, это очень трудно сказать.
В.Д.: А Матюшин и Кручёных были дружны?
Е.Г.: Я бы сказала «принуждённые друзья». Они были, понимаете, они были в деле, которое делать само по себе хотелось, которое было чем-то, нутряное! Нет, было какое-то дело, которое интересно Кручёныху и было интересно Матюшину. Так вот благодаря какой-то связи внешней так они были связаны, а так — я не знаю, не думаю... Я знаю, что Кручёных ни разу... не помню ни одного его высказывания, которое меня бы задело. Ну ни одного!
В.Д.: «Задело» — в смысле — «показалось интересным»?
Е.Г.: Да, в смысле художественном.
В.Д.: Он вам был неинтересен?
Е.Г.: Нет, мне он не был интересен. Но в то же время, я всё время чувствовала, что с моей стороны это как-то неправильно. Будто бы я делю людей на таких, на которых можно обращать внимание и на какую-то дрянь, о которой нечего и думать. Что будто бы у меня отношение к Кручёныху тоже такое: «Это вот дрянь, о которой не стоит и думать».
В.Д.: И вы, так сказать, морально чувствовали себя как бы немножко виноватой, да?
Е.Г.: Виноватой, да.
В.Д.: Понятно. Но по отношению к Каменскому такой вины не было, да?
Е.Г.: Нет, видите, в этом отношении совсем не было, потому что Каменский был для меня просто — ну как сказать? — факт. Что такое «факт»? «Факт» — это такое, что видишь, осязаешь, пощупать можешь. Французское слово хорошее palpable. Потрогать именно пальцами.
В.Д.: Осязать. Palpable — осязаемое.
Е.Г.: Да, но слово русское «осязаемый» и palpable — разные. Palpable — это значит просто пощупать пальцами, но пальцами. А осязательный — это может быть не только пальцами, но когда обидела чем-то, напомнило что-то. Palpable нельзя сказать о вещи, которая вам напомнила что-то, нет. Palpable буквально — пощупать пальцами.
В.Д.: Ну а Бурлюк-то, Давид Давидович, он-то был ощутим?
Е.Г.: Давид был другой. Видите ли, дело в том, что он мне стал интересен, только когда я уже перестала видеть его, и когда он был уже где-то за границей. Я его смотрела, много видела, многое замечала, но как-то прошла мимо. Но когда потом кто-то, вероятно, Парнис, принёс мне какой-то журнал...
В.Д.: «Красная стрела», наверное.
Е.Г.: Снимки с этого Бурлюка, там был интереснейший один снимок, который мне показал: нет, крупный футурист! Главное, человек, который видит больше, чем у него нарисовано. Он как человек и как художник из их компании, он меня заинтересовал очень мало. Но потом, когда я увидела его некоторые снимки, я пришла в положительный восторг от такого большого художника. А что мне понравилось: там было приоткрытое окно. И была какая-то одна буквально черточка, которая вот так перечёркивала. Это он как художник зачем-то перечеркнул. Но благодаря этому ощущаться совершенно стало такое богатство, такая сила, такое море красоты и цветов! Казалось, будто бы окно вывалилось, и оттуда откуда-то вылезла, или, наоборот, отсюда туда влезла целая куча чего-то замечательного. Вот это было и случайно и не случайно. Я подумала: вот это футуризм, действительно. Что достаточно этого перечёркнутого, чтобы оказалось богатство. А не было бы перечёркнуто — богатства бы не было.
В.Д.: Очень хорошо. Нет, ваши характеристики, Екатерина Генриховна, такие импрессионистские, они очень выразительны. А вы на спектаклях футуристических в театре футуристов, в зале были на пьесах «Победа над Солнцем» и «Трагедия. Владимир Маяковский»? Что-нибудь помните?
Е.Г.: Странно, я была, я что-то переживала, но потом как-то в чем-то сказалось у меня, и я многое забыла.
В.Д.: Ну вот о Хлебникове что помните ещё? Как вы к его стихам относились?
Е.Г.: Я что-то в Хлебникове ещё пропустила, кроме его странности. Ведь у Хлебникова, знаете, были непонятные странности, просто непонятные, глупые странности. То, что я вспоминала о Хлебникове, это было, может быть, очень интересно, но как-то оно дико уж очень было, очень дико.
В.Д.: Ну что же, об участниках футуристического движения мы поговорили, всё-таки, кого вы знавали из них? Братьев Бурлюков Николая и Владимира вы знавали?
Е.Г.: Да. И тот и другой для меня — нуль.
В.Д.: Нуль так нуль. А кто ещё из художественного мира бывал? Вот мы биографию так и не довели до этого времени. Вы с Еленой и Матюшиным вместе, в одной квартире жили?
Е.Г.: У нас было короткое время, что мы жили в одной квартире. Но это нас не сблизило, а наоборот, неприятно довольно раздвинуло. Вообще, конечно, с Леной мы виделись постоянно, и без Лены у меня ничего и не было и не могло быть.
В.Д.: Правильно ли было бы сделать вывод, что кружок литераторов, музыкантов и художников, который вы встречали через свою сестру Елену Генриховну Гуро, был всё-таки довольно, относительно замкнутым?
Е.Г.: Замкнут. Правильно.
‹...›
Е.Г.: «Облако в штанах»? Да. Но подождите... Но я ни разу не помню, чтоб мне «Облако в штанах» прочли от начала до конца. А я всегда помню несколько кусочков, которые на меня произвели впечатление, и которые меня заставили как-то иначе, много иначе думать как-то, на меня произвели впечатление. Вообще я себя как-то очень уменьшала в этой компании, потому что я не считала себя какой-то футуристкой, понимаете?
В.Д.: Не считали себя?
Е.Г.: Вот представьте себе! Что я скорее... Одним словом, моя позиция была такая: у меня сестра футуристка, у неё очень интересные знакомые, она меня усиленно туда тащит, но я и мой мир — это не совсем одно и то же. И что ни они в моем мире не были, ни я в их своя вполне не была. Это у меня ясно совершенно. ‹...› Я скажу только одно: я без конца любила свою сестру, так же, как и она меня, причём у нас такое отношение, что она меня ставила почему-то очень высоко во всём, и к моему мнению она невероятно прислушивалась. А я, со своей стороны, очень ценила её, и всё. Но было что-то, что меня от неё всё-таки отделяло, не столько от, сколько, пожалуй, от её атмосферы. Какая-то грань, именно грань была. Я легко переходила через эту грань, но обосновать её или оправдывать я не могу сейчас.
В.Д.: Понимаю. То есть... Ну, тогда... Вы, так сказать, стали в другом... и это очень важно, то есть атмосфера футуризма вам была чужда. Вы были там постольку, поскольку там была ваша сестра, да?
Е.Г.: Нет, не совсем...
‹...›
Е.Г.: Кручёных и Маяковский, они были несколько далеки друг от друга в том смысле, что Кручёных нападал на Маяковского. И вот если это при мне бывало, то я яростно защищала, это я помню.
В.Д.: Кручёных нападал на Маяковского?
Е.Г.: Да. Я не знаю, как это сказать. Но относился к нему недружелюбно, как будто к такому, который что-то выдумывает, покрасоваться, что ли, я не знаю. И что как будто бы он, Кручёных, сравнивал себя с Маяковским и находил, что вот он, Кручёных, это действительно футурист, а Маяковский, он что-то такое не совсем то. А тут у него какая-то была зацепка. Но опять же, я совершенно отказываюсь это как-то крепче обосновывать. Передаю только свои впечатления, что Кручёных был недоволен чем-то. Кручёных у меня лично, весь в таком узком этом бывал, чуть ли не каждый день. И вот, бывая каждый день, ему могло не понравиться, так сказать, чуждым быть, что кого-то другого в этом же самом помещении расхваливают или вообще признают больше, а он, Кручёных, как будто тут ничто. ‹...›
В.Д.: Так. Ну, понятно. Но у Матюшина неприязненное отношение к Маяковскому вы потом замечали, да?
Е.Г.: Я очень хорошо знаю Матюшина, конечно...
В.Д.: Я понял вас в одной из наших предыдущих встреч, что Михаил Васильевич Матюшин к Маяковскому относился настороженно. Так сказать, не очень его принимал, и что после смерти Гуро как-то и Маяковский с Матюшиным оказались дальше. Так или не так?
Е.Г.: Возможно, возможно. Вот эти самые слова, что после смерти они оказались как-то врозь и шли помимо, как вам сказать, помимо обязанности быть вместе...
В.Д.: Так сказать, по групповой привычке...
Е.Г.: Вот-вот. Но кроме этого, их не связывало... Друг друга они не искали. Мне так показалось.
В.Д.: Значит, я не ошибся.
‹...›
В.Д.: О Хлебникове вы сказали совсем мало.
Е.Г.: О Хлебникове сказала мало, но у меня впечатлений о Хлебникове гораздо больше, чем о Маяковском.
В.Д.: Так может быть, вы дополните? Вы сказали только одно: что он был как будто бы окружён какой-то невидимой стеной. Это все, что вы о нем сказали, а никаких конкретных...
Е.Г.: Хорошо. Он был в своём мире и жил в своём мире. И от этой жизни в своём мире в нём, так сказать, физическом облике, который вот сидит за столом со всеми, было много чего почти непереходимого. Казалось, что он просто не своём уме. Например, так. (Я сейчас вам скажу, но прошу на это не напирать особенно.) Он не позволял дотрагиваться до... когда человек ходит и извлекает свои, как бы вам это сказать... Ну, вот человек ест, ест, накопляется, потом надо ему пойти в уборную, так вот, значит, у него будто бы, у Хлебникова, было под кроватью ведро, куда он спускал свои эти... и не позволял никому ни смотреть, ни дотрагиваться...
‹...›
В.Д.: Это, конечно, уже такой факт чисто психиатрический.
Е.Г.: Это вот именно!
В.Д.: Это уже явная психиатрия. То есть когда... понимаю...
Е.Г.: Возможно, что у Хлебникова были такие минуты, что он был, как бы вам сказать, не совсем в своём уме, у Хлебникова.
В.Д.: Да. Но вы его как поэта, так сказать, воспринимаете?
Е.Г.: Очень, очень, очень, очень!
В.Д.: Очень, да? Так что вы его тогда уже и высоко ставили?
Е.Г.: Всегда. И там мы... Я не помню ни одной минуты, чтобы Лена, моя сестра, к нему как-нибудь тоже так странно относилась, нет. Она его так же просто принимала, как всякого другого. Никакой минуты, секунды подозрительности, что это не совсем нормальный человек, у неё не было. Тоже и у меня не было. У меня было: человек со странностями. И я не уверена даже сейчас, если бы я встретила сейчас какого-нибудь странного человека, неужели у меня было такое чувство, что он психически ненормальный? Нет. Не знаю, не знаю.
В.Д.: Врачи говорят, что в наше время каждый четвёртый человек, из четырёх каждый четвёртый с нарушенной психикой, это в наше время.
Е.Г.: С вами я вполне согласна, вполне согласна. И поэтому разделять как-то, так это просто странно и, главное, как-то жестоко. Вот это чувство этой капли жестокости, это меня до такой степени откидывает всех людей, у кого я чувствую эту каплю жестокости, что я видеть их не могу. Я бы свою сестру бы выбросила, если бы видела в ней хоть каплю этой жестокости. Но у неё этого не было!
‹...›
В.Д.: А откуда ваш псевдоним Низен? А что значит ваш псевдоним?
Е.Г.: Ах это? Это сколько угодно! Низен — это название горы, которая находится близ Женевы. Причем её местные жители называли Niesen die Schöne, то есть «Низен красивая». Назвали они потому, что удивительная форма этой горы. Это гора такая излюбленная, такая... Это были две вот такие штуки, две линии, которые сходились кверху.
В.Д.: Пирамидальная.
Е.Г.: Вот, и вся гора была. И она действительно была die Schöne, какое-то единственное существо. Не надо, ради бога не подумайте, что я себя считаю die Schöne, или что меня кто-то считал. Напротив, меня считали уродиной, потому что у меня был огромный рот, и все говорили, что у меня такой огромный рот, что просто безобразие.
‹...›
Е.Г.: Мне везло, мне вечно везло. Везло, что я познакомилась с такими-то, везло, что я о них забыла, познакомилась с другими. Это тоже мне повезло. Так что мне очень везло в жизни... Отбросы или отщепенцы, которых в своём мире... их почему-то в своём мире не принимали, презрительно относились. И вот эти отщепенцы, к этим отщепенцам принадлежал Михаил Васильевич Матюшин, который вертелся среди таких непризнанных художников, как он попал в оркестр художественный, оркестр придворный? Это для меня сейчас непонятно. Как он попал в придворный оркестр?
В.Д.: А кто его родители? Какая среда, вы не знаете?
Е.Г.: Его? Я только знаю, что его жена совершенно не обладала...
В.Д.: Его мать или жена?
Е.Г.: Жена Матюшина. У него же двое детей...
В.Д.: Это вот Ольга, да?
Е.Г.: Да нет, что вы!
В.Д.: Мать, вы хотите сказать?
Е.Г.: Сейчас скажу...
В.Д.: Первая жена Матюшина?
Е.Г.: У Матюшина первая жена (она, кажется, была портнихой, что ли, или не знаю, чем там. Не знаю, чем она была). Но у него было двое детей.1![]()
В.Д.: И женился на Гуро. На Елене Гуро.
Е.Г.: Да. Нет, ну, мне это... Я теперь начинаю немного бояться, что он был просто очень расчётливый и, может быть, дрянной человек, этот самый Матюшин. И когда явилась возможность ему уцепиться за что-то более интересное в жизни... И просто обеспеченность и всё...
В.Д.: То он зацепился.
Е.Г.: Конечно.
‹...›
В.Д.: Ну, Екатерина Генриховна (это я уж для магнитофона говорю), раз уж не получилась у нас запись, а я не получил в записи... получил мало материала о Хлебникове, я уж за вас сам прочитаю вот лежащий передо мной листочек, который называется «Из воспоминаний о Хлебникове и его времени». Вот. Вы сами его прочитать не сможете, потому что мелкий шрифт. Из воспоминаний о В. Хлебникове и его времени. Подходя к футуристам, будетлянам, как они себя называли, надо, прежде всего, помнить одно: они были — необходимое священное право каждой пятнице следовать за четвергом и стоять перед воскресеньем: история.
Е.Г.: Вот получается немножко неверно. Подходя к ним, надо помнить, прежде всего, только одно: они были — и больше ничего, они были, а у вас ещё сказано... как там дальше?
В.Д.: Нет, они были у вас подчёркнуто.
Е.Г.: Да.
В.Д.: Дальше тире необходимое священное право каждой пятнице следовать за четвергом.
Е.Г.: А-а-а-а!
В.Д.: и стоять перед воскресеньем.
Е.Г.: Да, да, верно, это правильно, правильно.
В.Д.: Да. И потом две точки история. Да, вот, это очень верно.
Е.Г.: Верно.
В.Д.: Я абсолютно понимаю конструкцию этой фразы. (Продолжает читать.) История своих детей не теряет и не забрасывает.
Е.Г.: Правильно.
В.Д.: Они живут и сейчас, продолжают просовывать свои щупальца во всё, что движется и нарастает, и потому сейчас хочется вспомнить, понять, что же заставляло тогда останавливаться и приглядываться, несмотря, а может быть, именно в связи с огромными событиями, которые стучались в привычно тесное. И никакого противоречия и взаимного отталкивания между правдой жизни и поисками правды в своём мастерстве не ощущалось и не было. Помню, как в неизбежном улюлюканье тех, кто вообще терял место в жизни, кто-то на выставке сказал про татлинские исковерканные предметы, кажется, столы и стулья: „Так это ж он, Татлин. Что говорит? Ты, говорит, сегодняшний мир таков, таков, что тебя давно бы надо исковеркать”. И рядом с улюлюканьем одобрительный смех. То есть я понял эту фразу так, что Татлин коверкает мир, а какой-то обыватель, значит, говорит, что исковеркать надо Татлина. Так? Правильно я понял?
Е.Г.: Не понимаю... Нет, я не понимаю...
В.Д.: Тут такая фраза: Так это ж он, Татлин. Что говорит? Ты, говорит, сегодняшний мир таков, что тебя давно надо исковеркать. (Усмехается.) Значит, мир надо...
Е.Г.: Что его надо выбросить там, лишний ‹нрзб› у меня смысл был.
В.Д. И рядом с улюлюканьем был одобрительный смех. А про лесенку из сереньких щепочек, наклеенную поверх картины, кажется, того же Татлина, говорилось: „Интересно, точно вспоминается что-то хорошее, из детства: велико было желание видеть по-новому и не быть принудительно нормальным из страха, вообще какого-нибудь страха”. Публика на выставках вообще состояла из трёх слоев: свои, враги и ищущие. Их было большинство. Были и передержки, и уродливости, неизменный “вклад” примазывавшихся; их не принято было высмеивать и принижать — время покажет. Между своими законом была дружба и непримиримая требовательность взаимных оценок. Поэт-футурист К. Очевидно, Кручёных?
Е.Г.: Да.
В.Д.: сказал как-то писательнице и художнице Елене Гуро: „Ваша книжка «Шарманка» — проститутка”. А она до того была полна прибоем новым и своей ответственностью перед ним, что даже не очень огорчилась, пожала плечами, грустно, говорит: „Стараюсь”. А тем, кому, прежде всего, нужно — и теперь тоже — кого-то уличить, уменьшить, отодвинуть, чтобы лучше зацепиться за кусок, следовало бы знать, что подпольная переписка нашей советской революции шла на спокойный адрес придворного скрипача Михаила Матюшина, мужа Елены Гуро. Вот факт, который вы не сообщили мне, я не знал. Оркестр играл неизменно на царских обедах, а помещик С. Вы не помните его фамилию?
Е.Г.: Нет, не помню.
В.Д.: в собственных санях перевозил в Петербург тюки подпольной литературы через границу с Финляндией около Териок. Весёлое и дерзкое очень было своим. Поветрие предвесеннее, обязательное, может быть, для всех революционных периодов, короткие именины среднего усталого человека.
Е.Г.: Вот это, да, помню-помню.
В.Д.: Новому и дерзкому в жизни часто везет. Как это могло случиться, что удалось снять, заполучить Мариинский государственный театр в Петербурге для постановки оперы Михаила Матюшина «Победа над солнцем». Я не принимала участия в организационных делах, и их размах казался мне преувеличенным. Но опять же он же, размах, был. Как-то собрались деньги, кто-то смастерил необычайные декорации, освещение, откуда-то взялся оркестр. Он грохотал, влетал в действие сцены, падал, и снова накапливался где-то в углах. Костюмов не было. Ежедневные пиджаки и юбки своей несомненностью делали всё на сцене вероятным. Именно так оно и получается в сказках Гофмана, имевших несомненное влияние на футуристов. Очень интересная мысль, что Гофман и футуристы. Сказочность добра в трудные для человечества минуты. Вся опера вообще — грохот. Какие-то огромные полосы света со сцены в зал и обратно. Полосы были такие основательные, вещественные, точно на них можно было облокотиться. „Облокотиться на полосы света” — это хорошо. Мы с Еленой Гуро обе в то время болели. Нас привезли и увезли домой в карете. И улица через окна была совсем не та, что на сцене, вся загромождённая непонятными углами и поворотами. Было невероятно, но радовало. И спускать ноги из кареты на тротуар было очень странно. Неужели так просто и не опасно? В несколько необычной квартире на Песочной, сдвоенной, выходившей на две улицы и в большой сад, среди многих других бывал и Велимир Хлебников. Я его видела мало. Основное впечатление — отдельность, непохожесть, точно он окружён стенкой другого воздуха и немного удивлён или к чему-то прислушивается. И ещё: точно не совсем помещается в комнате.
Е.Г.: Точно не совсем?
В.Д.: Точно не совсем помещается в комнате.
Е.Г.: А-а-а! Это хорошо.
В.Д.: Такое же “не помещается” было и у Маяковского. Но у Хлебникова оно было очень доброе и несколько неуклюжее. И ещё. Доброму будет трудно, но это всё было в комнате среди людей — непохоже. В своей работе, в поисках слова, единственного, он был неприступен. В его стихах, так казалось мне, никогда не было нарочитых вывертов, чтобы ошарашить, подкупить.
Е.Г.: Никогда не было чего?
В.Д.: В его стихах, так казалось мне, никогда не было нарочитых вывертов, чтобы ошарашить, подкупить.
Е.Г.: Правильно, правильно.
В.Д.: Просто все слова-окружение оказывались ненастоящими и отбрасывались, и отбрасывались. Почти каждое стихотворение получалось рядом искр, которые хотелось остановить, раздвинуть и закрепить, чтобы ещё к ним вернуться. Но они уже сдвинулись, напор новых, а у читателя почти неизбежное чувство неудовлетворённости, усталости, надоедного бессилия получить то, что уже держишь в руках. Нет больше чтения, и искры опять потянут. Но что же делать хозяину алладиновой лампы и его мудрому наставнику? Живые существа — слова, образы, вызванные из самых глубоких тайников человеческой силы, и вот надвигаются, как лавина, как приказанье. Гнать, выбрасывать, уничтожить из-за неудобств сегодняшнего дня, уничтожить живое, может быть, драгоценное для бионики, например, для изучения процессов творчества? А что если эти процессы — основа всех и всяческих завоеваний? Екатерина Низен (Гуро). 14 марта 1965 года. Собственноручная подпись её.
Е.Г.: Да, я...
В.Д.: Вы целиком подтверждаете это сейчас?
Е.Г.: Возможно, что я сейчас не написала бы так, как... теперь, потому что я немножечко уже выцвела, у меня, может быть, силы нету для таких... Это довольно сильно сказано было.
В.Д.: Хорошо написано.
Е.Г.: Вот. Поэтому, может быть... Только это не в мою пользу, но в пользу самой вещи уже действительно, это очень правильно, по сути, по мысли это абсолютно правильно, и я целиком подписываюсь, конечно.
В.Д.: И это хорошо написано. Значит, это вы написали в 65-м году, в девяносто лет. Ну какая же у вас всё-таки большая сила есть литературная, если вы в девяносто лет так писали! Очень хорошо. Потому мне и хочется побольше из вас вытащить (Усмехается.) ‹...›
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 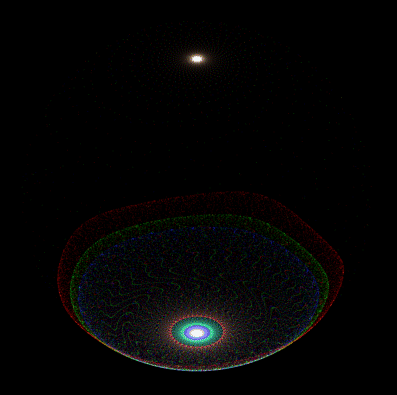 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||