




В предшествующей главе были приведены отрывки из писем Хлебникова, где вектор его странствий именно в “персидском” направлении был предусмотрен планами и предсказан некоторыми “прорицаниями”. Во всяком случае в перечне, обнаруженном в архиве (и процитированном в начале II главы I части) после Баку — конечным пунктом хлебниковских путешествий — была названа Персия.
Из всех русских поэтов, рвавшихся в страну Саади и Фирдоуси, только Хлебников через сто лет после Грибоедова сумел неожиданно и сравнительно легко, благодаря особым обстоятельствам, осуществить давно лелеемую мечту: Ноги, усталые в Харькове, // Покрытые ранами в Баку, // Высмеянные уличными детьми и девицами, // Вымыть в зеленых водах Ирана (137).
Эти строки написаны в апреле 1921 г. уже в Иране, когда Хлебников, сотрудник Политуправления Реввоенсовета 11-й армии, вместе с воинскими частями и моряками Каспийской флотилии под командованием Ф.Ф. Раскольникова, брошенными на помощь революционным формированиям иранских кардашей, поднявших красное знамя свободы, появился на древней земле Заратуштры и Маздака, Рудаки и Хафиза, Мирзы-Баба и Гурриэт эль-Айн.
Не будем вдаваться здесь в политическую сущность событий, развернувшихся в приграничном с Советской Средней Азией районе Ирана; отметим лишь, что они в известной степени перекликаются с “необъявленной войной” в Афганистане через семьдесят лет после иранского похода Красной Армии. Ниже мы еще вернемся к вопросу о том, как воспринимал “гилянскую революцию” и весь этот эпизод нашей истории Хлебников; пока же воспроизведем запись участника событий Р.П. Абиха, чтобы уловить “сюжет” иранской эпопеи в той ее части, которая касается судьбы Хлебникова:
Столь пространная выписка сделана не только для того, чтобы прояснить обстановку, в которой пребывал Хлебников в Иране, но и для постижения внутреннего мира поэта в этой необычной обстановке. Здесь можно, конечно, отметить привычную для Хлебникова отрешенность от мира сего; однако она не помешала ему ввязаться в столь бесславное предприятие, окончившееся, как мы видели, полным поражением. Очевидно, необходимы некоторые объяснения.
Во-первых, само участие Хлебникова в “иранском походе” было весьма условным. Р. Абих отмечал: „Обязанностей у Хлебникова не было никаких. Поэтому он хотя и числился на службе, но располагал временем и собой в полной мере“. Выше было рассказано, что он купался, писал стихи и делал вычисления для Досок Судьбы.
Во-вторых, и это более важно, Хлебников не воспринимал иранскую эпопею ни как победу, ни как поражение. Для него это было не вторжение в иное государство и даже не братская помощь поднявшим восстание кардашам, а прежде всего виток мирового исторического процесса, предсказанного им и воспринимаемого как закономерность судьбы, т.е. истории. Ведь еще в «Азах из Узы» и «Ладомире» была художественно развита концепция движения революции на Восток. Именно так, как часть этого движения, и, воспринимал Хлебников “иранский поход”. Ведь не случайно даже после гилянского разгрома, спустя всего несколько месяцев, он пишет из Пятигорска В.А. Хлебникову: Будущим летом я, вероятно, опять поеду в Персию ‹...› (5, 323). То есть поражение военного отряда под Рудессером, отплытие обратно в Баку не лишает Хлебникова уверенности, в том, что общий ход исторического процесса вернет все на круги своя, что революция неумолимо придет в Иран, что Персия будет советской страной (5, 85). Этот пророческий пафос свойствен не только стихам, написанным в Энзели или Реште и опубликованным в газете «Красный Иран» в мае–июле 1921 г., но и произведениям, созданным позже, после возращения на Кавказ. Во всех этих вещах, включая поэму «Труба Гуль-Муллы», сохранена уверенность в том, что революция, даже экспортируемая извне (чего Хлебников явно не понимал), и есть тот самый мир Справедливости и Добра, который предвещали Заратуштра и Маздак и за который погибли Мирза-Баб и Гурриэт эль-Айн.
Во всем этом сказались известная абстрагированность Хлебникова от реальных событий и политических коллизий времени, желание и способность воспринимать мир лишь сквозь призму Корана чисел, религиозных и философских учений древности, проецируемых на современный Восток. Ниже мы увидим, что Хлебников постиг и воссоздал в Иране многое: живой лик природы, онтологические и социальные срезы восточного многослойного мира, душевный жест простого иранца и гамму переживаний восточной женщины. Но вначале поэт избирает наиболее точный, по его мнению, путь на Восток: через вековую структуру национального сознания в его наиболее концентрированных и системно оформленных представлениях — через древнеиранскую мифологию.
Наиболее мощно этот путь в его художественном выражении воплотился у Хлебникова в стихотворении «Видите, персы, — вот я иду...», которое воспринимается как некая программная, торжественно провозглашенная декларация, напоминающая скорее не произведение русского поэта, а исторгнутую из глубин веры вдохновенную речь пророка, возвещающего как бы вложенные в его сознание высшей силой великие истины:
Здесь русский поэт Велимир Хлебников полностью растворяется в созданном им образе зороастрийского пророка: почти вся структура и все пространство стихотворения-декларации выстроены из блоков Авесты; стиховая и лексико-синтаксическая стихия пронизаны звуками и содержательными синтагмами авестийского языка; семантика пророчества восходит к общему строю зороастрийского сознания, его мировосприятию и мирочувствованию, подчинена его осмыслению вселенной, человечества, прошлого и будущего, добра и зла.
Но прежде чем дать точный и опирающийся на сопоставления с древнеиранскими мифами анализ текста, нам придется вернуться в Баку, где, на наш взгляд, если не зарождалось, то во всяком случае укреплялось это удивительное слияние художественного сознания Хлебникова с древнеисторическим зороастрийским восприятием мира в его движении к Истине.
Что послужило толчком к такому тесному пересечению концепций бытия у современного русского поэта и великого восточного вероучителя VII–IV столетий до н.э. (даты жизни Зороастра не установлены)? Не исключено, что таким импульсом могла быть не только стихия всеобщего поклонения окружающих Хлебникова людей — азербайджанцев, турок — зороастрийской религии, каноны которой не были забыты на Советском Востоке; не только развитие этих канонических взглядов и соответствующих образно-мифологических систем в поэзии Фирдоуси и стихотворцев его круга, знакомой Хлебникову и прежде, но особенно органично вошедшей в его мир именно в Баку.2![]()
![]()
![]()
![]()
С учением Заратуштры (Зороастра) Хлебников познакомился, видимо, еще в Казани. В частности, здесь в 1897 г. вышла книга М. Источникова «Мнимая зависимость библейского вероучения от религии Зороастра», к содержанию которой нам еще придется обратиться.
В пору пребывания поэта в стране огня вдохновенные пророчества, произнесенные когда-то золотыми устами Заратустры, не могли не вспыхнуть пламенем в сознании Хлебникова, особенно тогда, когда он должен был вступить на священную землю Древнего Ирана, давшего миру самого великого и мудрого вероучителя. Это понятно: зороастризм, по суждению Мэри Бойс, и сегодня рассматривается „не только как мощный источник влияния на другие религии, но и как религия благородная, сохранявшая на протяжении тысячелетий, несмотря на жестокие преследования преданных приверженцев“.6![]()
Заратуштра был близок Хлебникову теми моральными идеями, которые заложены в Авесте. Близок, по сути, социально, если учесть, что этические концепции Заратуштры накладывались в сознании Хлебникова на революционный опыт эпохи. Именно с точки зрения этого опыта следует воспринимать смысл стихотворного пророчества Хлебникова — русского поэта, сделавшего Заратуштру фактически своим духовным пра-двойником. Ведь этическая сущность учения Заратуштры выражала мысль о том, что зло и страдания обусловлены не небом, не „капризами божества“, а „зависят от самих людей, которые являются активными творцами своего счастья“.7![]()
Не эти ли лозунги и в 17-м, и в 21-м годах были лозунгами революции? Социальная близость их Хлебникову обусловливалась тем, что он ощушал себя не просто пророком, но и деятелем, несущим в Персию, как он предполагал, новый, более справедливый порядок, пришедший в мир с революцией, по сути, предсказанной и предустановленной и древнеиранским вероучителем, и им самим.
Есть еще одна важная категория, лежащая на линии как содержательных, так и формальных связей, объединяющих Заратуштру с Хлебниковым. Создавая свое произведение от первого лица, Хлебников здесь решает проблему перевоплощения в “современного” пророка (Я Гушедар-мах, // Я Гушедар-мах — пророк Века сего ‹...›). Тем самым читатель с самого начала включен в сложную систему межличностных и междуховных отношений “человек — пророк — бог”, отличающих зороастризм как одну из мировых религий откровения, в которых дух, мысль, идея, слово исходят как бы не от пишущего или переписывающего тот или иной документ (летопись, изложение мифа, литургическое повествование, лирическое излияние — гат, яшт — и т.п.),8![]()
Такой “поэзией откровения” является, по сути, весь “иранский цикл” Хлебникова вместе с «Трубой Гуль-муллы»: личное “я” поэта расширяется здесь до пределов почти космических, оставаясь во многом национально конкретным: в нем заключен мир восточного поэта-пророка, обладающего даром прорицания, возможностью постижения и прозрения прошлого, настоящего и будущего, выраженного в категориях вечности — в образах авестийского (зороастрийского) духовно-традиционного образного ряда.
Самоощущение в себе этого духа — потенции пророческого дара — не покидало Хлебникова и прежде; достаточно вспомнить ту серьезность, с которой он воспринимал звание Председателя Земного шара, “присвоенное” ему в 1918 г. Это самоощущение мощно укреплялось сознанием своей способности вычисления хода истории, осмысливаемой в это время как вполне постижимой системы числовых пересечений и связей; работа Хлебникова над Кораном чисел совпала (а скорее всего была внутренне связана) с его усилившимся движением к авестийским концепциям постоянной борьбы Ахура-Мазды и Ангра-Майнйу (более известных по поздним эпическим именам Ормазда и Ахримана) — добра и зла. Естественна и связь смысловых значений этих общих понятий Авесты с конкретными событиями эпохи, с противоборством Добра и Зла как сути всего происходящего на глазах поэта.
Вся эта сложная система духовных связей внутренней жизни художественного сознания с реальностью социальних взрывов, с рационалистическими выкладками цифровых структур хлебниковского исторического мироосмысления абсолютно логично пересекалась с важнейшими концепциями “благородной религии” Заратустры, с авестийской системой благих “святых” Амеша Спенты — служителей Добра, борцов со Злом; с теми предсказаниями Заратуштры, которые совпадали с пророчествами самого Хлебникова, свято верившего в наступление “золотого века” счастья, добра и высшей справедливости, отождествляемого в сознании художника именно с революцией, Советами — с эрой торжества Труда, Человека, Истины.
Близость семантических пластов стихотворения «Видите, персы, — вот я иду...» ко всему мифологическому строю Авесты зиждется на многих опорных точках, среди которых на первый план выходят лексико-ономастические фигуры и термины авестийского языка и зороастрийского “Олимпа”, к которым прибавлены и два имени реальных исторических лиц: Заратуштры и Гурриэт эль-Айн. Все эти ономастические лексемы играют в структуре стихотворения важную функционально-художественную роль, достаточно значительную для общего осмысления текста, чтобы быть рассмотренными отдельно. Прежде чем начать анализ, сделаем две оговорки.
Во-первых, отметим некоторый орфоэпический разнобой между ономастикой зороастрийских мифологических памятников и стихотворения Хлебникова, что вполне понятно: русское произношение даже основных имен и терминов Авесты или Бундахишна не унифицировано до сего времени и в различных переводах они звучат по-разному. В этом мы убедимся, цитируя различные источники. Но поскольку не установлен конкретный текст, к которому обращался Хлебников (он мог воспроизводить имена и понятия древне-иранских мифов и по памяти), важна лишь верная идентификация, а не орфоэпическая точность введенных в русский поэтический текст зороастрийских терминов, при всем их разночтении в Авесте (Младшей Авесте) и у Хлебникова.
Во-вторых, рассматривая ономастический “каркас” стихотворения, следуя при этом течению текста, мы сделаем в одном месте сознательный пропуск: к имени “главного героя” стихотворения, Гушедар-маха, обратимся позже, для чего есть особые причины, о которых мы скажем ниже.
Каждое из использованных Хлебниковым древнеиранских мифологических понятий или имен не есть обращение к особому ориентальному фонду для внесения в русский текст специфического колорита ориентальной истории. Наоборот, эти понятия и имена сознательно спроецированы поэтом на современность. На уже известные нам реальные события: приход в Гилян Красной Армии, ее воинов, одним из которых был сам Хлебников, ощущавший себя “пророком” новой веры. На современный строй его художественного сознания, который и “диктовал” ему выбор конкретных, важнейших фигур Авесты и Бундахишна, способных передать в максимально глубоко закрепленной тысячелетней традицией форме идею революции как мира, предсказанного и завещанного Заратуштрой. Именно с этой точки зрения следует подходить к анализу ориентально-мифологической ономастики и терминологии в стихотворении Хлебникова, начиная с самой первой заимствованной авестийской лексемы — Синват.
1. Синват — так Хлебников произносит понятие ‘Чинват’ (‘Чин-ва’, ‘Чинвато’), означающее “мост в потусторонний мир” (5, 345) или “чудесный мост в загробный мир”.9![]()
2. Фрашокерети (мир будущего). Так в скобках расшифровывает сам Хлебников авестийский термин, подчеркивая этим, что его Синват — понятие скорее временнóе, чем пространственное: это мост из прошлого в грядущее, из эпохи Заратуштры в эпоху Хлебникова, из мира веры в мир свершения пророчества — установления на земле царства справедливости и добра. Как видим, с самого начала традиционная образная система Авесты трансформируется, символически преображается, канонические эмблемы обретают новое наполнение. Здесь важно, что, избирая “абстрактные” авестийские понятия, Хлебников придает им в образной структуре произведения смысл исторически и социально конкретный; но в то же время он сохраняет их “божественную” наполненность, эсхатологическую драматичность,10![]()
![]()
Этот мир будущего для Хлебникова — не рай, не абстрактное “небесное” понятие, он должен быть создан для человека. Отсюда — логический переход к теме перволюдей на Земле.
3. Матия и Матиян. Напомним интерпретацию Хлебникова:
Ныне если целуются девушка я юноша:
Это Матия и Матиян — первые вставшие из каменных гробов прошлого.
Прежде всего отметим важнейшее в контексте слово, связывающее прошлое с настоящим: ныне. Речь идет о современниках Хлебникова, хоть и являющихся потомками тех, кто, согласно Бундахишну (отразившему позднезороастрийские представления о возникновении человечества12![]()
Итак, обращение к этим фигурам зороастрийского вероучения — это выход поэта в человеческий мир Востока, с тем чтобы объявить ему то, что принесет новый пророк людям. Но Матия и Матиян, по верному суждению М. Дрездена, не просто “человеческие существа”: они — “мать и отец мира”,13![]()
Я Вогу-моно — благая мысль,
Я Ашавагиста — лучшая справедливость,
Я Кшатра-вайрия — обетованное царство.
Напомним, что “Я” стихотворения до этого “принадлежало” Гушедар-маху; здесь происходит некое совмещение “я” каждой из трех представляющихся читателю божественных святых с “я” пророка, чьи главные ипостаси и воплощены в Вогу-мано, Ашавагисте и Кшатра-вайрии. Другими словами, благая мысль, лучшая справедливость и обетованное царство, по Хлебникову, выступают как опорные идеи концепции фрашокерети и человека Востока — потомка Матии и Матияна. Остановимся на этих персонифицированных образах-идеях подробнее.
4. Вогу-Мано (‘Вохумано’, ‘Воху Манан’), Ашавагиста (‘Аша’, ‘Аша вахишта’, ‘Аша-Вагиста’) и Кшатра-вайрия (‘Хшатра Вайрья’) — три важнейших божества из авестийского шестибожия Амеша Спента (‘Амешаспанд’), составлявших главное “окружение” верховного бога Добра — Ахура-Мазды. Для нас важны два главных вопроса: почему из шести божественных святых избраны именно эти и почему они располагаются в стихотворении именно в такой последовательности?
На первый вопрос отвечает наш собственный эпитет “важнейшие”, использованный в предшествующей фразе. По Авесте, мир спасется, если будет претворена в жизнь концептуальная триада Заратуштры: Добрая мысль — Доброе слово — Доброе деяние. Именно эти три нравственно-духовных категории и воплощают святые (или божества), избранные Хлебниковым как духовные функции Гушедар-маха. Правда, Хлебников кое-где привносит в “расшифровку” (перевод) имен “бессмертных святых” свои варианты или редакции. Если смысл понятия Вогу-мано — благая мысль — у него совпадает с общепринятым (вариант “Добрая мысль”),14![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Дальше всего поэт уходит от “расшифровки” тех комментаторов, где понятия Вогу-мано, Ашавагиста и Кшатра-вайрия получали нравственно-религиозную окраску, очевидно, не отвечающую замыслу Хлебникова. Так, хотя его транскрипция имени Аши ближе всего к транскрипции священника М. Источникова, разница в понимании смысла терминов Авесты у поэта и православного комментатора ясно различима. М. Источников так объясняет зороастрийскую триаду:
Если вспомнить, что у Хлебникова Кшатра-вайрия — обетованное царство — ассоциируется с тем, что Персия будет советской страной, то станет ясной дистанция, пролегающая между религиозными комментаторами Авесты и мироощущением автора стихотворения, опирающегося на собственное осмысление зороастрийской триады.
Конечно, подобные различия, как уже отмечалось, были обусловлены в первую очередь тем дыханием современности, которое пронизывает весь текст стихотворения «Видите, персы, — вот я иду...», обращенного к конкретным сегодняшним ситуациям социальных процессов на Востоке и событиям личной биографии Хлебникова — участника этих процессов. Однако эрудиция художника позволяла ему уловить и в самой Авесте, в гатах и яштах, в тексте Бундахишна социальный смысл, заложенный в проповедях Заратуштры и его последователей. Так, современный исследователь говорит о том, что если аспект действий Вогу-мано был в основном моральным, то направление деяний Хшатры можно охарактеризовать как политическое.22![]()
![]()
![]()
Но прежде чем перейти к рассмотрению этого образа, попытаемся ответить на второй поставленный выше вопрос: о последовательности расположения “божественной триады” Амеша Спенты в стихотворении Хлебникова. Вряд ли именно такая последовательность была случайна, хотя выявление каких-либо закономерностей композиционного строения этой части монолога выходит за рамки чисто эстетических установлений или простой авторской воли. Здесь возможны две гипотезы.
Первая: Хлебников избирает то расположение мифологических фигур Амеша Спенты, которое продиктовано внутренним движением самой основной зороастрийской “схемы”: Добрая мысль — Доброе слово — Доброе деяние (у Хлебникова: благая мысль — лучшая справедливость — обетованное царство) — от идеи добра к осмыслению ее как морально высшей категории, а далее — к претворению ее в жизнь, к активному достижению “мира будущего”.
Вторая гипотеза, может быть, менее логично выстроена, но восходит к факту огромной эрудиции Хлебникова, который, возможно, был знаком с младоавестийским календарем, где названия дней, начинающиеся с первого (главного) божества — Ахура-Мазды, продолжались далее именно в той последовательности, в какой располагает их Хлебников: второй из 30-ти дней месяца назывался ‘Воху Манах’, третий — ‘Аша Вахишта’ и четвёртый — ‘Хшатра Варья’, т.е. по той степени “важности”, какая обосновывалась, очевидно, приведенной выше духовной триадой Заратуштры.25![]()
5. Гушедар-мах. Слово мах — хлебниковская транскрипция древнеперсидского ‘магу’ (“жрец, священнослужитель”);26![]()
![]()
Миф о конце света, давший образ и имя Ошедар-мага, повествует о том, что „когда зло и бедствия на земле достигнут последних пределов, Ормузд пошлет на землю потомка Зороастра, пророка Ошедар-бами“, который будет
Эта пространная выписка необходима для того, чтобы уяснить непростую проблему выбора Хлебниковым своего главного героя, являющегося в текстах эсхатологического иранского мифа вовсе не “главным” и, говоря современным языком, не справившимся с “заданием” Ахура-Мазды. Казалось бы, с тем ощущением уверенности, которое пронизывает стихотворение Хлебникова, поэт должен был избрать из трех пророков, ниспосланных для утверждения справедливости на земле, того, кто, по наблюдениям исследователей, не случайно имел, как отмечает тот же М. Источников, „эпитет ‘победоносный’”.30![]()
На наш взгляд, художник исходит из реальной ситуации: не упоминая о силах Зла, не вводя в текст образ Друджа (противовес Истине — Аша) или самого воплощения зла — Ахримана, оставаясь лишь прорицателем, провозвестником окончательной победы Добра, поэт все же помещает между системой зороастрийских святых и клятвой золотыми устами Заратустры историческую фигуру Гурриэт эль-Айн, воплощающую именно символику борьбы со злом и возможную гибель репрезента Добра в этой борьбе. В стихотворении о Добре и его божественных ипостасях, о справедливости и мире будущего, очерченного столь социально и исторически оптимистично (Персия будет советской страной), Хлебников все же не забывает о том зле, которое предстоит преодолеть, о том, что 21-й год (XX в.) — это лишь промежуточный этап борьбы за новый Восток, за нового духовно чистого человека и общество. Можно предположить, что именно поэтому он избирает соответствующий период мифологического времени и соответствующую фигуру древнеиранского “Мифопантеона” — не Саошианса, а прошедшего и эйфорию победы, и горечь поражения Ошедар-мага.31![]()
Таким образом, дуалистический характер зороастризма, не получающий в стихотворении Хлебникова прямого выражения в каких-либо фигурах, символизирующих силы Зла, тем не менее лежит в его общедуховной основе. Не опираясь на эсхатологию маздеизма в ее схематической амбивалентной форме, поэт лишь использует конкретную ономастику древнеиранской мифологии как художественный прием, как возможность воплотить в традиционных эмблематических образах концепцию духовного обновления Востока, человечества, мира.
По сути хлебниковский Гушедар-мах — это собирательный вымышленный образ, смоделированный из блоков-черт автора Гат, многочисленных фигур пророков мировой поэзии, начиная с библейских и коранических, и самого Хлебникова, ощущавшего себя “пророком” новой веры.
Вместе с тем существует ясно зримая разница между всеми “прототипами” хлебниковского героя и самим Гушедар-махом.
Заратуштра и Ошедар-маг вещали от имени Ахура-Мазды, Моисей — от имени Яхве, Мохаммед — от имени Аллаха.
Пророк Гушедар-мах у Хлебникова — художественный образ, основанный на традиционных фигурах Авесты, Бундахишна, Библии, Корана, — явление “второй действительности”, восходящей к реальной действительности и конкретному историческому времени — революции. Поэтому он уже вещает от имени множеств — тех, кто погиб в борьбе за национально-духовное освобождение, и от имени их потомков, к которым пришел Гушедар-мах. Отсюда — множественное число глаголов, вступающих в стихотворение непосредственно вслед за фигурами Авесты:
Клятвы верности Ахура-Мазде (Богу, Аллаху) отсутствуют: они заменены клятвами верности конкретно-историческому деянию, ради которого избран путь Гушедар-Маха и тех, кто сегодня идет рядом с ним и клянется именами вероучителя и погибшей за веру в прошлом. Именно смена времен, переброс читателя из мифологического и исторического времени в слившееся воедино время автора и героя, — в живую современность и прорицаемый мир будущего — определяет новую жизнь древних мифологических образов Авесты и Бундахишна в стихотворении русского поэта.
Примечательна в этом отношении система глагольных лексем стихотворения. Связанные с прошлым (образы Авесты и Бундахишна, относящиеся к эпохам тысячелетней давности, к периодам древнейшей истории Земли и т.п.), глаголы произведения — все! — употреблены в настоящем или будущем времени. Этим подчеркнута символическая сущность использованных в стихотворении авестийских образов божеств и перволюдей, самого пророка и исторических лиц (Видите, персы ‹...›, Я иду ‹...›, ‹...› Несу в руке Фрашокерети; Целуются девушка и юноша; Клянемся волосами Гурриэт эль Айн, // Клянемся золотыми устами Заратустры; Так говорит пророк!; Персия будет советской страной). Поэтому иранская древнемифологическая ономастика, обращение к фигурам человеческого прасознания или прошедших столетий (самый “близкий” по времени образ — Гурриэт эль-Айн — отделен от наречия ныне промежутком более чем в полвека) не мешают воспринять совершающееся в стихотворении действие, выразителями которого и выступают глаголы, именно как настоящее — преддверие будущего. Лексическая структура хлебниковского творения, являющая собой, казалось бы, частное выражение художественной системы, тем не менее, как всегда у Хлебникова, воплощает целостный, неразделимый духовный мир поэта, в котором образные и эмблематические фигуры мифологии, той или иной религии, системы верований и представлений избираются и воспроизводятся как живые образы “текущего” социально-нравственного состояния общества, способные выразить в художественно-символической форме не мифологическое или историческое время, а именно конкретный сегодняшний и и прорицаемый завтрашний день этого общества.
Вместе с тем, обретая современную окраску и определенное социальное звучание, фигуры и термины древнеиранского мифа различных периодов сохраняют у Хлебникова тот заложенный в них “вечный” потенциал, который поддержан в произведении общей ориентально-традиционалистской направленностью текста. Так, в соответствии с канонами древневосточных мифологических и художественных творений «Видите, персы...» начинаются с образа Избавителя и темы Пути (иду), — естественно, Пути в обетованное царство, в котором мы ясно различаем контуры мифического рая, где лучшая справедливость будет наградой за гибель в бою (этот затекстовый сюжет “закодирован” в имени Гурриэт эль-Айн, казненной за веру). Клятва золотыми устами Заратустры сходна с обычной концовкой-славословием, обращенным к наиболее высокой фигуре иерархической лестницы мифа, а заключительная строка произведения напоминает торжественный финал сур Корана, внушающих, что все сказанное сбудется, ибо восходит не просто к провозвестнику истины, а к некой высшей силе, изрекающей эту истину его устами: Так говорит пророк!
Вся композиция произведения, как видим, смоделирована по общим типологическим принципам строения древневосточных пророчеств и восходящих к ним художественных блоков ориентальной эпической поэзии.
Это относится и к менее значительным элементам архитектоники стихотворения, на наш взгляд, в известной степени воспроизводящим общее семантически-стилевое движение эмоции в Авесте, особенно в Гатах Заратуштры, несомненно, знакомых (пусть и в отдельных переводах) Хлебникову. Так, известно, что наиболее распространенной фигурой Авесты была анафора;32![]()
Композиционному строю стихотворения соответствует активно утверждаемая им эволюция сенсорно-стилевой системы ритмизованного пророчества. Оно выстроено в этом плане по принципу градации-климакса. От сравнительно спокойных, сдержанных нот экспозиционной части мы вместе с пророком проходим через волнение Исхода, где возникает первая метафора Пути (Мост ветров подо мной), выдающая в Гушедар-махе поэта, через торжественную и все возрастающую количественно и “качественно” символику середины, где смыкаются прошлое и будущее, так что к заключительной части произведения экстатический стиль, достигающий вершины в удвоенной клятве пророка и его народа, становится определяющим. Здесь невольно вспоминается Массэ — его замечания по поводу пророческих речей Мохаммеда: „Стиль скорее оратора, чем поэта“.33![]()
![]()
Здесь уместно привести точное суждение М. Гиршмана о принципах корреляции “своего” и “чужого” в стиховой форме произведения:
И узкий, относящийся лишь к стиховым особенностям, и более расширительный смысл этого суждения могут помочь осмыслению связей “своего” и “чужого” в сложной поэтике стихотворения «Видите персы — вот я иду...», ориентируя на поиск внутренних предпосылок этого духовно-эстетического взаимодействия.
Наблюдения современного исследователя над поэтикой Авесты позволяют сделать вывод об определенной близости художественности Хлебникова-ориенталиста к типу духовно-эстетического сознания автора Гат, — близости, восходящей к сходным этическим принципам жизнетворчества обоих разделенных веками поэтов. „Основой эстетики всего творчества Заратуштры, — читаем мы у А. Маковельского, — является вдохновляющий его огонь чувства, считающийся его социальным идеалом. ‹...› Источником его вдохновения являлось стремление к преобразованию общества ‹...›”.36![]()
![]()
В одном из черновиков Хлебников перечислял 20 языковых слоев, которыми он пользовался; среди них был и слой иностранные языки.38![]()
Внимательное чтение этих глубоких раздумий Н. Берковского убеждает в том, что их автор отнюдь не ограничивал сферу проникновения Хлебникова в образ “иной нации” чисто языковой субстанцией. Стихотворение «Видите, персы, — вот я иду...» подтверждает мысль о более многообразных путях выхода Хлебникова к масштабному инонациональному образу мира через слово. Точнее было бы сказать — через Слово, заключая в этом понятии весь духовно-художественный потенциал “иной нации”, впитанный русским поэтом и дающий ему глубочайшие возможности проникновения в мир Востока (в частности), его среды и человека, его истории и психологии, его национального голоса в хоре человеческих голосов планеты.
Это касается, по сути, почти всех произведений “Иранского цикла”. Рассмотрим пока те из них, которые позволяют проследить путь Хлебникова к Востоку 20-х годов XX века через тот же традиционный и восходящий к исторической и мифологической прапамяти пласт духовно-эстетических представлений самого человека Ирана, но пласт, уже относящийся к более поздним (по сравнению с истоками «Видите, персы...») эпохам — ко времени Фирдоуси, Хайяма и поэтов их круга.
Речь пойдет о стихотворениях Хлебникова весны-лета 1921 г., взятых вполне сознательно не в чисто хронологическом, а именно в этом, проблемном ключе, поскольку путь поэта на Восток имел не только свою “историю” и хронологию, но и предысторию: ведь глубокое изучение Авесты, всей зороастрийской литературы, Корана, иранской классической поэзии, восточных эпических и лирико-философских шедевров — все это и было теми “путешествиями” художника в мир всю жизнь постигаемого Востока, которые предшествовали его реальному, живому знакомству с ним — гилянским странствиям, страстям и стихам.
Поэтому разговор об “Иранском цикле” и начинается не с «Пасхи в Энзели» — первого написанного в Гиляне стихотворения, датированного апрелем 1921 г., а с «Видите, персы...», с «Кавэ-кузнеца», опубликованного в газете «Красный Иран» 15 мая того же года, с «Иранской песни», напечатанной там же 29 мая. Это стихи, где на события и эмоции революционного времени и революционного Востока впрямую спроецированы сюжеты и медитации, характерологические открытия и духовные истины Гат Заратуштры, эпопеи Фирдоуси «Шах-намэ» и мудрых философских рубаи Хайяма.
Несколько предварительных замечаний.
Процесс, который мы называем “взаимодействие”, нельзя рассматривать однозначно как некое равномерное и сходное у всех русских советских поэтов “сближение” с восточными классиками. Помимо сугубо индивидуальных особенностей связи каждого художника с иноплеменным и иновременным собратом по “цеху”, можно попытаться, установить какие-то общие принципы взаимодействия, градация которых, как всякая классификация, конечно, условна.
Заимствование, стилизация и подражание, даже с оговорками, что они могут носить творческий характер, обычно ставятся исследователямй в “нижний” ряд того явлений, которое именуется духовно-эстетическим взаимодействием. Здесь возможны и простые аналогии, и реминисценции, и попытки адаптации; но и в этом ряду на первый план выступает не способ, а глубина взаимодействия, определяемая талантом художника. Успех обычно сопутствует тому, кто, чувствуя пульс времени, уходит от метафизического типа связей к диалектике, к развитию темы, идеи, образа.
Подобное развитие само по себе, однако, может быть различным. В одних случаях оно выступает как продолжение мысли или темы восточного поэта, воспринятой и осознанной в новых исторических условиях; в других происходит более или менее существенная трансформация проблемы, образа, мотива, “заимствованного” у Фирдоуси или Хайяма, но качественно переосмысленного в духе социально-исторических перемен эпохи, обществелного мировосприятия, закономерностей художественного процесса. Все эти вариации взаимодействия могут быть успешными или неудачными, творческими или эпигонскими в зависимости не только от степени слитности поэта с эпохой, но в первую очередь от уровня его дарования, обусловливающего глубину художественного прозрения связи идей древности и современности, образов поэзии Востока и их эстетически-современного воплощения.
Особенно глубоко раскрываются закономерности этого процесса у художников масштабного исторического мышления, напряженно выявлявших смысл явлений в диалектике их социального развития. Для Велимира Хлебникова древняя поэзия, так же как древняя история, — своеобразный духовный ключ к постижению будущего, т.е. того времени, которое для русского поэта и для сегодняшнего Востока стало уже настоящим и не воспринималось вне социально-исторических перемен, связанных с революцией.
В этих двух строчках, написанных еще в 1918 г., с удивительной, сжатой, как пружина, энергией сопряжены история и современность, поэзия и жизнь, бессмертная духовная мощь тех, кто веками будил человеческую мысль Востока, и тех, кто ныне выступает в роли их исторических наследников. Эта связь, закрепленная символическим образом струн, всегда ассоциировавшимся с темой Поэта, для Хлебникова несомненна и непреложна. И он по существу развивает и углубляет свою афористическую формулу духовной связи эпох, когда в «Кавэ-кузнеце», обратившись к “нынешнему” пробужденному революцией Востоку избирает для его наиболее адекватного воплощения образ и характер, заимствованный из «Шах-намэ».
Напомним содержание главы из эпопеи Фирдоуси, положенной русским поэтом в “затекстовую” основу своего произведения. Кузнец приходит к извергу и убийце царю Заххаку, питающемуся мозгом убитых юношей: ведет себя дерзко и смело, требуя правды и обличения царя-людоеда. Порвав грамоту лживых мудрецов, заранее даровавшую Заххаку всепрощение, Кава выходит на площадь и обращается к Фаридуну, который, по предсказанию, должен свергнуть царя-тирана:
Фаридун поднимает это знамя кузнеца над головой: В цветные ленты кожу разубрал он, // И знаменем Кавы ее назвал он ‹...› // Стал знаменем передник кузнеца ‹...›40![]()
Хлебников исключает из повествования образы Заххака и Фаридуна, фабульную, событийную канву эпизода; его интересует лишь один характер, один образ-символ: Кава (в стихотворении — Кавэ). И лишь в одном качестве: представителя Его Величества Труда. Отсюда обращение только к тем образам Фирдоуси, которые касаются человека трудового Востока, отсюда — смещение акцентов в эту сторону, внимание к трудовым атрибутам бытия кузнеца: не только к кожаному переднику, ставшему знаменем борьбы народа Ирана за свободу, но и ко всему земному, бытовому, к живому воплощению труда, со всеми деталями, точными аксессуарами, цветовыми, звуковыми, полными достоверных красок и запахов “рабочими” подробностями каждодневного деяния в этой одновременно и реальной, и символической кузнице. Уже вступительное четверостишие с удивительной силой воображений переносит нас в багровое жилище тяжкого и звонкого, труда:
Никакой романтики, все серо, трудно, приземленно, рабочее утро как утро, труд тяжек и суров. Но из него рождается жизнь, им жива земля, он — единственный царь Вселенной. Эта мысль поэта не случайна, и возникает она на пересечении философии Времени и поэтической идеи всей эпопеи Фирдоуси. Борьба Добра и Зла, лежащая в основании «Шах-намэ», неизбежность конечного торжества Ахура-Мазды над Ахриманом, воплощенная, в частности, в победе Кавы над Заххаком, получает в XX веке, в современном Иране новое наполнение: полки кузнецов сегодняшней Персии провозглашают силой оружия Добро свободы, уничтожая порождения современных Иблисов на глазах у русского поэта. Знамена иранских кардашей не убраны в цветные ленты, не украшены парчою и гербом алмазным, но в каждом из них есть частица кожаного передника кузнеца Кавы, и это — идейная основа стихотворения Хлебникова. Тема огня, естественно возникающая в произведении о труде кузнеца, становится символической: алый, малиновый, красный, багряный, кровавый, багровый (слово багровый повторяется в стихотворении четырежды) — эти цвета не только противостоят у Хлебникова серому цвету пепла, черным теням ночи, теням плетей по плечам кузнецов — это краски самой Революции, ее пламени, всесжигающего и всевоссоздающего жизнь, как феникс из серого пепла, пламени, которое рождает ночной закал свободы и обжиг... Так возникают жесткие и нежные строки, возвеличивающие трудового человека Востока; это он кует свое счастье, впитав в великую духовную силу богатырских предков, поднявших в далекие времена кожаный передник кузнеца — знамя восстания.
Важно подчеркнуть, что развитие темы и образа, заимствованных Хлебниковым у восточного поэта, совершается здесь творчески — по художественным законам литературного взаимодействия, предполагающим не только историческую обусловленность и жизненную необходимость, но и ракурс развития и конкретно-индивидуальный способ использования древнего сюжета, образа или мотива.
В этом смысле стихотворение Хлебникова есть раскрытие в характере героя и народа тех “корневых” свойств, которые составляют как бы невидимую подоснову образа кузнеца у автора «Шах-намэ», но не развернуты им по причинам, связанным как с замыслом и сюжетом «Рассказа о Каве» (и всего «Сказания о Заххаке»), так и с требованиями самого века Фирдоуси. В соответствии с этим для восточного поэта — автора героического эпоса — было важно дать Каву как воина Добра, а для Хлебникова — раскрыть то, что лежит в основании самого Добра и лишь намечено его великим предшественником.
У Фирдоуси Кава — бунтарь, знамение народного гнева и знамя восстания; о его труде персидский поэт не говорит ни слова, кроме обозначения рода деятельности и единственной детали рабочей одежды (кожаный передник), выступающей лишь в роли символа (не случайно, став знаменем, передник Кавы так обильно осыпан драгоценными камнями и украшен цветными лентами). Тем не менее Фирдоуси постоянно дает ощутить, что перед нами прежде всего сын Добра и Жизни. Прислушаемся к тому, как Кава характеризует Заххака:
Эта характеристика есть — по контрасту — и самохарактеристика, на которую в первую очередь и опирался Хлебников, ощущавший человеческий труд как добра основу и зерно всего живого. Вот почему образ кузнеца избран русским поэтом из калейдоскопа героев эпопеи и взят в этом главном аспекте, который закономерно продолжает и развивает магистральные идеи «Шах-намэ» в направлении, “заданном” и самим Фирдоуси, и современностью — эпохой, как полагал Хлебников, победившего Труда.
Каждый из поэтов, таким образом, действует сообразно творческим законам характерологии, восходящим в своей основе к закономерностям самого времени. Именно оно определяет в итоге вектор развития героико-романтической традиции, аспект воплощения национального характера, особый выбор эстетических средств и решений.
Рассмотрим некоторые из них в стихотворении Хлебникова «Кавэ-кузнец»; анализ “частного” даст возможность уловить контуры концептуального.
Образ кузницы в экспозиции создается в первую очередь через звук — через тяжкое дыхание мехов и все сопутствующие ему акустические ряды, переносящие наше внимание с вещно-предметного ряда на человеческое содержание зачина, что входит в замысел Хлебникова; все метафоры четверостишия “работают” не на кузницу, а на кузнеца Кавэ, и фоника играет в этом одушевлении свою значительную роль.
Акустический камертон зачина — фонема ‘х’ вместе с открытой гласной ‘а’: меХА дыШАли нАспеХ, ХрАпели горлом ХриплА. (В слове дышали сочетание “ша” несет в себе отзвук исходного ‘дыХАние’; в нАспеХ “ха” воспроизводится через анаграмматическое А–Х; в хрипло звук ‘о’ явно транскрибируется в ‘а’).
Вместе с тем цепочка звуковых повторов, сопровождающих доминатную фонему и так или иначе соотнесенных с ней, проходит сквозь все четверостишие, где перекликаются, кажется, все эвфонические элементы, создающие картину “гнезда ночных движений”.
Свистящее ‘с’, как бы вырывающееся из натруженных легких, охватывает три стиха, возникая еще до образа мехов: Был сумрак сер и заспан. // Меха дышали наспех, // Над грудой серой пепла. Помимо одиночного ‘с’, здесь перекликаются целые звуковые гнезда: “сер” и “серой”, “наспех” и “заспан”, “меха” и “наспех”. Подключив к этому анализу 4-й стих катрена, мы услышим движение звуковых подобий во всем пространстве экспозиции (Над грудой серой пепла // Храпели горлом хрипло), где повторяющиеся скопления согласных ‘д’, ‘г’, ‘р’, ‘л’ корреспондируют с внутренними рифмами и внутристрочными повторами, основанными на перекличке ударных гласных (сумрак — грудой; пепла — храпели).
Конечно, все это можно было бы охарактеризовать как одну из вершин эвфонического мастерства Хлебникова, и это, бесспорно, было бы истиной. Можно было бы также вспомнить, что крупнейший теоретик стиха Е.Д. Поливанов считал главным видовым признаком поэзии именно звуковую организацию текста, определяя доминантное ее звено как „принцип повтора фонетических представлений“,42![]()
Однако в данном случае не это кажется нам наиболее существенным в рассмотренном выше зачине стихотворения «Кавэ-кузнец», где звуковые цепочки и переклички, повторы и фонические переплетения максимально концентрированны и художественно совершенны. Для Хлебникова все это не просто опыт эстетического исследования возможностей русской поэтической эвфонии, тем более — не игра в ассонансы и аллитерации. Его звукоряд помогает максимально одухотворить, “очеловечить”, приблизить к нам тот мир, который не только наполнен предметами труда, но и выступает как живое явление бытия, способное претендовать на главенствующее положение в новом социуме: Мы, Труд Первый и прочее и прочее... Именно поэтому у Хлебникова предметы, вещи, звуки, ими издаваемые, — это люди: их храп и хрип, их тяжкое дыхание, их драматичный в своем безмерном напряжении труд. Отсюда и насыщенная ассоциативность катрена, где сумрак заспан, как человек, меха дышат, храпят, хрипят, как человек труда. Они — горло, они — грудь, они — лик: серый сумрак утра, серая груда пепла — это и реальный цвет утра, пепла, и цвет лица утомленного человека.
Все воспринимаемое здесь зрением и слухом, ощущаемое как реальное сочетание вещей, предметов, деталей в их прямом назначении, есть одновременно и объект описания, и субъект действия. Этот субъект действия — живой кузнец сегодняшней, реальной восточной кузницы — чрезвычайно необходим Хлебникову. Ведь перед зачином, в котором он появляется “через” звуки и краски экспозиции, мы читаем название стихотворения, и перед нами еще “до текста” возникает традиционная эпическая фигура Кавэ, воспетого Фирдоуси. Легендарный и “реальный” образы мгновенно сближаются, а создавшие их эпохи, — время мифа и время героя — пересекаются в сознании читателя, — что и нужно Хлебникову: подобные временные перебросы позволяют включить мощный потенциал древнего традиционного образного фонда восточной героики в структуру современной характерологии, близкой по масштабам к величественным фигурам бессмертного Пантеона ориентального мифа и эпоса.
Этот процесс совершается по той причине, что художник находит духовную точку пересечения прошлого и настоящего, легендарного Кавэ и молотобойца из сегодняшней кузницы. Такой точкой становится выбор главного деяния, соответствующего той мере Добра, какая необходима людям в конкретный миг вечности. В “миг” Хлебникова эта мера, повторим, была связана с деянием-трудом — так же как во времена Фирдоуси таким деянием был подвиг Кавы — уничтожение Заххака.
Образ пространственный, кузница Хлебникова позволяет сделать ее точкой пересечения времен, ибо она есть то наиболее “низкое” место, где совершается наиболее “высокое” деяние, соответствующее духу эпохи.
Вместе с тем проблема хронотопа, проецируемая на произведение Хлебникова, позволяет уловить парадоксальное соотношение идеи и композиции «Кавэ-кузнеца». Архитектонически стихотворение выстроено “снизу вверх”: от “точки” земного “низа” (кузница, серая и задымленная) — к всепланетной сфере почти небесного “верха”: к высоте декларации, где каждая категория высока и торжественна и требует прописной буквы (Мы, Труд Первый...), словно вещает не личность, а глас Божий или Его помазанник на земле.
С другой стороны, Путь в стихотворении, озаглавленном по имени мифологического героя Ирана, — движение и “сверху вниз”: от мифа к человеку, от божественного избранника Кавэ — к обыкновенному кузнецу и его собратьям по тяжкому, изнуряющему труду. Все эти пространственно-временные пересечения создают многозначность лироэпической материи произведения, множественность сфер его художественного воздействия на наше сознание, непрерывно перебрасываемое из одной эпохи в другую и из одних национальных локусов в иные. Добавим к этому, что русский речевой поток стихотворения, моделируя внутренние движения текста в сложном хронотопическом процессе разновременных и разнолокальных явлений, выражает сложный инонациональный образ мира. Западно-восточные пересечения русского языка и восточного сюжета, русской национальной стихии речи, фоники, рифмовки, ритмики и традиционно-закрепленного в сознании миллионов иранского национального характера эпического героя вводят нас в некую глобальную духовно-художественную систему ценностей, в центре которой стоял и стоит человек — поэт или его герой, кузнец или воитель, русский или иранец, — но человек, обретший свободу выбора, свободу духа, свободу национального самосознания, ибо „хозяин тот, кто трудится“ — знаменитый афоризм горьковского героя, хоть и принадлежащий иному времени и иному национальному миру, по сути мог бы быть поставлен в качестве эпиграфа перед текстом «Кавэ-кузнеца». В этом смысле восточный национальный сюжет и характер обретают у Хлебникова ту общечеловеческую масштабность, какую — во всяком случае по замыслу своему — давала революция вечным социально-значимым явлениям, среди которых труд (Хлебников не случайно пишет — Труд...) выступает как главная мера Добра, Жизни, Богоизбранности рода человеческого, что торжественно закреплено высокопарной декларацией финального стиха «Кавэ-кузнеца»:
«Кавэ-кузнец» Хлебникова воспринимается как одно из блистательных “продолжений” шедевра персидской классики на новом этапе духовного развития мира. Это ветвь огромного дерева, корни которого — революционное движение современных народов трудового Востока, а почва — великое творение восточного мудреца, человека Добра и Света.
Вместе с тем не следует упускать из виду и того факта, что Хлебников в своем стихотворении “продолжает” и себя; «Кавэ-кузнец» органично связан с его дооктябрьскими поэмами «Дети Выдры» и «Медлум и Лейли», где, как мы уже видели, русский поэт выражал идеи добра и человечности, также опираясь на гуманистические тенденции восточного классика. Однако не менее важно подчеркнуть, что именно революция определила тот качественный скачок, который позволил Хлебникову-ориенталисту прийти к главному характеру эпохи и к более точным и ясным способам его поэтического решения. И в этом плане можно, на наш взгляд, отметить еще один весьма значительный фактор, связанный с воздействием на Хлебникова восточной поэзии. Думается, обращение его к могучей эпопее Фирдоуси, с ее глубоко народной сюжетной ясностью, сильной простотой характеров и ситуаций, с народностью, пробивающейся сквозь украшения стиля, в какой-то мере помогло Хлебникову, в ряду других причин, превозмочь влечение к замысловатой усложненности формы. Очевидно, имя восточного классика могло бы продолжить ряд (Ломоносов, Державин, Пушкин, Некрасов), уже намеченный исследователем43![]()
Глубокий творческий контакт Хлебникова с восточными поэтами наталкивает на постановку весьма интересного и важного вопроса: справедливо ли применение термина “взаимодействие” в случае, когда художник более поздней поры обращается к поэзии предшественника? Ведь по логике вещей, опирающейся на здравый смысл и движение времени, влияние может развиваться лишь в одном направлении — обратное воздействие кажется в этом случае ирреальным.
Тем не менее законы художественной связи явлений способны опрокинуть представления метафизического здравого смысла и “хронологики”. Продолжая и развивая тему, образ, идею древнего поэта, его поздний собрат способен, как мы убедились, не только воспринимать и воссоздавать, но и раскрывать подспудное, скрытое, порой, быть может, невидимое взору предков. Ибо он не реставратор, а художник, понимающий, что любой творческий контакт с прошлым с позиций диалектики есть углубленный историческим зрением анализ древнего художественного явления, при котором восприятие неотделимо от мировосприятия и, следовательно, не может быть неподвижным и догматическим. Поэтому подобное продолжение идейно-эстетического явления у художника талантливого и современного выступает как развитие, раздвигающее границы не только его произведения, но и того шедевра, который дал ему импульс и подсказал ход эстетического решения образа или проблемы. Художественное явление, отделенное хребтами столетий и пропастями национальных различий от эпохи его постижения, его прочтения „свежими, нынешними очами“, обретает новую жизнь и полнее раскрывает свое внутреннее богатство именно в духовно-эстетической соотнесенности с воспринявшим его современным искусством. Это и есть взаимное обогащение — термин “взаимодействие” в данном случае абсолютно точен и лишь отражает реальную суть глубокого исторического процесса.
Перекличка (и полемика) Хлебникова с восточным поэтом может быть неосознанной, внезапной: внутренние ответы художника на вопросы самого бытия неожиданно становятся ответами на вопросы мудрых, заданные столетия назад на ином языке и на ином континенте, но живущие в художественном сознании потомка.
В «Иранской песне» (песне удивительно “русской” и лишь по названию, как может показаться вначале, причисляемой к художественной ориенталистике) внимательное чтение раскрывает вдруг знакомый, хоть и переиначенный хайямовский мотив:
Даже позабыв на мгновение, что перед нами иранская песня, неожиданно начинаешь ощущать в этом страстном взрыве жизнелюбия — в неприятии себя в виде праха земного, пыльного черепа — не только душевный протест против бессмысленности бытия, превращающего мыслящее существо в ничто, но и своеобразную перекличку с древним восточным поэтом, чьи многомудрые рубаи о жизни и смерти словно “проступают” сквозь строки «Иранской песни». Взаимосвязь эта не однолинейна: ведь у самого Хайяма подобные мотивы весьма многоплановы и многообразны. Поэтому цитированный отрывок Хлебникова в чем-то воспринимается как “продолжение” мыслей восточного классика („О, если б кто-нибудь мне объяснил, зачем я, // Из праха вызванный, вновь стать им обречен”44![]()
![]()
Бурный взрыв его страстей, крик души, обращенный к природе, — не болезненное порождение эгоистического страха перед будущим или слепого стремления продлить свое существование, а ярость человека, рвущегося — пусть вопреки логике земных законов, которой мудро и смиренно следует Хайям, — остановить естественный ход бытия, чтобы быть вместе со всеми, когда над планетой взовьется “ликующий” багрец знамен.
Омар Хайям скептически писал:
Он печально предупреждал: „Помни, смертный, придет и твоя череда!“,47![]()
![]()
![]()
Этот скептицизм, и эти предупреждения, и эта констатация понятны Хлебникову. И все же он не может следовать им и принять их. Я проснуся! — словно взывает он к неведомым еще ему силам природы, предъявляя ей все свои права, постигнутые в ходе исторического движения, которое в его понимании призвано не умерщвлять, а воскрешать живое и мыслящее начало мира.
У Хайяма в его рубаи мы ощущаем прежде всего бессилие изменить то, что есть, и совет принять то, что есть; Хлебников предпочитает мудрости истины — мудрость мечты. Его эмоциональный взрыв — попытка достичь невозможного; но в этой его тоске по будущему, по вечному живому миру, так ласково и прекрасно воплощенному в первой части «Иранской песни», по завтрашнему светлому дню — во всем этом есть своя логика и своя мудрость, обусловленная и рожденная самой эпохой — временем, когда взвились над ликующими толпами красные знамена революции.
Образ революции как будущего, становящегося на глазах поэта настоящим, проходит сквозь все стихи “Иранского цикла”, воплощенный и в жизнелюбивом взрыве чувств современника, приветствующего непреложное движение людей Труда к самим себе, и в красном цвете пламени — отблеске горна кузнеца, багреце знамен, особенно мощно заливающем хлебниковский «Новруз труда».
По сути «Новруз труда» выстроен на тех же опорных образах, что и рассмотренные нами произведения: «Видите, персы, — вот я иду...», «Кавэ-кузнец» и «Иранская песня», — хотя в основе их лежат разные источники. В самом деле, уже приводившиеся строки В лесах золотых // Заратустры, // Где зелень лесов златоуста возвращает нас к первому из названных произведений, образ мощного труда — ко второму, виденье алое, несомое знаменщиками — к багрецу знамен из «Иранской песни». Иными словами, стихотворение, воссоздающее непосредственно увиденный поэтом весенний праздник Востока Новруз, день мирового Байрама — с толпами людей на улицах, с грохочущими трубами, с джигитовкой кардашей, с черными чадрами дев ислама, ждущих освобождения, — несет в себе тот же внутренний социально-исторический заряд, тот же духовный стержень, что и стихи, восходящие к мифологическим, классическим, философским явлениям тысячелетнего восточного бытия. Это происходит по той причине, что Хлебников не разделяет в своем сознании и соответственно в своем стихе сиюминутные события сегодняшнего дня Ирана и процессы, относящиеся к прошлому Азии. Революция на Востоке, провозглашенная им декларация Мы, Труд Первый и прочее..., багрец знамен над пыльным черепом ушедшего в небытие, Адам за адамом, что проходят толпой // На праздник Байрама ‹...›, алое на древках „знаменщиков”, лозунги и призывы революции (Воспряньте! ‹...› Долой! ‹...›) — для него явления того же ряда, что и идеи, высказанные золотыми устами Заратустры, и пророчества Гушедар-маха. Одно есть логическое продолжение другого, увиденное тонким историческим зрением художника, осмыслившего время как единый поток духовности, не прерываемой ни гибелью лучших, ни победами сил зла.
Этот всевременной охват постигнутого через Восток мирового процесса движения человечества как эволюции духа создает и единство художественного воплощения того отрезка истории, каким виделся Хлебникову 21-й год и гилянский поход. Отсюда столь тесная перекличка образов и сюжетов прошлого и настоящего в “Иранском цикле”, отсюда целостность его эстетической структуры, несмотря на различие тем, проблем, героев, коллизий в разных стихотворениях. Прорицание из «Видите, персы...» (Персия будет советской страной) как бы “сбывается” в семантике, общей победной тональности, лексическом строе «Кавэ-кузнеца», «Иранской песни», «Новруза труда».
“Высокая” декларация финала стихотворения о кузнеце, несущая отзвуки романтического образа Фирдоуси, энергично поддержана картиной прохода “мощного труда” в произведении о Байраме. Цветовая гамма «Кавэ-кузнеца» в ее красных оттенках перекликается не только с багрецом знамен и алым на древках из «Иранской песни» и «Новруза труда», но и с образом Заратустры («Видите, персы...»): внимательный читатель соотнесет символику огня из зороастрийского мифологического ритуала с реальным красным пламенем кузнечного горна. Помимо того, золотые уста Заратустры немедленно вспоминаются при чтении стиха о цвете букв на алых знаменах Востока (‹...› Радуя // Золотым письмом полотен), ибо перед этим, рисуя реальную картину восточной осени, Хлебников обращается к уже известному нам образу:
Образ революции, казалось бы не имеющей отношения к рассмотренным краскам, оттенкам, перекличкам деталей, тем не менее именно в них и через них обретает бесконечную временнýю протяженность, ибо любое событие, факт и образ современного Востока в “Иранском цикле” выступает лишь как момент истории, подготовленный всем ходом развития человечества: его пророками, его трудом, его поэтами, передающими, как и вечная природа, бессмертную эстафету бытия — движение возрождающейся материи и неумирающего духа.
Звенья духовных явлений, составляющих цепь — эволюцию человечества, — “выкованы” Хлебниковым из разнонационального “металла”. Западно-восточный сплав духовности, так или иначе выводящий нас к современности, может быть самым неожиданным по внезапности хлебниковских ассоциаций и пересечений. Но важно, что в “Иранском цикле” это не абстрактный полет фантазии, а константная мысль, видимо, не оставляющая Хлебникова ни на мгновенье, о чем бы он ни писал и к какой бы теме ни обращался. Поэтому внезапность и “фантастичность” его образных ассоциаций — только кажущаяся. На самом же деле она удивительно социально активна, проявляясь и в ритмике, и в лексике, и в цветописи, и в эвфонии “иранских стихов”. Они — об утренней кузнице, о тихих водах иранской речки, о цветах и деревьях; но они — в первую очередь об ином, ибо несут в себе и мощный историко-философский заряд, выражая бесконечную связь явлений общественного, духовного, разнонационально-единого человеческого мира. Поэтому-то и иранская золотая осень так свободно переливает свой цвет в златоустые речи творца Добра, а звук в «Дубе Персии» — шорох ветвей могучего древа — так естественно (для Хлебникова) напоминает созвучие явлений, взятых вовсе из иного, социально-исторического измерения:
Белинский когда-то писал о „рифмах смысла“. Здесь можно говорить о “созвучиях смысла”, объединенных образом вечности, воплощенном в могучем, многовековом, пережившем поколении дубе Персии. Отталкиваясь от анафорического звука (МАздак — МАркс), Хлебников затем повторяет этот звук в ночном вопле шакалов (или это тоже шорох ветвей дуба?) — хаМАу, хаМАу; но и фонический повтор ‘ха’ с перевертышем ‘ах’ (ХАмау, ХАмау! // уАХ, уАХ, ХАган) имеет, возможно, свой историко-духовный смысл, если вспомнить имя великого азербайджанского поэта начала второго тысячелетия Хагани Ширвани, вряд ли случайно возникающее в возгласе хаган, хотя он у Хлебникова и пишется со строчной буквы. Наконец, пронизывающий все стихотворение звук ‘ш’ (кувШином, отШельников, Шорохе, Шумит, Шакалы, Шепот) не только передает подлинное звучание ветвей тысячелетнего дуба, но и помогает ощутить — через одну текучую, непрерывную фонему — движение истории как перманентное течение взлетов и падений человеческого духа — от Хагани и Батыя до Маздака и Маркса: через второй, третий и пятый века к 19-му, а по сути — к современности, когда на глазах поэта проходит “проверку” революцией учение Маркса. Возможно, и лирика Хагани, и философия Маздака, с их социально направленным стержнем — борьбой между добром и злом как равенством и неравенством, и недобрая воля Батыя — вечного символа разрушения и насилия в поэзии Хлебникова, — так или иначе пересекались в художественном сознании поэта с теми сложными процессами современности, которые, будучи связанными с именем Маркса, обретали на практике контуры не только доброго, светлого, но и жестокого, злого начала, вне которого, видимо, не обошлась ни одна революция. Во всяком случае, идея свободы разума и протест против тирании, звучащие в лирике Хагани, и свет социальной утопии Маздака, возрожденный классиками восточной поэзии („Отголоски ее мы найдем и у Фирдоуси, и у Низами, у Хафиза, и Джами“51![]()
(Обратим при этом внимание на тот факт, что условные фигуры и Добра, и Зла, при всей своей социальной контрастности, национально принадлежат к одному — восточному — ряду, так что бином “Восток — Запад” (Маздак — Маркс) получает и создает здесь интегральную, а не полярную духовно-художественную энергию воздействия на читателя).
Если брать “Иранский цикл” Хлебникова не как собрание разрозненных произведений, а именно как цикл восточных стихов, обладающий некой внутренней целостностью (ее мы уже могли обнаружить в единстве экзистенциально-эстетической энергии текстов, в сублимации социально-исторической временнóй вертикали, связывающей в них миф и реальность, прошлое и настоящее), то весьма важно установить, существует ли конкретно-человеческое наполнение этой целостной хлебниковской концепции истории и революции в объективных образах “Иранского цикла”. Ведь пока мы успели частично проследить в нем эволюцию условной национальной “характерологии” (от Заратуштры до современных потомков Кавы, от Маздака и Гурриэт эль Айн до знаменщиков из «Новруза труда») лишь в общедуховном ключе, когда даже реальные фигуры сегодняшних кузнецов воспринимаются как бы “в роли” богатырей некоего нового эпоса. Идущая от истории, мифологии и классики струя выступает в рассмотренных текстах как преобладающая, хотя и не охватывает их полностью.
Между тем живая личность иранца зримо присутствует в хлебниковском цикле (не говоря уже о «Трубе Гуль-муллы»), возникая в различных обличьях и ипостасях, ситуациях и коллизиях, увиденная и почувствованная автором или его лирическим героем, связанная с ним общей целью, порой — высокой и возносящей обоих к вершинам духа, а порой — обыденной и житейски простой. Здесь возможны различные вариации изображения человека. Иногда Хлебников отдаляется от своих героев, и их “автономность” приближает персонаж к объективному эпическому ряду. Иногда же они обретают смутные, но национально-определенные очертания в почти невидимых, явленных лишь через восприятие поэта и тем не менее живых образах, когда смыкаются границы реально сущего и воображенного, сиюминутного и историко-мифологического, — тоже существовавшего когда-то, а ныне воскрешенного памятью и ассоциативным сдвижением разновременных фигур в сознании художника.
Рассмотрим вначале этот последний ряд: он ближе к уже известным нам способам изображения мира и человека в “Иранском цикле”. В стихотворении «Ночи запах — эти звезды...» образ иранца-современника возникает по сути в одном только слове другой, включенном, как это часто бывает у Хлебникова, в некий исторический ряд — как одна из фигур Времени, имеющая своего великого предшественника и многоликих единомышленников — весь Восток:
Три важные фигуры возникают в этом стихотворении: сам автор, чье “я” открыто звучит в притяжательном местоимении ‘мой’ и разлито в сенсорном строе лирического зачина; учитель, которому посвящено второе четверостишие, — очевидно, Баб, основатель секты бабидов, их духовный вождь (расстрелянный в середине XIX в.), высоко чтимый Хлебниковым (см. 672); другой — герой заключительного катрена.
Итак, вновь связь предка, борца за свободу духа, и современника, в чьей руке красный цветок самодостаточно красноречив в пору революции, — связь через десятилетия и через художественное сознание иноязычного и “чужого” поэта, внутренне близкого обоим своим героям. Обратим внимание на то, что современник Хлебникова (другой) идет не вслед своему предшественнику, а навстречу ему. Эта “встреча” происходит в сознании автора, являющем собой духовную точку пересечения векторов прошлого и настоящего — времени Баба и времени другого. Эта точка, будучи внеположной восточной национальной близости иранских героев стихотворения, тем не менее лежит на оси единой системы духовных координат всех трех персонажей — системы, независимой от национального “пространства” и исторического времени, ибо она — в душе человеческой, жаждущей добра и свободы. На Западе и на Востоке. В прошлом и настоящем. У неистового Баба, усталого иранца начала 20-х годов и воспевающего их русского поэта современности.
Их связь “внесюжетно” усилена рядом сквозных образов, тесно связанных между собой темой борьбы за свободу. Образу костра откликается образ красного цветка, символичный в своей огненной цветовой тональности и несущий в себе отблеск пламени, опалившего Баба. Через все строфы проходит также образ тяжкой, жертвенной, гибельной судьбы борца, связанный с этой темой огня и воплощенный также и в многозначной метафоре вода легла на гвозди, и в суровых эпитетах опаленный, черный, и в расширительном смысле стиха он устал, как весь Восток. Другими словами, эмблематика стихотворения позволяет поставить его в этот же ряд, что и «Видите, персы...», «Кавэ-кузнец», «Дуб Персии», «Иранская песня», где связь времен и идей воплощалась через символические и близкие к ним традиционные образы и фигуры.
Вместе с тем наблюдательный читатель отметит, что если в названных произведениях “действовали” исключительно символы и эмблемы, мифологические персонажи и исторические имена, в известной мере абстрагированные от живого, реального, конкретного человека, то здесь, наоборот, Хлебников стремится максимально “очеловечить” Время: дать ему облик, земную плоть, цвет смуглого лица, зеленой чалмы, красного цветка (хотя это одновременно и символические краски гибели, знамени ислама или революции). В стихотворении возникает целая палитра естественных оттенков, запахов, деталей, предметных образов среды (ночи запах, вода легла ‹...› говор пеной колыхая, эти звезды, в чалме зеленой из засохнувшего сена, сорванный цветок) и живого человека (в ноздри буйные вдыхая, ты пройдешь, черный, как костра полено, придет навстречу, он устал, и в руке его замечу). “Небо” и “Земля”, возникающие уже в первом четверостишии как амбивалентные образы высокой недостижимости (звезды) и низкой обыденности (ноздри, гвозди, пена), в то же время несут и черты обычного пейзажа, “продолженного” бытовой струей стихотворения, отнюдь не лишающей нас возможности его символического восприятия, но при этом дающей пищу и взгляду, и слуху, и обонянию, что позволяет не просто постигнуть то, что именуется связью времен на Востоке, но как бы осязать ее в живой, земной, телесной и зримой достоверности. Движение мысли и духа обретает ту землю, куда так страстно стремился Хлебников, — те прототипические реалии бытия и человеческого присутствия, которые в других стихах “Иранского цикла” были отодвинуты на второй план образами и фигурами мифологического, исторического, “ономастического” мира Востока, в его, условно говоря, литературной, словесно-образной, вторичной “действительности”, относящейся к сфере памяти и сознания, а не живого бытия.
Еще более тесна связь символики и реальности в стихотворении «Ночь Персии», где остро ощутимо стремление Хлебникова наполнить образ живого, земного, находящегося рядом человека Ирана более масштабным, уходящим в древность историко-мифологическим содержанием, дать почувствовать рядовую бытовую ситуацию как протяженную во времени нить, соединяющую сегодняшнюю личность человека Востока с огромным, бесконечным прошлым. При этом роль связующего звена играет не самоощущение иранца, а вновь историческая память русского поэта, воспринимающего восточного собрата и друга в потоке Времени — его вымышленных и реальных пророков, героев, имен. Но этот сегодняшний реальный иранец — живая, достоверно сущая личность, с которой так или иначе общается и взаимодействует автор: ей можно что-то сказать, помочь, ощутить ее благодарность и скупо обозначенное родство с ней:
В стихотворении, таким образом, вновь три персонажа: сам автор — посланец России и революции, что подчеркнуто неслучайными сведениями зачина и его цветовой гаммой (красные дни, красные воды); иранец, попросивший русского о мелкой услуге и произнесший несколько слов по-русски и по-персидски (также знак времени и конкретной ситуации в Гиляне 1921 года); и, наконец, мифологическая фигура восточного мессии — Мехди, мгновенно сопрягаемая с иранцем-современником, но уже в художественном сознании автора, только что взвалившего на плечи иранца по его просьбе вязанку хвороста. Весь этот реальный (Это было! // Это верно до точки! — специально подчеркивает Хлебников в концовке) поздний вечер на берегу Каспия и живая фигура иранского бедняка, собирающего вынесенное волнами топливо, не случайно начинается с амбивалентного образа Вселенной, объединяющего Землю и Небо в первых же двух стихах: Морской берег. // Небо. Звезды ‹...› Малое и огромное, человеческая песчинка бытия и великий мессия, чьим именем движутся миллионы душ; Восток, воплощенный в иранце на берегу, в пророке Мехди, и Запад, представленный товарищами оттуда, из России, и самим языком произведения, — эти социально-философские явления и образные ряды отнюдь не автономны в стихотворении. Их соединяет не оттесненная на периферию текста фигура русского поэта, который то затягивает ремень на вязанке иранца, то вдруг вспоминает имя восточного вероучителя, то ведет фантастический (но в контексте произведения символически ясный) разговор с прилетевшим жуком, когда оба понимают этот странный язык, ибо в понимании друг друга и заключена мудрость Природы, связывающей настоящее и прошлое, Запад и Восток, человека России и человека Ирана, берег моря со звездами в небе, жука и поэта, простого иранца и великого Мехди... Всю эту сложную гамму душевных коллизий и мгновенных пересечений в потоке деяния и мысли, жизни и сознания и выражает мудрое стихотворение Хлебникова, в центре которого, бесспорно, стоит не просто пришелец из-за моря, а художник-философ, духовно объемлющий простоту и величие, разнообразие и единство бесконечного мира.
Но для нас важно и то, что рядом с ним возникает обыкновенный сын иранской земли и моря, не претендующий на то, чтобы воплощать движение духовных сил Востока, но вместе с тем воспринимаемый как фигура, вне которой это движение останется абстрактной категорией мышления, не связанной с конкретно-национальным человеческим миром сегодняшнего Ирана. И таких фигур в “Иранском цикле” Хлебникова, в отличие от “западно-восточных” поэм харьковского периода (где, по сути, были развиты те же идеи) возникает все больше и больше.
В том же частично рассмотренном выше «Новрузе труда» движение к человеку Ирана совершается “сверху вниз” — от лозунгово-эмблематичных образных рядов общего плана (Адам за адамом // Проходят толпой // На праздник Байрама // Словесной игрой), от строк, где живые люди заменены их метонимическими моделями, символическими, но безликими и плакатными (Мощный труд проходит, балуя ‹...›, Трубачи идут в поход ‹...›, Труд проходит, беззаботен ‹...›, Несут виденье алое // Вдоль улицы знаменщики ‹...›) К конкретно-детализированному земному облику и ощутимому или угадываемому внутреннему миру человека зримой, осязаемой иранской жизни, взятой в тот же момент ее праздничного шествия, но уже в тех формах и особенностях национального проявления, которые написаны художником не “по памяти”, а с натуры, “с листа”:
И единичное (кардаш, он, наездник), и множественное (товарищи удач, воины горных селений) здесь не “засимволизировано”, не абстрактно, не белозубо-плакатно, как в первой части «Новруза труда». В этом фрагменте текста человек Ирана имеет живой облик (смуглые лица, смуглые воины, изваянья чугун), национальный способ самовыражения не через “словесную игру”, а через специфический тип проявления удали и гордости — джигитовку (И ловкий наездник то падает наземь, // То вновь вверх седла ‹...›), изображенную достаточно тонко и выразительно. Национальный характер здесь вписан в своеобразную систему связей человека и мира конкретного региона Востока как часть этого мира — его природы и быта, вплоть до одеяния, экипировки, внешних и внутренних особенностей и реалий поведения, мелочей повседневного житья. Слияние всадника и коня, кардаша и оружия, структура воинского братства, единство с горным пейзажем, готовность к бою сочетаются здесь со специфическими деталями портрета и общего вида иранца — с ружьем наизготовку, газырями (груди в высокой броне из зарядов), особой накидкой (лица окутаны в шали) и тому подобными подробностями земного, достоверно-национального ряда, столь точно и художественно-органично воплощёнными во второй части «Новруза труда». Вспоминая «Кузнеца Кавэ», можно сказать, что в нем также наличествовали подробности и детали реальной среды; но там они составляли лишь некий аксессуарный ряд, “земной” фон “высокой” фигуры героя, по сути отсутствовавшего в произведении как реальная личность и данного лишь через внутреннее уподобление эпическому предшественнику. Здесь же, в «Новрузе труда», человек и деталь, герои и обстоятельства, мир и люди находятся в одном ряду, обусловливая связь и самодвижение конкретно-национального душевного жеста, поведения, по сути специфического иранского характера в столь же специфической иранской среде, хотя даны они в абрисе, в штрихпунктирных контурах “натурной” зарисовки художника.
Обратим внимание на то, что Хлебников не стремится стилистически и лексически “ориентализовать” текст этого фрагмента, облечь его в одеяние той восточной “словесной игры”, с которой начинается «Новруз труда» (Адам за адамом означает “человек за человеком”: ‘одам’ по-тюркски и на фарси — “человек”; здесь же употреблено слово ‘байрам’ с моментальным его переводом, несколько неуклюжим, ибо праздник Байрама — тавтология: ‘Байрам’ и есть “праздник”). В цитируемом же отрывке стихотворения, где поэт приходит к живому человеку Ирана, он вовсе не ищет специальных лексико-стилевых способов его национального воплощения, ведя поиск лишь внутренних импульсов характера в своеобразном самовыражении иранского горца через облик, традиционное деяние, жест, движение, передающие состояние души и взрывную силу чувств. Здесь использовано лишь одно, видимо, находящееся постоянно “на слуху” окружающих иранское слово кардаш; но Хлебников не подбирает для своего текста восточных синонимов ни для русской шали (возможно, это род чалмы), ни для немыслимой в Иране балалайки (это, видимо, дутар или сходный национальный щипковый инструмент, похожий на русскую трехструнную балалайку). Скупость употребления восточной лексики (обычная для Хлебникова, избегающего элементов экзотического стилевого ориентализма, излишних инонациональных структур языка и поэтики, изысканной орнаменталистики) восполнена в этой части текста напряженной динамикой глагольных форм, нагнетанием субстантивных лексем среды, передающих суровость пейзажа и характеров, лихость и упорство героев, напряженность и радость их бытия — жизни как постоянной готовности к бою, как скачки сквозь ветер и чащи, как пути к высокому духу воинского братства, словно соотнесенному с высотой окружающих гор.
Несмотря на некоторую восторженность интонации, определенную романтизацию национальных образов Ирана в «Кавэ-кузнеце», «Новрузе труда» и иных подобных произведениях, опиравшихся на традиционно возвышенный эпико-мифологический потенциал художественного мира Востока, на общий подъем национально-духовных настроений, связанных с гилянской революцией и высокими идеалами окружавших поэта людей, — на все, что, естественно, давало особый импульс поэтическому вдохновению Хлебникова, — художник в своем “Иранском цикле” не остался в плену односторонних подходов к проблеме национального характера и верного изображения среды и человека. Его взор проникает и в глубины иранского “дна”, куда может по-житейски понятно опуститься тот же человек труда, которого поэт воспел в стихах о потомках легендарного Кавэ и о праздничном новрузе. Это живая жизнь, и художник ощущает себя не вправе вычленять лишь ее высокие грани и идеалы.
«Курильщик щиры», написанный через несколько дней после «Кавэ»,52![]()
Слово труд в «Кавэ-кузнеце» возникает лишь дважды, и оба раза в высоком поэтическом ключе: И те клещи свирепые // Труда заре пою и еще более величественно: Мы, Труд Первый и прочее и прочее...
В «Курильщике ширы» это слово употреблено четырежды, но в столь “низком” контексте, что обретает иное, по сути противоположное звучание:
На первый взгляд, многие образные блоки и семантико-лексические ряды в обоих стихотворениях совпадают. Можно сказать, что в «Кавэ-кузнеце» они образуют даже более неприглядную и мрачную картину труда, чем в «Курильщике ширы». Эпитет железный в первом стихотворении куда суровее, чем во втором: он соседствует с кровью и плачем (Гнездо ночных движений, // Железной кровью мытое; железных пений плачем), тогда как в «Курильщике...» он сопутствует образу цепей в менее мрачном контексте: Цепей железных дыма; в долгу цепей железных.
Другими словами, тяжесть труда кузнеца, бесспорная для поэта и читателя, раскрыта в «Кавэ...» с гораздо большей, чем в «Курильщике...», “заземленностью” и в сущностных реалиях нагой и неприкрытой ничем обыденности. Сумрак сер, клещи свирепые, меха храпели горлом хрипло. Тема адского труда, собственно, образ ада возникает здесь в специально введенной системе метафорических уподоблений, не оставляющих сомнений в “адской” своей символике: свирепые клещи, змеей из серы вынырнув удушливого чада, блеснут багровыми порой очами чёрта (139). Вместе с тем мы уже знаем, что здесь важен не столько лексический строй или дискретно взятые образные ряды, сколько общедуховное движение произведения от “низкого” к “высокому”, подчиненность реалий и деталей романтическому замыслу.
Сравнивая одни и те же лексемы и образы «Кавэ...» и «Курильщика...», мы явственно ощущаем, что они получают различную смысловую наполненность в зависимости от внутреннего саморазвития конкретной темы и соответствующих ей эмоций и мыслей художника. Поэтому, казалось бы, скованные неким „уставом“ воль других кузнецы из «Кавэ...», по сути, свободны в своем выборе и трудовом волеизъявлении, в то время как словно независимый в своих желаниях кузнец-курильщик из второго стихотворения — лишь жалкий раб этих низких желаний — цепей железных дыма. Этот парадокс его свободы-несвободы поразительно тонко передан Хлебниковым в стихе Те степи, где цветут лишь цепи. Амбивалентность поэтической строки, абсолютная несовместимость ее начала и конца, подчеркнутая здесь контрастным смыслом двух лексем, символизирующих свободу и рабство (степи — цепи), закономерно сопрягается в рамках органичного текста со столь же абсолютным их рифменным созвучием, знаменующим схождение и совмещение, казалось бы, “несовместного”. (Тот же художественный парадокс выражен соединением несоединимых понятий цветут — цепи и одновременным их фоническим сближением через общий звук ‘ц’).
Композиционные завершения обоих произведений (их финалы) раскрывают движение замыслов и идей с открытостью, близкой к декларации — в манере, вообще свойственной Хлебникову в “Иранском цикле”, где многие, вещи названы “своими именами”. В доминантных словах, вынесенных в концовки («Кавэ...»: Ночной закал свободы ‹...›; «Курильщик...»: Он снова раб ‹...›), обнажается суть и неоднозначность поворотов авторского видения человека Востока. Герои, избранные из одного сословия и ряда, выхваченные взором художника из одной и той же среды, способны передать и романтически-высокое, и постыдно-низкое. Это эстетическое разнообразие, умение схватить переходы личности из одного состояния в другое, эта многогранность выражения национально-характерного то через перевоплощение в “продолженный” эпический образ героя Фирдоуси, то через реальную ночную щель — “дно” восточного города, то через общение с простым человеком на морском берегу, где он собирает хворост, — все это подсказано Хлебникову достоверными подробностями и поворотами самой иранской действительности, в которую он пристально вглядывается в пору своего гилянского “сидения”. Всматривается в ее живую историю и бессмертное художественное наследие. В ее реальных людей, столь разных и многоликих, — то близких ему высотой духа, то далеких от него в своей отрешенности от духовной жизни, в своем падении на дно бытия. Любая встреча, любой поворот мысли и связь современного с прошлым идут через человеческое начало: эти люди влекут его к себе, пробуждают память, вдохновение, талант, дают импульс новым и новым стихам.
Не должна остаться незамеченной в иранских произведениях Хлебникова и одна из первых в нашей новой поэзии попыток создания образа восточной женщины.
Возвратившись на два-три года назад, попытаемся хотя бы пунктирно проследить эволюцию женского восточного образа в творчестве Хлебникова.
В рассказе «Есир» (1918–1919), где читателя, правда, ожидает переброс во времена Золотой Орды, позиция Хлебникова-художника в этом отношении либо вполне нейтральна (описание экзотической внешности и соответствующих этнографических и традиционных деталей быта и одеяния женщины Востока), либо эмоционально-романтична, в духе классического традиционно-возвышенного описания красавицы. В начале рассказа: В черных покрывалах проходили татарки; Закутанные в белое, на верблюдах проезжали степные женщины (548). Здесь внимание художника привлечено не к характеру, а к характерной наружности, к общей экзотичности вида, его точным национальным аксессуарам, к цветовым деталям одежды, связанным с конкретно-ориентальным бытом, традициями, обычаями (черные покрывала татарок, закутанные в белое калмычки). Отметим: здесь нет (и не может быть) лица, глаз, мимики — все скрыто в соответствии с канонами Востока. Но вот герой попадает в живой степной мир калмыков, где господствуют свои законы, более открытые и свободные: Черноволосая девушка этих мест ходила с медной деньгой, вплетенной в косу. И надпись древнего хана: „Я был — мое имя высоко“ — тонула в черном шелку ее кос (552). И далее этот портрет разворачивается в портрет-характер — героиня обретает имя, лик, включается в традиционную вереницу восточных дев, не утрачивая при этом собственной индивидуальности, не теряя ее в сонме канонических уподоблений и расширительных метафор:
В “Иранском цикле” проблема изображения восточной женщины развивается по несколько иному “сценарию”. Его отличительная черта — изначально присутствующая даже во “внешних”, “портретных” описаниях внутренняя социальность, ощутимая в стремлении “заглянуть” за мрачную чадру, вглядеться в темный лик и страдальческие глаза, а точнее — в самую суть причин и закономерностей Времени, требующего перемен в судьбе женщины Востока.
Вот первые впечатления (апрель 1921 г.) — на фоне чистых, светлых красок природы Ирана, золотых яблок в голубой листве, зелени садов, золотых солнц — всего, что представляется миром добра рядом с миром печали: А рядом бродят чадры с черными глубокими глазами (5,320); чуть позже, в мае 1921 г.: Высохшие, как у покойников, лица персиянок за черным покрывалом, изнеженные лица торговцев (5,321). Взгляд не художника — пророка, судьи, обличителя: сравнение носит обнаженно социальный характер, контраст предельно выпячен, и “действующие лица” (просто “лица”) максимально разведены не по половому, а по “классовому” признаку; женщина Востока у Хлебникова — это именно особый “класс”, почитаемый здесь за людей низшего сорта и обреченный на трагическую судьбу.
В стихах “Иранского цикла” этому “классу” уделено всего несколько строк, но эти строки написаны за четыре года до есенинских «Персидских мотивов» с их знаменитым и вызывающим: Мне не нравится, что персияне // Держат женщин и дев под чадрой53![]()
![]()
В этих строчках — и констатация факта, и его эмоциональная оценка, и политическое осмысление в свете сложных отношений “уже свободной” России и полуфеодальной Персии, только нащупывающей, по мнению Хлебникова, пути к человеческой вольности и еще не осознавшей, что освобождение женщины есть главный, “сигнальный” признак свободы личности и, следовательно, свободы вообще.
Традиционный трагизм извечных образов русской ориентальной поэзии, связанных с женской “восточной” темой (темница, грустные девы ислама, черная чадра), здесь, однако, если не перечеркнут, то частично снят завершающей строкой пятистишия: слово освободитель употреблено поэтом не в традиционном ориентально-экзотическом, или узко-личном, или легендарно-философском смысле (Межднун, Фархад, Див, Автандил, Демон и т.п.); здесь оно включено в общее социально-мажорное звучание стихотворения о празднике освобождения. И, конечно же, не случайно сразу, непосредственно за словами освободителя ждут они, следует, казалось бы, не связанный с предшествующим текстом о грустных девах ислама (а на деле художественно логично развивающий его) уже известный нам фрагмент, начинающийся со стиха о кардаше с ружьем наизготовку — о воине революции, как бы призванном выполнить “социальный заказ” восточной женщины, мечтающей о свободе. Самим строением текста Хлебников выражает это новое социальное звучание традиционной темы, переведенной в план реального, практически осуществляемого противостояния ветхим догмам прошлого, готовым, на беглый взгляд автора, вот-вот рухнуть под напором освободителей Востока. Можно гозорить об излишней восторженности и “революционном” энтузиазме Хлебникова, его известной отрешенности от конкретных сложных проблем социального, национального, политического характера, в принципе и обусловивших нереальность достижения целей “гилянского” похода и победного движения революции по странам Востока вообще. Но нельзя не отметить, что художника Хлебникова при этом отличает удивительная проницательность взгляда на живого человека Азии; его портреты, зарисовки, абрисы характеров людей, окружавших его в Гиляне: кардашей, женщин, детей, дехкан, кузнецов, курильщиков опия — точны, достоверны, непридуманны, лишены налета экзотизма. Лишь изредка, как, например, в первой условной части «Новруза труда», широкая цветовая палитра, “трубная” звукопись и праздничное многолюдье (Адам за адамом // Проходят толпой, Вдоль улицы — знаменщики, Трубачи идут в поход и т.п.) заслоняют отдельные лица, и будучи вполне списанными “с натуры”, тем не менее отодвигают нас от сути внутреннего мира конкретных живых людей Ирана, их простых, выношенных желаний, национальной манеры их мышления или переживания. Чаще всего в “Иранском цикле” все это присутствует — даже в рамках произведения, где веселое шествие начинается с безликой “толпы”. Возвратимся хотя бы к тому же цитированному фрагменту о восточных женщинах из «Новруза труда». Обратим внимание на тонко и точно подобранные эпитеты (ревнивой темницею, строгие, грустные девы ислама), на взвешенное и несущее национально-политический смысл сравнение (как будто у русской свободы на паперти), на традиционную для поэта трагическую звукопись словосочетания черной чадрою,55![]()
В отличие от произведений харьковской поры, стихи “Иранского цикла”, может быть, за исключением отдельных строк, не абстрагированы от живой, живущей рядом, предметно-вещной и человечески наполненной действительности, в них почти нет космизма, глобальности пространственных переносов, хлебниковского фантастического странномыслия и сумасшедшей ассоциативности. Все ассоциации избираются либо из окружающего мира обстоятельств и характеров, человека и природы (не с прописной, как прежде, а со строчной буквы), либо из недр пульсирующей памяти, где вспыхивают сопоставления, движущиеся по временнóй вертикали — истории.
Обращаясь к национальному складу характера человека Востока, Хлебников как бы ощущает органическую необходимость быть всякий раз в точке пересечения непрерывной цепи ассоциаций, восходящих то к современному бытию людей Азии, то к их истории. И то же происходит с окружающими его предметами и фигурами, непрерывно входящими в поэтическую строку: они тут же становятся не только частицами быта или пейзажа, трудовой или батальной сцены, но молекулой движущейся истории. Вот почему так объемен, исторически-необъятен Восток Хлебникова, в частности, в “Иранском цикле”: за каждой вещью или человеком сегодняшнего дня ощутимо бытие или деяние предков, перманентная ассоциативная цепь Времени.
Простая статуэтка, фигурка-чернильница в виде верблюда на столе у Р. Абиха в Реште, дав импульс поэзии, перестает быть вещью и становится явлением, временнóй точкой отсчета в глубь веков, в тысячелетнюю историю Востока. Персидский ремесленник, изваявший эту фигурку, — уже не простой иранский медник:
И свой колючей мысли вьюк медный верблюд несет не только в текущий миг или в завтрашний день — поэт ощущает его и под деревом времен Батыя, копной его ветвей (142).
(Точно так же позже, в стихотворении «Где море бьется диким неуком...», плеск и игра волн вызовут в сознании художника образ девушки времен Мамая,56![]()
Так входит в 1921 год история Востока, так современная Азия обретает в поэзии Хлебникова многомерность, глубину, а главное — движение. Это — чрезвычайно важное свойство хлебниковского Востока: у поэта в “Иранском цикле” нигде нет “по-европейски” воспринятой, сонной, застывшей Азии. У нее есть величественное и грозное прошлое, воплощенное не только в именах Чингисхана, Батыя, Мамая, но и в деянии ее народа — ваятеля, медника, дехканина, кузнеца. А настоящее и будущее?
Иногда об историзме Хлебникова говорят, опираясь лишь на его математические выкладки, на Коран чисел, полагая, что только вера в предопределенность Досок Судьбы, ее числовых перекличек и совпадений — философская основа осмысления Времени в его творчестве. Но в пору создания “Иранского цикла” Хлебников все чаще воспринимает историю глазами художника, и его талант человекопостижения оказывается проницательнее подсчета математика. Воссоздавая историю Востока в ее конкретно-человеческой наполненности, видя в кузнеце наследника Кавэ, а в меднике, создавшем фигурку верблюда, — потомка Чингисхана, расширяя тем самым границы образа современника — сегодняшнего человека Ирана, Хлебников, постоянно находящийся в эпицентре сложных событий гилянского похода, ощущает что не Время несет человека-песчинку, а человек несет в себе идею Времени и движет историю. Поэтому вовсе не случайны, казалось бы, смутные ассоциации, переносящие нас от медного верблюда к медному ножу, а от него — к стихам, где этот образ ножа получает современное и чрезвычайно острое звучание и где деяние людей сегодняшнего Востока обретает философскую перспективу, а сам человек Ирана — роль вершителя собственной судьбы:
Объяснение реального смысла начальных строк этого фрагмента мы находим в подстрочном замечании самого Хлебникова: Почерк писателя настраивает душу читателя на одно и то же число колебаний. Задача переносить груз чисел колебаний из одной души в другую выпала на долю одного испаганского верблюда, когда он пески пустыни променял на плоскость стола, живое мясо — на медь, а свои бока расписал веселыми ханум, не боящимися держать в руках чаши с вином (143).
Но для нас гораздо важнее иной, философско-художественный смысл произведения, завершающегося в цитированном отрывке стихами, каких до этого Хлебников не писал. История и современность, идея “переселения душ” и продолжения истории Востока как “переселения” исторической силы, мощи, духа тех, кто резал нити событий, в сегодняшних их потомков, способных совершить открытие нового мира, предстают здесь как единый духовный процесс. Во второй части стихотворения Хлебников максимально расширяет рамки этого процесса, впервые в стихах “Иранского цикла” вернувшись к идее западно-восточного единства, воплощенного, как в произведениях харьковского периода, в традиционных для него образах связанных между собой самой историей “разнонациональных” рек; идея взаимооплодотворения России и Востока, исторически перемещавших свои духовные потенциалы в зависимости от хода Времени, с огромной энергией звучит в завершающих строках стихотворения о верблюде:
Говоря о мотиве связи двух „символических материковых рек: “Волга — Ганг”“, А. Парнис справедливо отмечал: „Это тоже очень конкретный и очень биографический образ; В. Хлебников, выросший на Волге — реке бунтарей, вправе думать о себе как о человеке, несущем святую воду равенства и освобождения в Азию“.57![]()
![]()
Точно так же, как история в “Иранском цикле” входит в бытие человека Востока не пергаментным летописным свитком, а частицей сознания современной личности, — точно так же и природа Ирана нередко составляет в стихах Хлебникова не “фон”, а одну из сущностных граней внутренней жизни этой личности. Процитируем уже известное нам:
Образы природы, соединенные в самые неожиданные, парадоксально острые ассоциативные ряды, как бы самовыражают особый склад мировидения духовно необыкновенного героя, у которого и ночь, и звезды, и вода, и пена, и цветок, и сочетание красок живого и неживого существуют не “вне” сознания, а “внутри” души. Физическая невозможность такого явления и создает впечатление той высокой условности, когда именно состояние духа, а не “пейзаж” возникает в тех образах, которые обычно воспринимаются как “природа”.
Примеры такой “символизированной” “непейзажной” лирики мы найдем и в других произведениях “Иранского цикла”, где дерево вбирает в себя исторический пласт воспоминаний («Дуб Персии»); пустыня возникает как Путь, будучи попросту столом, на который водружена чернильница-верблюд («С утробой медною...»); жук на морском берегу произносит знакомое слово, понятное и ему, и поэту, и темный договор ночи подписан скрипом жука («Ночь в Персии»); „где зелень лесов златоуста“ в лесах золотых Заратустры («Новруз труда») и т.д.
Вместе с тем в “Иранском цикле”, естественно, есть и иная, живая, в бесчисленных реалиях и красках, шумах и запахах восточная природа, воспринятая жадным и всепроникающим взглядом русского поэта.
О. Брик в воспоминаниях о Хлебникове опровергает расхожее мнение о некоем “отшельнике”, не интересовавшемся жизнью в ее обыденности и вещной предметности. Отмечая у Хлебникова „огромные знания“ и „острейшее чувство действительности“, О. Брик относит эти достоинства поэта ко всему многообразию мира — не только к „исторической судьбе“ и „человеческой психике“, но и к бытию в целом, с его подробностями и деталями окружающей среды:
В одном из первых писем из Ирана поэт записывает и объясняет некоторые “местные” слова:
Оба эти слова немедленно включены и в поэтический пласт впечатлений, возникая в одном из первых же стихотворений цикла — «Пасха в Энзели» (Это растут портахалы) и в следующем за ним «Новрузе труда» (В стране, где название месяца — Ай) (136, 137). Предмет, имя, явление природы входят в поэзию немедленно и органично, между стихотворной строкой и впечатлением нет разрыва ни во времени, ни в самом способе художественного переоформления “сенсорного” в “словесное”. Удивительное сходство писем Хлебникова из Ирана и его “Иранского цикла”, особенно в том, что касается своеобразия форм и красок, мира природы, подчеркивает целостность восприятия и сознания художника, у которого зрительный ряд превращается в особую, живописную манеру письма.
Вообще Хлебников видит Иран прежде всего в цвете; взглядом живописца смотрит он на природу и смешивает в своем поэтическом сознании тона и оттенки в каком-то калейдоскопически-импрессионистском видении восточного мира. Конечно, колористика в метафорическом, полном неожиданных уподоблений потоке ориентальных ассоциаций — это лишь одна из граней экзотического и сверкающего разноцветьем мира, где каждый штрих наполняется содержанием более емким, чем простая “акварель” или передача достоверного тона; здесь и удивление перед многокрасочным ликом Востока, и радость его познания, и желание не просто положить точный мазок, но и вложить в него многомерность человеческого восприятия цвета как образа.
Мир Персии здесь прежде всего разноцветен, а потом уже может быть воспринят в каком-либо ином ракурсе. Эта способность подметить красочное разнообразие бытия — особенность того “нового” Хлебникова, который “рождается” здесь, на Востоке, щедро вводя в свои стихи богатство красок окружающего мира, что вполне понятно: Азия ярка и определенна в своих тонах, полна колористического разнообразия во всем: в орнаментах ковров, в разноцветных изразцах и украшениях архитектурных сооружений, в переливах красок народных одежд, но особенно — в удивительной палитре природы, так поразившей Хлебникова.
Внешнее, визуальное впечатление Хлебникова от восточной действительности, отраженное в письмах из Ирана, еще более укрепляет в мысли о том, что его поэзия и поэтика есть поразительный сплав личностного и внеличностного начал, что художественное восприятие мира и воссоздание его в произведениях у Хлебникова составляет цельный, единый процесс. Восток его поэзии и Восток первых зрительных впечатлений одинаково многоцветны и ярки:
Читая эти письма и стихи “Иранского цикла”, вспоминаешь прежде всего слова О. Мандельштама из его «Путешествия в Армению»: „Ловишь формы и краски...“.60![]()
Этот процесс кажется спонтанным; возможно, так оно и есть; но цветовые пятна, разбросанные по стихам цикла столь непринужденно и мозаично, имеют непростую логику. Сложная архитектоника их расположения нередко оттеняет различные семантические значения самóй постановкой того или иного цвета рядом с другим, концентрируясь в определенной гамме, чтобы передать не колорит, а мысль или суть какого-либо явления не связанного с природой, с цветовым письмом. Между этими цветовыми пятнами остается пространство, в котором проступает время, между ними — воздух, и это воздух живого Ирана 1921 года. Ибо изобразительный ряд любых, в том числе и ориентальных произведений Хлебникова, взятый не в “алгебре”, но в “гармонии”, есть всегда и ряд социально-философский.
При всей предметности и вещности взгляда на мир Хлебников, видимо, попросту не умеет быть обыкновенным живописцем. Даже в письмах, где он захлебывается от восторга перед ликом прекрасной природы, мгновенно проступает на первый план тот тип сознания поэта, который не обходится без обязательного сопоставления, сдвижения “пейзажного” и человеческого, цвета и социума. Персия хороша, в особенности снежные горы, только сам народ какой-то дряхлый (5, 322). ‹...› Многоокое золотыми солнцами небо садов поднимается над каменной стеной каждого сада, а рядом бродят чадры с черными глубокими глазами (5, 320). На фоне голубой листвы серебряных видений гор, которые стоят выше облаков голубым призраком, зеленого мха и золотых яблок, на фоне пятикратного эпитета золотой в одном письме — эти черные цвета глаз и чадры, это определение дряхлый обретают более острый и напряженный смысл, коренящийся не во “внешних” признаках специально выполненного сравнения, не в сознательном сопоставлении зрительных цветовых рядов, а во внутреннем состоянии самого поэта, именно так воспринимающего и ощущающего встреченный им как бы впервые восточный мир, не увиденный так ни в Калмыкии, ни на Кавказе, ни в Баку.
Ощущение внутренней несопряженности, контрастности, противоречивости бытия, возникающее у Хлебникова в Иране, нередко выражено им в цветовом письме, особенно в тех случаях, когда цвет выступает спонтанно и не имеет видимого отношения к социально-философским проблемам времени.
Здесь, как и в других подобных стихах об Иране, перед нами прежде всего — художник, впитывающий гармонию света и цвета, воздуха и наполняющих его красок, — и принимающий природу Востока не как радугу, не как разложенный на автономные оттенки спектр, а как живой, иногда — двуцветный, порой многокрасочный, но всегда таящий в себе угрозу распада лик того мира, который он постигает изнутри в первую очередь как мир человеческий.
Именно этот тип цветового письма отличает и других русских художников, глубоко проникших в суть восточного бытия; мы встречаем такие же краски у Л. Рейснер — как в ее письмах,61![]()
Думается, нет особого смысла в написании “специальной” концовки раздела об “Иранском цикле” В. Хлебникова. На всем протяжении нашего анализа иранских стихотворений поэта слово “цикл” употреблялось условно, хотя нет сомнения в том, что эти стихи, сохраняя целостность общеконцептуальных структур художественного мышления Хлебникова, создали и новую целостность, впитавшую в себя и воссоздавшую в поэтическом слове смысл прямого контакта Хлебникова с Востоком и обусловленные этим новые черты духовно-художественного мира автора “Иранского цикла”, новое качество его творческой поэтической системы.
С особой энергией это новое качество воплотилось в произведении, где иранские впечатления Хлебникова обрели и новую жанрово-структурную форму, — в поэме «Труба Гуль-муллы», написанной в конце 1921 — начале 1922 г.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 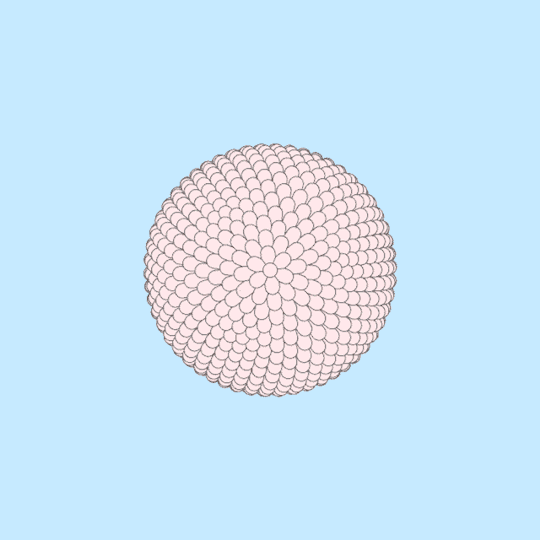 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||