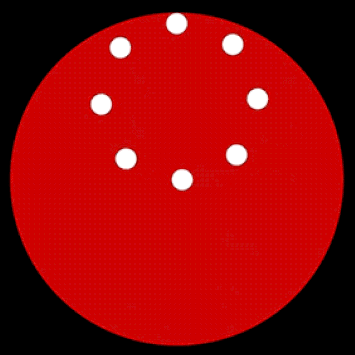Рэймонд Кук
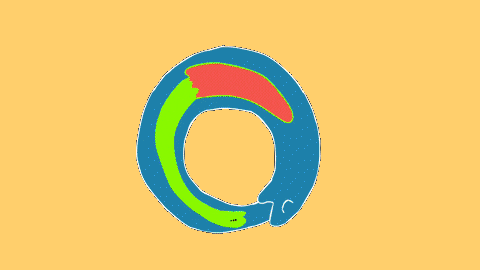
Велимир Хлебников. Переосмысление
Продолжение. Предыдущие главы: 



От воина к пророку: осада башни времени
I

щё в «Пусть на могильной плите прочтут...» (1904) Хлебников наметил открытия, которые прославят его имя, и заявил, среди прочего, что
связать время и пространство (
НП: 318) удастся именно ему. Незадолго до смерти он счёл это предсказание сбывшимся. В «Досках судьбы» читаем:
найдена опытом количественная связь начал времени и пространства. Первый мост между ними (
СС III: 477).
1
Количественная связь эта занимала его сильнейшим образом, а отсутствие у научного сообщества интереса к изысканиям во времени повергало в недоумение. Время, по мнению Хлебникова, было золушкой, выполнявшей работы в уравненьях опытных наук (СС III; 443), рабом | крепостным (СП V: 105), поварёнком2 пространства. Поэт хотел исправить этот вопиющий перекос — найти физические законы, истины о времени, по своему действию подобные истинам о пространстве. Время представлялось ему некой трёхмерной сущностью, видением времени в камне (СП V: 104). Осип Мандельштам образно высказался о такого рода синестезии:
пространства. Поэт хотел исправить этот вопиющий перекос — найти физические законы, истины о времени, по своему действию подобные истинам о пространстве. Время представлялось ему некой трёхмерной сущностью, видением времени в камне (СП V: 104). Осип Мандельштам образно высказался о такого рода синестезии:
Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе — железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве”.
3
Более того, в представлении Хлебникова время и пространство не существовали порознь — их взаимозависимость он полагал основополагающей: законы времени теряли смысл, если не применялись к пространству. Заметим, что Хлебников вышел на свою конечную цель — открытие количественной связи начал времени и пространства — после “сражений” в чисто пространственных измерениях.
Говоря об осаде башни времени (да и других башен), Хлебников прибегал к военной терминологии неспроста: война — одно из главных направлений предваряющих законы времени расчётов, да и поэтического творчества в целом. Даты сражений были реперными точками его изысканий; видим и современные боестолкновения, и череду битв, сведения о которых сохранились в анналах истории. Его пристрастие к войнам имело как временнýю, так и пространственную направленность, что и было тем состоянием перехода от трёх измерений к четвёртому, которое, по мнению Хлебникова, ему удалось математизировать.
Несомненно, одной из причин “полемоцентрического”, скажем так, уклона творчества Хлебникова было смутное время, которое выпало на его долю. За русско-японской войной последовали военные действия на Балканах, которые, в конечном итоге, разрешилась побоищем планетарного размаха — Первой мировой войной. На внутреннем фронте череда вспышек революционного насилия вызвала крах самодержавия и захват власти большевиками. Вскоре последовали иностранная интервенция и гражданская война. Отпущенный поэту срок мирным не назовёшь, и это сильнейшим образом отразилось на его творчестве.
II
В хлебниковской летописи побоищ и личных “боестолкновений” фигура воина — едва ли не важнейшая. В известной степени это становится очевидным в “прениях о поэте и толпе”, где изображение поэтического героя как благодетеля или освободителя сопряжено с воинскими подвигами. Кажется очевидным и то, что Хлебников их всячески приветствовал. В действительности, похоже, дело обстоит как раз наоборот.
На эту точку зрения поневоле становишься, вчитавшись даже в ранние (до 1914 года) произведения поэта. Спору нет, иные из них написаны в духе любования воинственностью. Ни малейшего изъяна и в казаке Паливоде из «Детей Выдры» (СП II: 153–157), исключительно хороши дерзкие красавицы-амазонки в «Семеро» (СП II: 116–118), достойны всяческих похвал славные полководцы из «Алферово» (СП II: 114–115). Эстетически без сучка и задоринки охотники: Уса-гали (СП IV: 37–39), Николай (СП IV: 40–46); поэма «Змей поезда — бегство» посвящена охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним как ручные волки. Шаг его: два шага простых людей (СП II: 106).
Благоволение Хлебникова воину (исключая военное сословие Западной Европы) и зверолову (охотник-азиат приветствовался) — отражение общеславянской установки, преобладавшей у него в понятийно-художественном плане. Рассказ «Закалённое сердце (из черногорской жизни)» — следствие, надо полагать, стремления заглядывать в словари славян, черногорцев и др. (СП V: 298) — славит воинскую доблесть этого народа в борьбе с турками. Герои рассказа — эстетические близнецы хлебниковских звероловов. Поставленная поэтом задача расширения границ русской словесности (частью решения которой оказывается черногорский рассказ) включала как возможные сюжеты проявления героизма славянского воинства. Хлебников отмечал, что великий рубеж 14 и 15 века, когда собрались вместе Куликовская, Коссовская и Грюнвальдская битвы, русской словесности совсем не известен и ждёт своего Пржевальского.4 Судя по его коротким стихотворениям «От Коссова я...» и «От Грюнвальда...» (СП II: 274), поэт считал себя вправе стать именно таким первооткрывателем.
Судя по его коротким стихотворениям «От Коссова я...» и «От Грюнвальда...» (СП II: 274), поэт считал себя вправе стать именно таким первооткрывателем.
Безусловно, борьба за славянское единство оказалась одной из важнейших в его первых поединках с государствами пространства. Сочетание двух положительных эстетических пристрастий — воина и славянства — движущая сила его ранних произведений. Иной раз ручеёк национализма подмешивается к общеславянской струе; именно тогда воином оказывается сам Хлебников. Зарницы этого опасного уклона видим сразу в нескольких ранних работах. Авторский персонаж — самозванный вождь, призывающий братьев-славян или соотечественников к оружию ради святого дела. Небольшое стихотворение «Мы желаем звёздам тыкать», где уже не в первый раз упоминается святорусский богатырь Добрыня, — как раз такой клич. Указан ряд национальных героев, достойных подражания (вспоминаем заклинательное использование имён собственных, подмеченное в других произведениях поэта):
О, уподобьтесь Святославу, —
Врагам сказал: иду на вы!
Померкнувшую славу
Творите, северные львы.
С толпою прадедов за нами
Ермак и Ослябя.
Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через сушу и через хляби!
Туда, где дух отчизны вымер
И где неверия пустыня,
Идите грозно как Владимир,
Или с дружиною Добрыня.(СП II:15)5
Налицо призыв отвоевать землю (чью — не сказано), где
дух отчизны вымер. Способ вернуть
померкнувшую славу России показан на примере героев прошлого.
6
Былыми воинскими подвигами воодушевляют на ратный труд во имя веры (князь
Владимир и воевода
Добрыня — крестители Руси). Вневременность космических битв Хлебникова уже даёт о себе знать.
Пожалуй, самый известный панславянский призыв — «Боевая» (СП II: 23), где проклинается волна неми с запада7 и наплыв-налив влияний иных, которые она приносит с собой. Славян призывают объединиться, восстать, отразить натиск иных бытей:
и наплыв-налив влияний иных, которые она приносит с собой. Славян призывают объединиться, восстать, отразить натиск иных бытей:
Я и сам бы сказал, я и сам рассказал,
Протянул на запад клянущую руку, да всю
горечь свою, да все яды свои собираю, чтоб
кликнуть на запад и юг свою весть, свою
веру, свой яр и свой клич.
Свой гневный, победный, воинственный клич:
„Напор славы единой и цельной на немь!”
(СП II: 23)
Поэтическое Я вновь предстаёт в образе воина, призывающего соплеменников к битве за святое дело. Видим одно из первых проявлений яростного антигерманизма — едва ли не пожизненного, как оказалось. Стихотворение почти наверняка можно счесть ответом на конкретные события того времени. Угроза великих держав — Германии, Австрии и Турции — малым славянским народам, их борьба за независимость и последующие балканские войны пробудили в Хлебникове прославянскую и антизападную воинственность, которая бьёт через край во многих его произведениях того времени.
Не забудем, что подобные настроения — из области скорее идеологии, чем эстетики — не чужды и творчеству некоторых современников поэта. Малоизвестные статьи, написанные им в 1913 году для газеты «Славянин», исполнены всё того же воинствующего панславизма. «Кто такие угро-россы?» — попытка пробудить у соотечественников деятельное сочувствие к бедственному положению небольшой группы славян, которую вознамерились поглотить великие державы Центральной Европы. Статья «Западный друг» — гневная отповедь на высокомерное отношение германской военщины к славянским народам.8
Антизападничество Хлебникова проявилось и в “крестовом походе” ради обнародования стихов девочки-подростка Милицы, три стихотворения которой были напечатаны по настоянию Хлебникова в 1913 году в «Садке судей II». Одно из этих них («Я хочу умереть») — об отказе изучать иностранные языки:
Скорее, скорее
Хочу умереть!
Французский не буду
Учить никогда!
В немецкую книгу
Не буду смотреть!
9
Называя эти строки прекрасными по мировой тайне, Хлебников, надо полагать, руководствовался идеологическими соображениями. Читаем дальше: Здесь слышится холодный полёт истины: родина сильнее смерти (НП: 340).
Панславянские настроения — лейтмотив одной из самых ранних статей Хлебникова «Воззвание к славянам» (1908), анонимно опубликованной петербургской газетой «Вечер» и вывешенной на всеобщее обозрение в коридоре Санкт-Петербургского университета, студентом Хлебников тогда числился.10 «Воззвание» — наглядный пример боевитости Хлебникова — было, по его собственному признанию (НП: 353), ответом на аннексию Боснии и Герцеговины Австрией в октябре 1908 г.
«Воззвание» — наглядный пример боевитости Хлебникова — было, по его собственному признанию (НП: 353), ответом на аннексию Боснии и Герцеговины Австрией в октябре 1908 г.
Как и «Боевая», это гимн единству славян, призыв вооружённой рукой воздать за унижения соплеменников:
Уста наши полны мести, месть капает с удил коней, перенесём же свой праздник мести туда, где на него есть спрос, — на берега Шпрее. Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина.
(СС III: 405)
Месть — вот оправдание войны, которая всецело приветствуется. Хлебников видит в происходящем борьбу между всем германством и всем славянством (СС III: 405), и текст «Воззвания» завершают воистину трубные звуки:
Война за единство славян, откуда бы она ни шла, из Познани или из Боснии, я приветствую тебя! Гряди! ‹...› Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствую тебя!
Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!
(СС III: 405–406)
Здесь Хлебников — ярый сторонник войны и возмездия — приводит самые убедительные доводы в доказательство своей правоты.
В прославлении войны он делает упор на исконные народно-эстетических основы: положительная оценка фигуры воина подкреплена отсылкой к русскому героическому эпосу. В диалоге «Учитель и ученик» (1912), например, воинственная сторона устного народного творчества противопоставлена “уклонизму” русских писателей:
| | I. Славят военный подвиг и войну | II. Порицают военный подвиг, а войну понимает как бесцельную бойню |
| Толстой | | + |
| Мережковский | | + |
| Куприн | | + |
| Андреев | | + |
| Вересаев | | + |
| Народная песнь | + | |
Как видим, в мирное время прославление войны Хлебников приравнивает к жизнеутверждающему народному творчеству (СП V: 180–181). Поэт отказывается воспринимать войну как побоище, её ужасы выносятся за скобки, что, вообще говоря, соответствует русским былинам о ратных подвигах. Война для него — не бесцельная бойня, но законное средство достижения благой цели.
«Воззвание» опубликовано почти одновременно с первыми опытами неологической прозы и выказывает отнюдь не менее важную грань творчества Хлебникова. Это научно-публицистическое произведение вовлечённого в современность писателя. Хотя «Воззвание» художественным не назовёшь, оно не лишено литературных достоинств и отмечено многими чертами зрелого Хлебникова: проза риторична и насыщена образами. Следует отметить и призыв к единству славян, перекликающийся с осуждением распри рюриковичей в «Слове о полку Игореве», святыне русской словесности. Её Хлебников упоминает и в поэме «Война в мышеловке», название которой говорит само за себя:
Мое создадим слово Полку Игореви
Или же что-нибудь на него похожее.
(СП II: 244)
Хлебниковское «Воззвание», как и «Слово о полку Игореве», — призыв к единству в борьбе с внешним врагом. Образ воина у раннего Хлебникова сочетает эстетику с идеологией.
III
Именно в предвоенные годы певец панславизма Хлебников знакомится с людьми, которые вскоре провозгласят его гением футуризма. Едва ли гилейцы полностью разделяли взгляды новобранца, но воинственность идеально вписывалась в рамки движения. Оскорбительные манифесты и жесты презрения к “властителям дум” говорят сами за себя: шёл подрыв литературного статус-кво.
Итак, боевитость была в порядке вещей. Гилейцы, как позже писал Давид Бурлюк, вели „непримиримую войну за новое в искусстве” (НП: 421). Не обладая ораторскими способностями своих товарищей, Хлебников, тем не менее, был активным участником набегов на литературный бомонд, что в очередной раз подтверждало воинственную природу его искусства. Не переставая быть борцом за дело славянского единства, Хлебников ратоборствовал на поприще футуризма, или, как он выражался, будетлянства.
В этой связи стоит отметить, что, несмотря на скудость подробностей охлаждения Хлебникова к “белоподкладочникам” из «Академии стиха» (начало 1910), окончательный разрыв мог быть достаточно бурным. Николай Харджиев цитирует неопубликованную заметку Хлебникова о том, что он был изгнан “академиками”, и увязывает сатиры Хлебникова на гонителей с тем, что его уход был весьма „воинственным”.11 Если это действительно так, то из ряда вон выходящей такую развязку считать вряд ли следует. К тому же, Хлебников-сатирик язвил своих литературных современников и до того, как манифесты футуристов за его подписью стали подвергать их осмеянию.
Если это действительно так, то из ряда вон выходящей такую развязку считать вряд ли следует. К тому же, Хлебников-сатирик язвил своих литературных современников и до того, как манифесты футуристов за его подписью стали подвергать их осмеянию.
Хлебникову оказалась вполне под силу декларация от имени футуристского “братства”, возвещавшая о приходе новой породы людей: храбрых будетлян на смену тем, кого поэт презрительно именует Брю-Баль-Мереж (отсылка к писателям-символистам Брюсову, Бальмонту и Мережковскому) (СП V:193).12 В записных книжках Хлебникова есть подобное высказывание о воинском превосходстве футуристов над их литературными врагами:
В записных книжках Хлебникова есть подобное высказывание о воинском превосходстве футуристов над их литературными врагами:
‹...› делятся на воинов и цуциков; воины — это мы, а цуцики — это те, кто питается от остатков после нас; из наиболее примечательных цуциков следует отметить ‹...› цуцик Куприн цуцик ‹Сологуб›.
(СП V: 328)
Нападки Хлебникова на господствующее литературное направление отмечены слитыми воедино панславянской воинственностью и футуристским напором. Идейные и эстетические соображения переплетаются в издевательском изображении писателей-символистов, просящих о пощаде у ожидаемого победителя, предвидя разгром с востока (СП V: 193).
Следует напомнить, что Хлебников видел во многих признанных современных писателях проводников чуждой культуры. Как панславянский воин, он выступал против угнетения западными державами единоплеменников за пределами России; как русский писатель — озирал родину гневным оком, нападая на всё то же господство Запада в области отечественной культуры. Именно в атаке Хлебникова на прозападные нравы сограждан воин перевоплощается в атамана разбойников:
О, вы, что русские именем,
Но видом заморские щёголи,
Заветом „своё на не русское выменим”
Вы виды отечества трогали.
Как пиршеств забытая свеча,
Я лезвие пою меча,
И вот, ужасная обрáзина
Пустынь могучего посла,
Я прихожу к вам тенью Разина
На зов [широкого] весла.
От ресниц упала тень,
А в руке висит кистень.
(НП: 208)
Это раннее (вероятно, 1911) упоминание Разина красноречиво свидетельствует о приветствии народного восстания задолго до событий 1917 года.
С другой стороны, он рассматривал свою литературную борьбу как схватку с прошлецами и вчерахарями. В небольшой статье (осень 1912) „упадочное мировоззрение символистов” вновь противопоставляется „жизнеутверждающей тематике народной поэзии” (НП: 460), а старшие поколения (упомянуты писатели Арцыбашев, Андреев и Сологуб) обвиняются в поднесении младшим отравленной чаши бытия. Далее следует угроза:
Мы протянули наш меч, чтобы выбить преступную чашу.
Это восстание молодёжи.
Мы щит и вождь её против старцев.
(НП: 335)
Последствия восстания молодёжи пока лишь угадываются, но вот идея получает дальнейшее развитие в манифесте Хлебникова «Труба марсиан» (1916). Здесь он клеймит позором утонувших в законах семей и законах торга и мечтает выковать меч из чистого железа юношей (СП V: 152). Антибуржуазный пафос этой декларации нагнетается нападками на приобретателей, антагонистов изобретателей (СП V: 153). Разумеется, Хлебников причисляет себя к боевому отряду последних (СП V: 153).
«Труба марсиан» возглашает, что на поприще этой борьбы временнóе измерение возьмёт верх над пространственными:
Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно строить лишь для осей пространства. Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени.
(СП V: 151)
Как следует из концепции войны поколений, поле битвы, на котором Хлебникову предстоит сражаться, перемещается из области трёх осей места в область четвёртого измерения — времени. Хлебников предлагает:
Везде вместо понятия пространство вводить понятие времени, например, войны между поколениями земного шара, войны окопов времени.
(СП V: 159)
Именно в манифесте «Труба марсиан» Хлебников призывает к созданию независимого государства времени (лишённого пространства) (СП V: 153).
Хлебников назначил себя воеводой (НП: 370) не только в литературных баталиях — он был ещё и воином будущего (НП: 364). В то время как большинству современников название “футуризм” казалось не более чем ярлыком, для Хлебникова понятие будущего иначе как мерилом будетлянства не назовёшь.
По иронии судьбы, именно воинственность Хлебникова способствовала разброду футуристов и упадку движения. Поводом стал визит в Россию итальянского футуриста Маринетти. Хлебников был в ярости из-за того, что его соотечественники из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы (СП V: 50).
Стычка с Кульбиным на лекции Маринетти побудила Хлебникова заявить: С членами «Гилеи» я отныне не имею ничего общего. (НП: 369)13 От выпадов антизападной, панславянской воинственности Хлебникова не застрахованы были даже испытанные в боях соратники. Антиевропейские эстетические настроения поэта и его приверженность делу независимости русского искусства перевесили, в конечном счёте, верность гилейскому единству.
От выпадов антизападной, панславянской воинственности Хлебникова не застрахованы были даже испытанные в боях соратники. Антиевропейские эстетические настроения поэта и его приверженность делу независимости русского искусства перевесили, в конечном счёте, верность гилейскому единству.
IV
Разгром русского флота в сражении при Цусиме (май 1905) ознаменовал перелом не только в истории царской России, но и в жизни Хлебникова. Это событие, как он отметил 15 лет спустя, явилось отправной точкой изысканий во времени с целью открыть его законы. В первом разделе «Досок судьбы» читаем:
Решение искать законы времени явилось на другой день после Цусимы, когда известие о Цусимском бое дошло в Ярославский край, где я жил тогда в селе Бурмакине ‹у Кузнецова›
Я хотел найти оправдание смертям.
14 (СС III: 472)
(СС III: 472)
Таким образом, Цусимский бой воспринимался поэтом уже не столько применительно к вселенной или к потере/приобретению отчих/славянских земель, сколько в понятиях четвёртого измерения. Именно посредством законов времени Хлебников вознамерился выяснить сокровенную причину смертей русских моряков.
Можно было ожидать вспышку оскорблённой гордости, подобную той, что вызвало угнетение слави чужеродной немью. Но нет. Побоище произошло на востоке, а к востоку, по хлебниковским эстетико-идеологическим понятиям, полагалось относиться если не по-братски, то в любом случае благожелательно. Япония, кстати говоря, занимает видное место в попытках Хлебникова добиться азиатского единства. В 1916 году, например, двое молодых японцев обратились через газету с просьбой помочь им наладить переписку с русскими сверстниками (СП V: 348). Хлебников взял на себя труд ответить на этот призыв далёких друзей (СП V: 154) и даже изложил повестку дня Азийского съезда (СП V: 156–157). Я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском (СП V: 155).15 Такого рода соображения, видимо, и не дали шовинистическим настроениям поэта возобладать.
Такого рода соображения, видимо, и не дали шовинистическим настроениям поэта возобладать.
Цусимскому бою Хлебников посвятил два стихотворения; оба, скорее всего, написаны спустя несколько лет. Разумеется, отдаление оскорбления во времени способствует приглушению чувства обиды, однако мерило уязвлённой гордости — потребность бередить рану. Первое из опубликованных произведений, «Памятник», напечатано в сборнике «Пощёчина общественному вкусу» (1912), а сочинено, по мнению редакторов НП, в 1910-м (НП: 16). Разительнее контраст с «Боевой» трудно себе представить. Стихотворение скорее повествовательно-описательное, чем лирическое или назидательное, присутствие поэтического Я в нём едва ощутимо. Вместо призыва отразить волну врага, побоище живописуется широкими спокойными мазками:
Вон ладья и другая:
Японцы и Русь.
Знаменные битвы: грозя и ругая,
Они поднимают боя брус.
Тогда летели друг к другу лодки,
Пушки блестели как лучины.
Им не был страшен голод глотки
Бездной развернутой пучины.
Рёв волн был дальше, глуше,
Ревели, летели над морем олуши,
Грузно освещающая темь и белые,
Как бы вопрошая: вы здесь чтó делая?
(СП II: 85)
Ни следа националистических треволнений. Кроме того, деяния людские оттёрты на обочину повествования окружающей средой (море, чайки) и подчёркнутой предметностью (лодки, пушки).
Судя по сбивчивости высказываний, даже сама победа японцев автора удручает не весьма:
С коротким упорным смешком:
„Возвратись, к чернозёмному берегу чали,
Хочешь ли море перейти пешком?”
Японцы русскому кричали.
И воины, казалось, шли ко дну,
Смерть принесла с собой духи “смородина”.
Но они помнили её одну —
Далёкую русскую родину!16 (СП II: 86)
(СП II: 86)
Господство Японии на море признаётся легитимным. Японцы среди волн как дома, русские — в гостях. Этим Хлебников намекает на подспудное противоборство иных, нежели заурядная вражда двух народов, сил.
17
В пользу такой точки зрения говорит трактат конца 1914 г. «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне», из самого названия которого уже следует, что вопросы войны и ратного труда превратились в нечто большее, нежели повод к взволнованным стихам или публицистическому взыванию. Это нумерологическое исследование в русле первого решения искать законы времени, принятого после Цусимского побоища. Вопрос о русско-японской войне составляет, кстати говоря, немалую часть работы.
Трактат назван Хлебниковым клинописью о судьбах; заявленная цель — довести до всеобщего сведения, что битвы на море происходят через 317 лет или его кратные 317·1, 2, 3, 4, 5, 6, а также показать смены господства на море разных народов через времена, кратные 317 (СС III: 413). Умозрительное вскрытие причин господства на море позволяет Хлебникову переосмыслить ход русско-японской войны: он развивает мысль о том, что её знаковые события — в частности, осада Порт-Артура — были урезанным (дни, а не годы) “повторением вспять” этапов завоевания русскими Сибири (начало XVI в.):
Тем годам столетий, когда русские ступали на реки Сибири, в войне 1904 отвечают дни их неудач.
Годы Волги, Оби, Енисея, Лены, Амура дают длинный список боёв с неудачным исходом для осаждённых.
Напротив, года русских походов на полуострова Сибири приурочены к неудачным для японцев дням.
(СС III: 425–426)
Согласно выкладкам Хлебникова, количество и даты поражений русских в русско-японской войне определяются количеством и датами переправ через местные реки при завоевании Сибири, тогда как победы казаков-первопроходцев на суше (полуострова) предопределили неудачи Японии в войне.
Отсюда вывод:
Если война была борьбой моря и суши, то не надо удивляться тому, что реки, входящие в область моря (нити моря), и полуострова — части земли, оказывали разное влияние на чашу весов победы ‹...›
(СС III: 426)
Перед нами любопытная (если не больше) теория исторической причинности, хотя исходной у Хлебникова оказывается поэтизация рек в «Илиаде» Гомера.
18
Эти умопостроения, однако, возымели последствия в творчестве Хлебникова: ход русско-японской войны поэтически отражён в «Памятнике» именно как противоборство суши и моря.
Кроме того, даты побед/поражений показывают, что первенство на море следует строгой закономерности: волна японцев на запад — предопределённый законами времени ответ на ход русской волны на восток, через сибирское реки, тремя с лишним столетиями ранее. Не следует ли ожидать когда-нибудь очередного “кувырка” такого рода превосходства, когда Россия закономерно возвысится и отомстит? Вероятно, это имел в виду Хлебников, говоря в «Памятнике» о грядущей русского победе (СП II: 87).19
Таким образом, стихотворение следует рассматривать уже не в свете воинствующего национализма воина пространства, а как растущие опасения/надежды воина времени; это шаг к исполнению жгучего желания Хлебникова найти оправдание смертям.
Другое посвящённое Цусимскому сражению стихотворение с подобной смесью переживаний — «Были вещи слишком сини...». К читателю оно пришло на год с лишним позже «Памятника», в сборнике Хлебникова «Творения» (1914), но, по мнению редакторов НП (НП: 17), написано приблизительно в то же время (1910). Начинается оно так:
Были вещи слишком сини,
Были волны — хладный гроб.
Мы под хохот небеси
Пили чашу смутных мроб.
Я в волне увидел брата,
Он с волною спорил хлябей
И туда, где нет обрата,
Броненосец шёл «Ослябя».
Над волной качнулись трубы,
Дым разорван был в кольцо,
Я увидел близко губы,
Брата мутное лицо.
Над пучиной емля угол,
Толп безумных полон бок,
И по волнам кос и смугол
Шёл японской роты бог.
(СП II: 31)
В отличие от «Памятника», стихотворение отнюдь не безлично. Показаниями поэтического Я, свидетеля гибели броненосца, событие это в значительной степени очеловечено. Но, как и в «Памятнике», главной заботой автора оказывается борьба не столько с японским воинством, сколько с морем: Было человечественной / Сыто море пеной. Морская пучина — чудовище, поглотившее тела русских моряков; ответственность за их смерти, подозреваем, лежит на японцах лишь отчасти.
И всё же, опять-таки в отличие от «Памятника», риторические пассажи и националистические настроения налицо. Стихотворение завершается предупреждением: Бледнейте, смуглые японцев лица, что перекликается с предыдущим возгласом Слушайте, слушайте, дети, тревога / Пусть наполняет бурые лица (СП II: 32–33). Но последующую клятву иначе как двусмысленной не назовёшь:
Мы клятву даём:
Вновь оросить своей и вашей
Кровию — сей сияющий
Беспредельный водоём.
Раздаётся Руси к морю гнев,
Не хочешь быть с Россией, с ней?
Так, чашей пучины зазвенев,
Кровями общими красней!
(СП II: 32)
Подобно заявленному в «Боевой», Русь гневается не на Японию, а на пучину моря.
Глубинный конфликт с морем очевиден и в другом месте стихотворения: Было монистом из русских жизней / В Цусиме повязано горло морей (СП II: 32). Барбара Лённквист полагает, что монисто (ожерелье, в общем случае) может обозначать своего рода чётки (Мерных годин ожерелье одела судьба) — известный в хлебниковском истолковании законов времени образ.20 В этом смысле неудивительно, что «Были вещи слишком сини...» отсылают к ликующему закону (СП II: 32), который обеспечивает будущие победы русских (Бойтесь, о бойтесь, монголы). По мнению Хлебникова, ныне восторжествовал закон времени, а не японцы; именно в этом контексте стихотворение предсказывает неизбежное отмщение:
В этом смысле неудивительно, что «Были вещи слишком сини...» отсылают к ликующему закону (СП II: 32), который обеспечивает будущие победы русских (Бойтесь, о бойтесь, монголы). По мнению Хлебникова, ныне восторжествовал закон времени, а не японцы; именно в этом контексте стихотворение предсказывает неизбежное отмщение:
Что Руси рок в грядущем чертит,
Не ужаснулся, кто глядел.
Её вздымается глава
Сквозь облака-времена,
Когда истлевшие слова
Стали врагов её имена.
(СП II: 32)
Итак, исход боестолкновений враждующих сторон гораздо меньше зависит от бойцов, чем от судьбы. То, что в изображённой Хлебниковым битве действуют могущественные высшие силы, очевидно из отрывка:
И тогда мои не могут более молчать уста!
Перун толкнул разгневанно Христа
И, млат схватив, стал меч ковать из руд,
Дав клятву показать вселенной,
Чтó значит русских суд!21 (СП II: 31)
(СП II: 31)
Древний бог-громовержец Перун, низвергнутый во времена крещения Руси, ныне отталкивает Христа, дабы отомстить за обиды былой паствы своей. Хлебников открыто предпочитает национальные верования чужеземным.
Заметим, что в стихотворении «Перуну» (1914) причиной поражения русских при Цусиме опять-таки оказывается вероотступничество русских:
Не предопределил ли ты Цусимы
Роду низвергших тя людей?
Не знал ли ты, что некогда восстанем,
Как некая вселенной тень,
Когда гонимы быть устанем
И обретём в временах рень,
Сил синих снём.
(СП II: 198)
И здесь низвержение Перуна таинственным образом предопределяет катастрофу при Цусиме. Налицо и предсказание возмездия (некогда восстанем): в полном соответствии с законами времени водная стихия перестанет содействовать успеху врага (И обретём в временах рень (др. рус. отмель) / Сил синих снём (др. рус. сонм, собрание).
В поэтических размышлениях Хлебникова о поражении соотечественников при Цусиме воинствующий национализм уравновешен растущим осознанием действия подспудных сил и неотступным желанием выяснить их природу. Русско-японская война вызвала у поэта несопоставимый по значимости с литературным “научный” отклик: стремление с помощью математических расчётов установить лежащие в основе поражений и побед разных народов в разное время законы времени, выяснить раз и навсегда количественную связь прошлого, настоящего и будущего и — во всеоружии своих открытий — пророчествовать, т.е. штурмовать башню времени.
Заметим впрок: в стихах о Цусиме о неприемлемости войны нет ни слова. В ранних статьях о времени Хлебников всего лишь пытается выяснить тайною пружину исхода вооружённой борьбы, и, несмотря на то, что море пожирает тела русских моряков, всё упование поэта — на войну-возмездие и языческого Перуна, который огнём и мечом покажет супостату, что значит русских суд.
V
Отысканием исторических параллелей в творчестве Хлебникова (связь низвержения Перуна с Цусимским боем, например) не без успеха занимался Хенрик Баран. Анализируя короткое стихотворение «Бех», он выяснил, какими поэт представлял себе отдалённые последствия старинной битвы, включая военную обстановку настоящего и будущего.
22
В «Бехе» речь идёт о сражении русских с татарами. Стихотворение получило название от травы, которая, согласно легенде, вырастает из костей павших воинов и умеет говорить. В последних четырёх строках читаем:
И кости бешено кричали: „бех”,
Одеты зеленью из проса,
И кости звонко выли: „Да!
Мы будем помнить бой всегда”.
23
Историческая параллель, проводимая, по словам Барана, в этом стихотворении — многовековые набеги на Русь кочевых орд и война, которую „Хлебников предвидит ‹...› между Российской и Германской империями”.
24
Но поэтический отчёт Хлебникова о битве с ордынцами только на первый взгляд кажется перепевом русской летописи. Оказывается, подобные тексты поэта следует рассматривать в свете поставленной им задачи расширить пределы русской словесности; принадлежат эти пределы как пространству, так и времени. Баран совершенно прав, усматривая здесь „тему сбережения воспоминаний о прошлом”:25 кости павших воинов в «Бехе» взывают именно к памяти людской. Любопытно, что в это же время («Бех» датируется 1913 г., см.: НП: 406) написано ещё одно стихотворение с “речистыми” останками погибшего воина.
кости павших воинов в «Бехе» взывают именно к памяти людской. Любопытно, что в это же время («Бех» датируется 1913 г., см.: НП: 406) написано ещё одно стихотворение с “речистыми” останками погибшего воина.
Доподлинно неизвестно, когда написан «Кубок печенежский»; не весьма внятное указание даётся в названии, под которым стихотворение впервые опубликовано (1916) — «Написанное до войны».26 Повествуется о поражении в бою с печенегами и последующей гибели русского князя Святослава. Подобно другим хлебниковским текстам исторической направленности, это его стихотворение следует рассматривать как исполнение взятой на себя обязанности составить книгу о России в прошлом, тем более, что поэт в этой связи упоминает именно Святослава (СП V: 298).
Повествуется о поражении в бою с печенегами и последующей гибели русского князя Святослава. Подобно другим хлебниковским текстам исторической направленности, это его стихотворение следует рассматривать как исполнение взятой на себя обязанности составить книгу о России в прошлом, тем более, что поэт в этой связи упоминает именно Святослава (СП V: 298).
Сходство с «Бехом» налицо: череп убитого князя становится не просто кубком, а “вопиющей памятью”. По словам степняка, покрывающего заготовку золотой насечкой,
Знаменитый сок Дуная,
Наливая в глубь главы,
Стану пить я, вспоминая
Светлых кличей: „Иду на вы!”
(СП II: 223)
Сомневаться не приходится: и кости «Беха», и главу Святослава немыми свидетелями прошлого Хлебников не считает.
Трудно сказать, намеревался ли поэт провести здесь историческую параллель. Если это справедливо, то налицо предупреждение, поскольку речь не о победе, а о разгроме русского воинства.27
Но хранимую поэтом память о Святославе иначе как восторженной не назовёшь. Описание последней битвы князя — дань величайшего уважения к ратной доблести полководца, один только боевой клич коего заставлял врагов трепетать, а сам он возвышался над ними как утёс (СП II: 223). Налицо очередной пример более чем положительной эстетической оценки русского воина.
Казалось бы, знамения судьбы из стихов о Цусиме в «Кубке печенежском» отсутствуют. На это есть две оговорки. Во-первых, Святослав повержен прилётом петли змеиным (СП II: 223), а Барбара Лённквист показала, что действие своих законов времени Хлебников полагает змееподобным.28 Более того, Хлебников называл свою битву с судьбой дракой со змеем (СП V: 315–316). Создаётся впечатление, что Святослав убит не человеком, а роком. Во-вторых, наблюдаем повышенное внимание к внутреннему склонению слов меч и мяч, а это хлебниковские символы войны и мира. Закрадывается подозрение: подоплёка гибельной для Святослава битвы — веление судьбы, т.е. всё тех же законов времени.
Более того, Хлебников называл свою битву с судьбой дракой со змеем (СП V: 315–316). Создаётся впечатление, что Святослав убит не человеком, а роком. Во-вторых, наблюдаем повышенное внимание к внутреннему склонению слов меч и мяч, а это хлебниковские символы войны и мира. Закрадывается подозрение: подоплёка гибельной для Святослава битвы — веление судьбы, т.е. всё тех же законов времени.
Очевидны таковые и в «Детях Выдры», знаковой работе того времени. Здесь, что называется, прямым текстом нас отсылают к числам, привлекаемым автором для попыток математического предсказания (СП II: 165). Кроме того, в этой ранней сверхповести, наряду с упоминанием каймы золотой на черепе Святослава (СП II: 176), читаем:
Мы жребия войн будем искать,
Жребия войн земле неизвестного,
И кровью войны станем плескать
В лики свода небесного.
И мы живём верны размерам,
И сами войны суть лады,
Идёт число на смену верам
И держит кормчего труды.
(СП II: 163)
Перед нами поэтический очерк становления нумерологической теории, и он с непреложностью показывает: ко времени начала войны с Германией (август 1914), несмотря на всю восторженность эстетической оценки славянского воина, мечта поэта найти оправдание смертям только крепнет.
Тем удивительнее, что Хлебников поначалу приветствовал войну. В черновике незаконченного стихотворения «Тверской», которое Харджиев датирует концом 1914 года (НП: 448), клокочет ненависть к Западу и гремит призыв поспешать туда походом (НП: 262). Тон стихов отнюдь не антивоенный, мягко говоря. То же самое можно сказать относительно “автобиографической повести” (СП V: 346) «Ка2»:
В первые дни войны я помню чёрный воздух быстрых сумерек на углу Садовой и руссов, уходящих на запад.
— Мы все умрём, — глухо сказал кто-то, взглянув на меня.
— Умереть мало, надо победить, — строго заметил я. Так начиналась первая неделя.
(СП V: 129)
Эти ура-патриотические настроения созвучны неизбывной ненависти к неми. Так, в 1913 году, всего за год до начала боевых действий, Хлебников обнародовал в газете «Славянин» отповедь расчётам немецкой стратегии Вейротера «Западный друг», и, как бы подчёркивая неизменность своих антигерманских настроений, в начале 1914 года переиздал под воинственным заглавием «Ряв! Перчатки» свою статью времён студенчества, где, напоминаю, приветствовалась грядущая и близкая война за попранные права славян и надменному врагу напоминали, что русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина. С началом войны «Воззвание» стало востребованным как никогда. Его пророческий настрой восхитил Маяковского в ноябре 1914 года:
Что это? Портрет России, написанный вчера вечером человеком, уже надышавшимся местью и войной? Нет, это озарение провидца художника Велимира Хлебникова. Предсказание, сделанное шесть лет назад. Воззвание к славянам студентам, вывешенное в петроградском университете в 1908 г.
Дружина поэтов, имеющая такого воина, уже вправе требовать первенства в царстве песни.
29
Итак, воинственность Хлебникова снова пригодилась футуризму. Разумеется, и Кручёных одобрял её; в предисловии к «Битвам 1915–1917» читаем: „В. Хлебников чрезвычайно воинственный человек и родился таковым”.
И всё же, несмотря на очевидность патриотического порыва, антигерманское воззвание, которое, казалось, вот-вот сорвётся с пера Хлебникова, замечательно лишь своим отсутствием. Оглядка на глубинные силы, которые, по мнению поэта, определяющим образом действуют на ход всех без исключения войн, уже не позволяла ему приветствовать вооружённую борьбу с прежним пылом. В этом смысле особенно показательны стихотворения «Смерть в озере» и «Тризна».
В первом (СП II: 224–225) противоборствующие стороны названы немцами и русским полком, но время и причина боестолкновения не уточняются. Не весьма ясен и победитель, хотя есть некоторые признаки того, что перед нами в очередной раз зрелище разгрома русских: говорится, например, о смерти тех, кто на Висле о Доне поёт (СП II: 224). В финале диким ужасом исказились лица немцев / Увидя страшный русский полк (СП II: 225), что побудило одного советского критика заметить: „Патриотические чувства опять нахлынули на поэта”.30 Но кажется более вероятным, что ужас врага вызван устрашающим видом трупов русских солдат, а не их воинской доблестью. Редактор и комментатор СП Степанов уклончиво назвал стихотворение „антимилитаристским”.31
Но кажется более вероятным, что ужас врага вызван устрашающим видом трупов русских солдат, а не их воинской доблестью. Редактор и комментатор СП Степанов уклончиво назвал стихотворение „антимилитаристским”.31
О том, что изображено в действительности, гласит само название — «Смерть в озере»:
В руках ружья, а около пушки.
Мимо лиц тучи серых улиток,
Пёстрых рыб и красивых ракушек.
И выпи протяжно ухали,
Моцарта пропели лягвы ‹...›
(СП II: 224–225)
Сомневаться не приходится: это солдатские тела в воде, причём ружья убитые держат мёртвой хваткой. Главный герой стихотворения — отнюдь не доблестные славяне, мстящие неми, а смерть:
Это смерть и дружина идёт на полюдье,
И за нею хлынули валы.
(СП II: 224)
Смерть русских воинов мерещится поэту возничим, который пронзительно гикнув, / гонит тройку холодных коней (СП II: 224).
Навязчивость воды-убийцы опять-таки приводит на ум Цусиму.32 Снова действуют внешние силы, воплощением которых, возможно, служит хохот задумчивого филина, который в заключительных строках стихотворения обозревает поле битвы (СП II: 225).33
Снова действуют внешние силы, воплощением которых, возможно, служит хохот задумчивого филина, который в заключительных строках стихотворения обозревает поле битвы (СП II: 225).33
В стихотворении «Тризна» внимание тоже сосредоточено не на победе, а на смерти в бою. Более того, гибель русских солдат оплакивается:
У холмов, у ста озёр,
Много пало тех, кто жили.
На суровый, дубовый костёр
Мы руссов тела положили.
И от строгих мёртвых тел
Дон восходит и Иртыш.
Сизый дым, клубясь, летел.
Мой стоим, хранили тишь.
(СП II: 229)
Проводы павших изображены с большим чувством, но сколько-нибудь явных признаков ненависти к виновникам их смерти нет. Враг даже не упоминается.
34
А вот к судьбе (
року) отсылка налицо:
Люди мы иль копья рока
Все в одной и той руке?
Нет, ниц вемы; нет урока,
А окопы вдалеке.
(СП II: 229)
Ответ Хлебникова на этот вопрос, в ту пору ещё довольно невнятный, не умаляет значимости его постановки. Смерть в бою заставляет поэта задуматься не о ружьях в руках людей, а о людях в руках
рока.
35
Научных изысканий Хлебникова, обнародованных вскоре после начала войны в трактате «Битвы», этой клинописи о судьбах, строки «Тризны» нимало не отражают. А ведь поэт уже во всеуслышание заявил, что исход военных действий на протяжении всей истории человечества определяют математически строгие законы времени. Поскольку Хлебникову такие законы казались непреложными, полученные к тому времени знания он счёл пригодными для выяснения точных дат и победителей будущих сражений. И вот, помимо подробной росписи “закономерного” хода русско-японской войны задним числом, Хлебников позволяет себе пророчествовать. Как это следует из полного название брошюры («Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне»), предсказанные в ней события непременно произойдут. Недаром в предисловии к «Битвам» Кручёных, наделив Хлебникова эпитетом „воинственный”, продолжает:
Кто читал его «Боевую славян», призыв „Посолонь на немь”, «Ночь в Галиции» и др. (см. «Изборник» и «Ряв!») тот знает, что великая война 1914 г. и завоевание Галиции были воспеты Хлебниковым уже в 1908 году!
Итак, панславянский призыв противостоять немцам и стихотворение, посвящённое Галиции, теперь считаются предсказаниями Первой мировой войны; литературное творчество Хлебникова втискивают в тесные рамки пророчества, а брошюра «Битвы» объявляется теоретическим обоснованием такового. Однако если «Боевая» — чисто литературный акт ненависти к неми, то «Битвы» — изначально беспристрастное или, по выражению Хлебникова, полуучёное исследование (НП: 370). Такое отношение налицо и в письмах к Матюшину декабря 1914 г. (НП:372–377), где речь идёт о работе над повторяемостью морских сражений. Переписка обнаруживает всепоглощающую озабоченность поэта чем-то иным, нежели ценность его собственных расчётов и предсказаний, а вопросы победы и поражения не удостоены малейшего упоминания. Очевидно, нумерологическая “непредвзятость” уже готова к внедрению в столбцы стихов.
В «Битвах» Хлебников, заявив, что можно предугадать ход войны по неким признакам, сближающим её с предшественницами на протяжении веков (СС III: 427), попытался дать сводку знаковых сражений Первой мировой (и за её пределами), используя для выявления аналогий отрезок в 317 лет. Например, предсказал, что 1915 год должен стать годом ущерба господства островитян на море (СС III: 417). Гибельные для военно-морского флота Великобритании обстоятельства даже зарифмованы:
1187
Звезда восходит Саладина,
И с кровью пал Иерусалим.
И вот созвучная година
В те дни зажгла над Чили дым.
Лишь только войску Саладина
Иерусалима ключ вручили,
Сменило море господина
У берегов далёких Чили.
И видят Монмут и Отранто,
Как гибнет гордость Альбиона.
Над ней проводит круги Данте
Рука холодного тевтона.
И этот день, причастью верен,
Сломил британские суда.
Как будто знак из мёртвых зерен,
О, тёмно-красная вода!36 (СП II: 231–232)
(СП II: 231–232)
В этих строках (из стихотворения, которое Хлебников — после нескольких несбывшихся предсказаний — назвал «Рассказ об ошибке») он пытается увязать бои Крестовых походов XII века с ходом сражений современности. В отличие от стихов о Цусиме, где хлебниковские изыскания во времени обнаруживают себя разве что между строк, центральное место здесь занимает историческая правомерность владычества на море (сменило море господина); мерилом успеха сражения оказывается не доблесть моряков, а предназначенный (те дни) этому событию срок.
Хлебников продолжает развивать эту мысль в брошюре «Время — мера мира» (1916): Первым шагом было бы, если бы на пока чистом холсте понятия времени удалось сделать несколько черт, наметив углами и точками нос, уши и глаза лика Времени (СС III: 437). Так художник “пространства” превращался в художника времени. Поэт писал родным в августе 1915 года (годовщина объявления войны): Учение о войне перешло в учение об условиях подобия двух точек во времени (СП V: 304). Иными словами, предупреждённый — вооружён. Поэт-воин обретает облик поэта-пророка и обращает весь свой воинственный пыл на башню времени.
VI
Проводя зиму и весну 1914–1915 гг. в Астрахани, Хлебников был далёк — и пространственно, и в помыслах — от реалий войны. Он занимался всемирной бойней отвлечённо, выявляя повторяемость событий всемирной истории, включая военную. Возвращение в Москву и Петроград летом 1915 года приблизило поэта к войне как народному бедствию.
Кое-какие настроения того времени угадываем из автобиографических заметок (в том числе «Ка2»), датируемых примерно январем 1916 года. Хлебников сообщает о близости военной трубы и голосов войны (СП IV: 70), а также о потоке беженцев, которые наполняли город и привносили тревогу (СП V: 125; IV: 72).
Возможный намёк на творческий порыв к созданию «Смерти в озере» — метафора купанье в ручье смерти (СП V: 125) и уверенность, что люд другим выйдет из этих вод, стыдливо надевая свои одежды. Истинно хлебниковское обобщение таково:
И вот я видел его — его, юношу земного шара: он торопливо выходил из воды и одел малиновый плащ, пересечённый чёрной полосой цвета запекшейся крови. Кругом были слишком зелёные травы, и бежал беженец, тетивой войны отброшенный далеко на чужбину.37 (СП IV: 73)
(СП IV: 73)
Хлебникову померещилось даже приветствие бога смерти:
‹...› дал мне руку и пожал её точно знакомый. Бог смерти сказал мне: здравствуй. У него были орлиные перья в чёрных косах, орлиный шлем на голове и руки дикаря.
(СП V: 131)
Вести с фронта его не радовали: мне противен бич войны (СП V: 133).
К концу 1915 года Хлебников уже отказывается приветствовать войну, отношение к ней самое неприязненное. В альманах «Взял» (декабрь 1915) он даёт написанное примерно за месяц до этого38 стихотворение, начинающееся словами:
стихотворение, начинающееся словами:
Где волк воскликнул кровью:
„Эй! Я юноши тело ем”,
Там скажет мать: „дала сынов я”. —
Мы, старцы, рассудим, что делаем.
Правда, что юноши стали дешевле?
Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?
Ты, женщина в белом, косящая стебли,
Мышцами смуглая, в работе наглей!
„Мёртвые юноши! Мёртвые юноши!”
По площадям плещется стон городов. ‹...›
(СП II: 247)
Война так обесценила в России человеческую жизнь, что возродившийся в Хлебникове воин осознал врагом её саму, в обличье волка
39
пожиравшую тела
русских юношей. Праведной поэту казалась уже не война, но борьба с ней.
Ответ Хлебникова на всемирную бойню имел как идеологические, так и эстетические последствия. Обвинение старшего поколения в причастности к ужасам войны следует увязать именно с учением Хлебникова о войне возрастов за первенство. Вести с фронта усилили идейно-эстетическую неприязнь не к внешнему врагу, а к русским старцам — власть имущим. В стихотворении налицо революционный подтекст.40
Важно отметить и то, что Хлебников, выступая против Первой мировой, противостоит, по сути, войнам вообще. Неприятие таковых столь яростно, что поэту впору разразиться призывом к войне против войны. Вот соответствующие строки:41
Величаво идёмте к Войне Великанше,
Что волосы чешет свои от трупья.
Воскликнемте смело, смело как раньше:
Мамонт наглый, жди копья!
(СП II: 249)
Растущее отвращение Хлебникова к всемирной бойне очевидно в афористичных «Предложениях», напечатанных в том же альманахе «Взял»:
* Учредить для вечной непрекращающейся войны между желающими всех стран особый пустынный остров, например, Исландию (прекрасная смерть).
* В обыкновенных войнах пользоваться сонным оружием (сонными пулями).
(СП V: 159)
Восторг перед народной песнью, прославляющей ратные подвиги, явно поутих, а представление о воинской славе подверглись коренному пересмотру, когда, к ужасу Хлебникова, война вторглась в его личную жизнь: в апреле 1916 года он был призван в армию.
Стремление Хлебникова уцелеть хорошо документировано. Он пытался добиться увольнения в запас по состоянию здоровья и, как замечает Владимир Марков, „слал отчаянные мольбы о помощи своим друзьям”.42 Король в темнице, король томится, — писал он Петровскому, — в пеший полк девяносто третий я погиб, как гибнут дети (НП: 410). В коротком стихотворении, написанном в мае 1916 года, Хлебников использует те же слова:
Король в темнице, король томится, — писал он Петровскому, — в пеший полк девяносто третий я погиб, как гибнут дети (НП: 410). В коротком стихотворении, написанном в мае 1916 года, Хлебников использует те же слова:
Где, как волосы девицыны,
Плещут реки, там в Царицыне,
Для неведомой судьбы, для неведомого боя,
Нагибалися дубы нам ненужной тетивою
В пеший полк 93-ий
Я погиб, как погибнут дети.43 (НП: 169)
(НП: 169)
Несмотря на свои расчёты судеб и войн, в Царицыне он, похоже, не горел желанием пророчествовать о себе самом и пытался любыми способами добиться признания его психически недееспособным.
Ирония судьбы этого некогда воинственного панславянина, терпящего ужасы казармы и плаца, не ускользнула от внимания некоторых комментаторов.44 Впрочем, и сам Хлебников не утратил способность трунить над собой. В одном из писем Николаю Кульбину (который, будучи генералом военно-медицинской службы, имел возможность помочь — и помог) Хлебников с деланным недоумением пишет:
Впрочем, и сам Хлебников не утратил способность трунить над собой. В одном из писем Николаю Кульбину (который, будучи генералом военно-медицинской службы, имел возможность помочь — и помог) Хлебников с деланным недоумением пишет:
‹...› в мирное время нас и меня звали только сумасшедшими, душевнобольными; благодаря этому нам была закрыта вообще служба; а в военное время, когда особенно ответственно каждое движение, я делаюсь полноправным гражданином.
(СП V: 311)
Сделайте то, что нужно сделать, чтобы не променять поэта и мыслителя на солдата, — настаивает он в этом письме, заканчивая мольбой: пришлите диагноз (СП V: 310–311).
Сохранившиеся письма того времени дают некоторое представление о муках и унижениях, которым подвергался Хлебников. Он пишет матери: Я много раз задаю вопрос: произойдёт или не произойдёт убийство поэта, больше — короля поэтов, Аракчеевщиной? (СП V: 306). В очередном письме Кульбину читаем о том же:
Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, и в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляют меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я не толпа а не стадо, где на все доводы один ответ, что я ещё жив, а на войне истреблены целые поколения. Но разве одно зло оправдание другого зла в их цепи? ‹...›
Как солдат, я совершенно ничто. За военной оградой я нечто. ‹...›
А что я буду делать с присягой, я, давший присягу Поэзии?
(СП V: 309)
Строгий распорядок военной жизни не только противоречил былым представлениям поэта о воинственности, но вызывал у него телесное и умственное истощение. Хлебников признаётся Кульбину, что к концу вечерних занятий совершенно не помнит правой и левой ноги (СП V: 309) и сетует на то, что его признали “физически недоразвитым” и обзывают “оно” (СП V: 310).
Но не моральное и физическое насилие, не лишения, которые он испытывал как солдат (мог переносить и хладнокровно переносил гораздо худшее) заставляли Хлебникова страдать. Причиной того, что, „ни один русский поэт не был так чужд армейской жизни”45 было лишение Хлебникова творческой свободы: казарма оказалась на поверку хуже тюрьмы. Западня царицынского военного городка состояла, по выражению Хлебникова, в убийстве ритма (СП V: 309):
было лишение Хлебникова творческой свободы: казарма оказалась на поверку хуже тюрьмы. Западня царицынского военного городка состояла, по выражению Хлебникова, в убийстве ритма (СП V: 309):
У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяжела военная служба ‹...› Таким образом, побеждённый войной, я должен буду сломать свой ритм ‹...› и замолчать как поэт. Это мне отнюдь не улыбается, и я буду продолжать кричать о спасательном круге к неизвестному на пароходе.
Благодаря ругани, однообразной и тяжёлой, во мне умирает чувство языка. ‹...›
Я дервиш, йог, Марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка.
(СП V: 309–310)
Война, в которой Хлебников потерпел поражение, была не отражением внешней агрессии германского милитаризма, а внутренней аракчеевщиной России. Поэт оказался в плену у старцев злобных (СП II: 246).
Этот и многие другие отклики на всемирную бойню были в дальнейшем (1919?) объединены Хлебниковым в сверхповесть под многозначительным названием «Война в мышеловке». Возможно, таковое отчасти навеяно художественной выставкой 1915 года, среди экспонатов которой была мышеловка с живой мышью, прибитая к холсту (СП V: 128).46 Однако подтекст вполне очевиден: вместо того, чтобы человечество попало в западню братоубийства, Хлебников мысленно сооружает её для самой войны. Но дело этим не ограничивается: Наденем намордник вселенной, / Чтоб не кусала нас юношей (СП II: 251). А в другом стихотворении цикла в мышеловке оказывается сама судьба:
Однако подтекст вполне очевиден: вместо того, чтобы человечество попало в западню братоубийства, Хлебников мысленно сооружает её для самой войны. Но дело этим не ограничивается: Наденем намордник вселенной, / Чтоб не кусала нас юношей (СП II: 251). А в другом стихотворении цикла в мышеловке оказывается сама судьба:
Вчера я молвил: гулля, гулля!
И войны прилетели и клевали
Из рук моих зерно.
И надо мной склонился дёдер,
Обвитый перьями гробов,
И с мышеловкою у бедер,
И мышью судеб меж зубов.
Крива извилистая трость
И злы синеющие зины.
Но белая, как лебедь, кость
Глазами зетит из корзины.
Я молвил: „Горе! мышелов!
Зачем судьбу устами держишь?”
Но он ответил: „Судьболов
Я и волей чисел — ломодержец”.
(СП II: 254)
Поэтический герой кормит войну с рук, но над ним нависает чудовище из чудовищ — не просто судьба, а судьболов, способный охотиться на мышь судеб с ловкостью кошки. Но, каким бы устрашающей ни выглядел этот всем хищникам хищник, оговорка волей чисел даёт понять, что судьболов — иносказание страстного желания Хлебникова угадывать события будущего посредством математических выкладок. Войной руководит не человек, а судьба, подвластная, в свою очередь, законам времени.
В пределах созданного Хлебниковым не нужно далеко ходить, чтобы найти подобные сравнения. В апреле 1917 г. среди тезисов к совместному с Петниковым выступлению намечено:
1. Мы — смуглые охотники, повесившие к поясу мышеловку, в которой испуганно дрожит чёрными глазами Судьба.
Определение Судьбы как мыши.
2. Наш ответ на войны — мышеловка. Лучи моего имени.
(СП V: 258–259)
Близкие мысли высказывает Хлебников и в «Разговоре», написанном в том же месяце (
СС III: 524).
47
Один из участников диалога, ссылаясь на нумерологическое учение своего собеседника, замечает:
Я вижу, что 317 лет есть истинная волна луча времени, и что точно носишь у пояса мышеловку, в которой сидит судьба. Разреши тебя называть судьболовом, как люди зовут мышеловами зеленоглазых чёрных кошек. Из твоего учения выступает единое, не разделённое на государства и народы человечество.
(СС III: 458)
Заметим в пользу Кручёных, что в своем предисловии к «Битвам» Хлебникова, обнародованном четыре месяца спустя начало войны, он уже связывает математические выкладки Хлебникова с его борьбой против войны:
Но лишь мы (то будетляне, то азиаты) рискуем взять в свои руки рукоять чисел истории и вертеть ими, как машинкой для выделки кофе! ‹...› к барьеру!
Двойственное представление Кручёных о футуристе (будетлянине) — и как о пророке, которому внятны “числа истории”, и как о бойце, готовом к поединку за правое дело, перекликается с собственным программным заявлением Хлебникова. Цитирую полностью:
Можно купаться в количестве слёз, пролитых лучшими мыслителями по поводу того, что судьбы человечества ещё не измерены. Задача измерения судеб совпадает с задачей искусно накинуть петлю на толстую ногу рока. Вот боевая задача, поставленная себе будетлянином.
Не знать её и отговариваться её незнанием будетлянин не может и не имеет права. Когда она будет достигнута, он насладится жалким зрелищем судьбы, пойманной в мышеловку, испуганно озирающейся на людей. Она будет точить зубы о мышеловку, призрак бегства будет стоять перед ней. Но будетлянин скажет ей сурово: „Ничего подобного”, и, задумчиво нагнувшись к ней, будет изучать её, пуская клубы дыма.
Нижеследующие строки отвечают тому мгновению, когда всадник заносит ногу в стремя. Рок, оседланный и взнузданный, берегись!
Будетлянин железной рукой взял повода. Затянул удилами твой конский рот! Ещё удар ветра, и начнётся новая дикая скачка погони всадников судьбы.
Опьянению скачкой пусть их научит Синий Дон!
(СП V: 144)
Задача хлебниковского футуриста
48
— поймав, изучить судьбу, а следом укротить строптивого коня
рока и оседлать его. Образы воина и пророка начинают сливаться воедино.
Влияние войны на Хлебникова заключалось не в утрате его воинственности, а в перенаправлении острия таковой: с будущих поединков государств пространства на сражения с временем и судьбой. Хотя старые одежды человечества и плыли по водам смерти, Хлебников уже видел себя портным, который торопливо прял и ткал новые одежды для землян (СП IV: 71).49
«Войну в мышеловке» завершает короткое стихотворение:
Ветер — пение
Кого и о чём?
Нетерпение
Меча стать мячом.
Я умер, я умер,
И хлынула кровь
По латам широким потоком.
Очнулся я иначе, вновь,
Окинув вас воина оком.
(СП II: 258)
Хотя за
нетерпением меча стать мячом и воспоследовала смерть, воскресение неотвратимо. По этому поводу Хенрик Баран заметил: „лирическое
Я гибнет в космической борьбе, но возвращается к жизни”.
50
Иными словами, стальной костяк хлебниковского воина отнюдь не съеден ржавчиной — он упрочен перековкой для грядущих сражений.
VII
Изменение правового статуса низов Российской империи вследствие краха самодержавия в феврале 1917 года за малым не совпало с избавлением Хлебникова от службы в армии. Получив отпуск, он тотчас включился в
будетлянскую борьбу «Воззванием председателей земного шара» (апрель 1917). Памятуя о казарменном опыте поэта, умозрительная атака на
государства пространства и “поэтический” захват власти
правительством земного шара представляются „антимилитаристским манифестом”.
51
Поэт предаёт проклятью
торговые дома Война и К° и чудовищные
государства пространства, у которых
мы, люди, трещим на челюстях /
Между клыками и коренными зубами (
СП III: 19–21).
Итак, революционную воинственность Хлебникова предопределило выстраданное неприятие войны: ура-патриотизм Временного правительства он считал омерзительным, а вот подрывная работа пораженцев из РСДРП ему, надо полагать, нравилась. Позднее он назовёт диком бредом призывы Временного правительства к войне до победного конца, а приход к власти правительства Ленина — велением судьбы (СС III: 396). Подобные настроения очевидны и в его воспоминаниях «Октябрь на Неве», написанных к первой годовщине большевистской революции. Здесь говорится о решении хлебниковских председателей обуглить бревно, отточить его и общими силами ослепить войну, а пока прятаться в руне овец52 и о презрении Хлебникова к главе Временного правительства Керенскому. По свидетельству современника, Хлебников призывал к смещению Керенского за несколько дней до того, как восставшие обратили его в бегство. Хлебников сообщает нам:
и о презрении Хлебникова к главе Временного правительства Керенскому. По свидетельству современника, Хлебников призывал к смещению Керенского за несколько дней до того, как восставшие обратили его в бегство. Хлебников сообщает нам:
Правительство Земного Шара на заседании своём 22 октября постановило: 1) считать Временное правительство временно не существующим, а главнасекомствующего Александра Феодоровича Керенского находящимся под строгим арестом.53
Неприязнь Хлебникова (он, повторяю, находился в отпуске) к провоенной политике Керенского усугубляла опасность вновь оказаться в армии. Сообщается, что поэт даже собирался
сделать чучело Керенского и с торжественной демонстрацией несть её на руках до Марсова поля, где, положивши недалеко от братской могилы, высечь так, чтобы стоны секомого слышали павшие в феврале с его именем на устах.
54
Сомнений в том, что Хлебников приветствовал большевистский переворот, нет и быть не может. Разумеется, он — подобно многим писателям того времени — далеко не полностью разделял убеждения большевиков, понимая революцию довольно-таки своеобразно. Победы пролетарского авангарда рабочего класса он в ней не усматривал, а полагал народным восстанием против гнёта властей предержащих, т.е. актом мести. Причём волну народного гнева можно было, по его мнению, предвычислить. События Октября и последовавшей гражданской войны должны были занять видное место в его «Досках судьбы». Хлебников рассматривал революцию и с точки зрения возможного захвата власти его собственным — пока умозрительным — мировым правительством с последующим созданием утопического государства времени.
В смычке октябрьского вооружённого восстания с благостной мечтой Хлебников отнюдь не одинок: готовностью немедленно совершить прыжок из постылых будней в светлое будущее Маяковский нимало ему не уступает. Зарницы предполагаемой благодати видим у Хлебникова и в прозаических зарисовках, и в поэме «Ладомир».
Помимо всплеска утопических настроений, ликующее приветствие Хлебниковым революции вызвало водопад его воинственных призывов. После Февральской революции, например, поэт создал короткое стихотворение, славящее самодержавие народа. Начинается оно так:
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
— Да будет народ государем,
Всегда, навсегда, здесь и там!
(СП II: 253)
Подобный приподнято-назидательный тон очевиден и в нескольких поэмах, вдохновлённых революцией. В этом смысле первенствуют «Прачка» и «Настоящее», полное
голосами с улицы; “увещевания” такого рода налицо и среди утопических видений «Ладомира», с его космическими по размаху проявлениями воинственности Хлебникова-революционера.
55
Деятельное сочувствие поэта Октябрьской революции проявилось в сотрудничестве с большевистскими учреждениями т.н. политпросвета, посредством которых он мог пробиться к читателю. Вот, например, отрывок из стихотворения «Воля всем», напечатанного в армейской газете «Красный воин»:
Вихрем бессмертным, вихрем единым
Все за свободой — туда!
Люди с крылом лебединым
Знамя проносят труда.
Всех силачей того мира
Смело зовём мы на бой ‹...›
56
Именно такие стихи позволили Хлебникову заручиться поддержкой новой власти. Разумеется, работа пропагандиста не была его призванием. Приносимое в газету, по мнению одного из редакторов «Красного воина», казалось „многострочным и трудно понимаемым”, т.е. для пропаганды непригодным,
57
а вот хлебниковские “агитки” довольно часто появлялись в большевистской печати (в «Известиях», например, незадолго до смерти поэта).
58
Сообщается, что в Баку (октябрь 1920) он даже читал лекции по истории социалистического движения для моряков Волжско-Каспийской флотилии.
59
Готовность Хлебникова влиться в ряды вооруженных сил большевиков нимало не напоминает отчаянные попытки увильнуть от службы в царской армии. Нужда в “столе и крове”, безусловно, давала о себе знать, но его поддержка целей новой власти — во всяком случае, таких, какими они ему представлялись — имела решающее значение. Разумеется, главенствовала возможность найти себе применение как поэту. Когда Хлебников в составе экспедиционного корпуса Красной армии (Персармии) высадился на побережье Ирана, он был скорее вольнонаёмным, нежели военнослужащим. Один из политработников позже вспоминал: „Обязанностей у Хлебникова не было никаких. Поэтому он, хотя и числился на службе, располагал временем и собой в полной мере” (ИС: 58). Другой запомнил Хлебникова вольным бродягой и курителем опиума, занятым исключительно умственной деятельностью.60 Армейское начальство не только признало его полезным и распорядилось печатать стихи, но и предоставило поэту полную свободу передвижения, необходимую для поддержания творческого настроя. Таким образом, несмотря на былые нападки на чудовище войны, Хлебников был вполне счастлив посильным участием в боевых действиях “освободителей”.
Армейское начальство не только признало его полезным и распорядилось печатать стихи, но и предоставило поэту полную свободу передвижения, необходимую для поддержания творческого настроя. Таким образом, несмотря на былые нападки на чудовище войны, Хлебников был вполне счастлив посильным участием в боевых действиях “освободителей”.
Задачей Персармии ставилось исполнение “интернационального долга”, что Хлебников мог только приветствовать. Экспорт революции способствовал установлению всеобщего братства и, надо полагать, вызвал у поэта живейший отклик; при этом надежды на светлое будущее он связывал не с промышленным пролетариатом Европы, а с угнетёнными народами Азии. Хлебников смолоду мечтал побывать в Иране; представившаяся возможность оказалась как нельзя кстати вот ещё почему: панславизм Хлебников развился в своего рода паназиатство (в 1918 г. он уже составлял общеазийские манифесты).
Однако следует помнить, что ко времени присоединения к Персармии поэт пережил не только революцию, но и гражданскую войну, и, хотя его поддержка Советов оставалась в целом неизменной, ужасов вооружённой борьбы он нагляделся. Особенно тяжелый в этом смысле год (1919–1920) поэт провёл в Харькове, где переход города из рук в руки сопровождался массовыми казнями.
Кровавые события того времени отражены поэтом сполна. В стихотворении «Современность», например, читаем о расстреле дерзкой девы красной взводом защитников свободы и престола (СП III: 57). Но Хлебников не ограничился изображением жестокосердия белых. В стихотворении «Полужелезная изба...» он с плохо скрываемым возмущением описывает горы трупов, оставшиеся после прихода красных (пленных не берут):
В снегу на большаке
Лежат борцы ненужными поленами,
До потолка лежат убитые, как доски,
В покоях прежнего училища.
Где сумасшедший дом?
В стенах, или за стенами?
(СП III: 49)
Поэт, который провел несколько месяцев в харьковской психиатрической больнице, укрываясь там от призыва в Добровольческую армию белых, осматривает побоище и терзается сомнениями в здравомыслии противоборствующих сторон.
Во время столь поучительного “харьковского сидения” разгул красного террора становятся для Хлебникова нестерпимым. В неопубликованной поэме «Председатель Чеки» есть описание злодеяний местной большевистской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (известной как Чрезвычайка или просто Чека):
Дом Чеки стоял на высоком утёсе из глины
На берегу глубокого оврага
И задними окнами повёрнут к обрыву.
Оттуда не доносилось стонов.
Мёртвых выбрасывали из окон в обрыв.
Китайцы у готовых могил хоронили их.
Ямы с нечистотами были нередко гробом,
Гвоздь под ногтем — украшением мужчин.61
Осведомлённость о подобных зверствах объясняет душевное состояние Хлебникова в Харькове в 1920 г.: по словам Петровского, „его угнетала революция, как она выявлялась тогда, но верить он хотел и бодрился”.
62
Ещё одно свидетельство подавленности поэта находим в неопубликованном стихотворении «В море мора!», которое почти наверняка относится к тому же времени, что и «Председатель Чеки». Поэт обыгрывает название Чрезвычайная комиссия, которое, будучи сокращено в Чрезвычайку, созвучно слову чайка. Возможностями этой игры слов и воспользовался Хлебников, превратив большевистскую ЧК в птицу, естественной средой обитания которой оказывается
море смерти. Стихотворение начинается так:
В море мора! в море мора
Точно чайка!
Чрезвычайка
То в подвале, в чердаке то,
То в гостиной, то в халупе,
Заховала, заховала
Горы трупов
Точно чайка!
Чрезвычайка
То опустит лапы алые,
В море смерти окунётся,
Стонов смерти зачерпнёт,
То в простыни земляные
Обовьёт тела усталые,
Трупы мёртвых завернёт,
И подушкой чёрной глины
Успокоит мертвецов,
И под ногти бледно-синие
Гвозди длинные вобьёт.63
Неприятие красного террора отзывается западающими в память строками:
Море плачет. Море воет.
Мы прошли моря и степи.
Годы, годы
Мы мечтали о свободе.
И свидетель наши дети:
Разве эти
Смерть и цепи
Победителя венок?64
В поэме «Председатель Чеки» рассказывается о следователе ревтрибунала, который был приговорен к расстрелу за слюнтяйство: избегал постановлений о высшей мере наказания. По мнению Роналда Вроона, это произведение содержит отчетливые отголоски хлебниковского стихотворения «Отказ» (СП III: 297), где лирическое Я отвергает саму возможность главенствовать и заявляет:
Мне гораздо приятнее
Слушать голоса цветов, ‹...›
Чем видеть ружья
Убивающие тех, кто хочет
Меня убить.
65
Огромная убыль населения страны повергает лирического героя «Каменной бабы» в ужас:
И я последний живописец
Земли неслыханного страха.
Я каждый день жду выстрела в себя.
(СП III: 33)
Однако мы убедились ранее, что Хлебников верил, будто в столкновениях народов и классовой борьбе действуют силы, не подвластные человеку. В «Каменной бабе» реки краснеют от крови именно потому, что
рыдающие числа /
Над бедным миром пронеслись (
СП III: 34). Сила воздействия блистательной поэмы «Ночной обыск» отчасти состоит в том, что последствия октябрьского переворота поэт не приукрашивает ни в малейшей степени. Зло борется со злом в пространстве, явно неспроста ограниченном
дверью железной и
окнами с решёткой.
66
Неоднозначность отношения Хлебникова к гражданской войне касается и Степана Разина, вождя крестьянского восстания XVII в. Разин был чрезвычайно важен для поэта: поименованный или безымянный, он присутствует во многих его произведениях. Хлебников был настолько увлечён Разиным, что даже усматривал сходство между ним и собой; один из поводов к тому — Волга и Астрахань, где Хлебников довольно долго жил в родительском доме, а Разин захватил во время восстания. Не ускользнули от внимания поэта и пиратские подвиги разинской ватаги в Иране: свою высадку в составе Персармии на то же самое побережье Каспия он воспринял как следование по стопам грозного атамана. Хлебников усматривал некоторое сходство с этим героем-воином-повстанцем и в преданности освободительной миссии. Удивительного здесь нет: в годы революции образ Разина был необычайно востребован, и многие писатели славили его имя. Корнелий Зелинский свидетельствует:
В те годы Степан Разин был едва ли не самым популярным из всех исторических героев. Хлебников, Каменский, пролеткультовские писатели — все они воспевали Степана Разина.
67
Но, хотя самоотождествление с прославленным бунтарём и привело к рождению под пером Хлебникова
Двойника Разина (
СП IV: 147), таковой оказывается двойником-антиподом (
отрицательный голубой Двойник Разин, там же).
68
Напряжённость ощутима в отрывке «Капает с вёсел сияющий дождь...», который Хлебников включил в сверхповесть «Война в мышеловке». Стихотворение можно рассматривать как часть „разинского созвездия”,69 хотя имя атамана прямо не упоминается:
хотя имя атамана прямо не упоминается:
Капает с вёсел сияющий дождь,
Синим пловцов величая.
Бесплотным венком ты увенчан, о вождь!
То видим и верим, чуя и чая.
Какой он? Он русый: точно зори,
Как колос спелой ржи.
А взоры — льды и море,
Где плавают моржи.
70
Пловцы и
вождь — иносказание о Разине и его казаках на Волге и Каспии. В поэме «Уструг Разина» тот же
пловец относится к Разину напрямую (
СП I: 247).
Взоры, подобные
льдам и морю, — почти наверняка намёк на паломничество будущего
отомана в Соловецкий монастырь на Белом море, упомянутое в другом важном тексте «Разин: Две Троицы» (
СП IV: 146–151).
71
Кроме того,
зори отзываются единственнм числом
заря, часто используемым Хлебниковым в анаграммах и палиндромах имени
Разин, соотносящих поэтическое
Я с личностью вождя восстания. Если к этому добавить
колос спелой ржи (т.е.
хлеба — известного по многим текстам иносказания родового прозвища поэта),
72
то в этом стихотворении слияние
Разина и автора более чем гадательно.
73
Однако в стихотворении есть и такие строки:
Но стоит, держа кормило,
И не дружит с кистенём ‹...›
74
Согласитесь, довольно необычный образ Хлебникова-воина. Теперь он видит себя кормчим судна, полной противоположность герою «Песни мне» (А в руке висит кистень). Отказ от воинственности налицо. Любопытно, что вариант стихотворения усугубляет впечатление “смены вех”:
Но стоит, держа правило,
Не гордится кистенём.
(СП II: 250)
Навыки навигации заступили место науки убивать. Это важное признание. Иной тип поэтического Я с иным “орудием производства” посягает на образ воина.
Обратимся теперь к “химере” Хлебников↔Разин в поэме «Ладомир». Здесь, хотя воин повсеместно поднимает восстания, в его руках ряд чисел, точно палка (СП I: 199). Он отказался от оружия в пользу открытого изысканиями поэта мерила, которым тот надеется расправиться с войной и обуздать судьбу. Разбойничий кистень заменён посохом пророка.
Разин — отнюдь не единственный “разоружившийся” воин Хлебникова:
О единица!
Подслушай говор звёзд
И крикни мой завет.
Вот моя охота, лапу положив.
Она прекрасна — моя дичь!
Все бросятся отнять твою добычу.
Я же скажут — мой завет.
И ты Атилла без меча,
Всех победив,
Их сделал данниками звёзд
И завоевал для неба
Великий рычагами я.
(СП V: 85)
Это короткое, но прихотливое воззвание к математической единице. Благодаря знакомой обойме образов (звёзды, охота, лапа) и отсылке к завету авторского Я, понимаем, что и единица, и палка (она же ряд чисел) в «Ладомире» — способ укрощения судьбы посредством математических выкладок. Именно единица позволяет поэтическому Я стать великим рычагами. Во «Взломе Вселенной» (СП III: 98–99) упомянуты лестница, напилок, буравы и свёрла, но нехитрая рукоять управления судьбой (ручка моей воли | рычаг мозга) — наиважнейшее орудие; наряду с кормилом | правилом и палкой (посохом) она из той же “теоретической механики”. Если поэтический герой велик рычагами, то сверх того ему нечего желать. Вот почему единица равна “бичу народов” Атилле. Таким образом, хлебниковский воин опять во всеоружии — будь он и без меча или, подобно Разину, без кистеня. Поэтическое Я окончательно превращается из воина в пророка. Похожий образ видим и в химерическом Хлебников↔Разине из «Трубы Гуль-муллы»:
И в звёздной охоте
Я звёздный скакун,
Я Разин напротив,
Я Разин навыворот.
Плыл я на «Курске» судьбе поперёк.
Он грабил и жёг, а я слова божок.
Пароход-ветросек
Шёл через залива рот.
Разин деву
В воде утопил.
Что сделаю я? Наоборот? Спасу!
Увидим. Время не любит удил.
И до поры не откроет свой рот.
(СП I: 234–355)
Обыгрывая поэму из строк-
перевертней «Разин», поэтический герой называет себя
Разиным напротив |
навыворот. Он плывёт против течения прообраза своей судьбы: Разин
грабил и жёг, а я слова божок. Согласно преданию, Разин утопил пленённую в Персии принцессу; поэтический герой Хлебникова сделает обратное:
спасёт.
75
Более того, герой не только возносится на небеса (
И в звёздной охоте...), но тотчас призывает уже знакомый нам образ
коня времени. Действия
Разина навыворот связаны с битвами не в трёх измерениях, а в четвёртом.
Воин-революционер пока не слился нацело с ипостасью Хлебникова-пророка: он продолжает считать себя поэтом-воином Персармии (стану писать новые песни ‹...› Ружьё и немного колосьев — подушка усталому, СП 1: 244); но поэт и впрямь оказался тем дервишем, чья участь казалась ему столь завидной несколько лет назад (Я дервиш, йог, Марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка.). Именно в Иране, где струящийся золотой юг как лучшие шелка, раскинутые перед ногами Магомета севера (СП V: 319), поэта прозвали священником цветов — гуль-муллой (СП I: 245).
Да, воин Хлебников становится Магометом севера, пророком, и вскоре после прибытия в Энзели сообщает об этом своей сестре Вере: Я сказал персам, что я русский пророк (СП V: 321).
VIII
Тема пророчества пронизывает творения Хлебникова подобно теме войны; эстетически привлекательный образ пророка и мудреца очевиден и в первых пробах пера, и в стихах излёта жизни. Образ этот отнюдь не заимствован из литературы: пророческой была сама личность Хлебникова.
Способность предугадывать занимала его смолоду. В автоэпитафии 1904 года, которая сама по себе была сводом предсказаний, читаем: он вдохновенно грезил быть пророком (НП: 318). К середине следующего года он уже поклялся открыть законы времени, и вскоре добился блестящего успеха (СП II: 10), принесшего ему значительную известность: в брошюре «Учитель и ученик» (1912) предположил: Не следует ли ждать в 1917 году падения государства? (СП V: 179). Ещё как следовало: 1917 год ознаменован двумя русскими революциями.
Как мы знаем, Хлебников продолжил свои расчёты: предсказания рассыпаны по брошюрам, статьям и частной переписке. Например, в письме от декабря 1916 г. он с уверенностью предположил, что война с Германией продлится ещё полтора года, и за ней последует мёртвая зыбь внутренней войны (СП V: 312). Но поэт и сам готов был признать, что его предсказания не всегда сбываются (отсюда его «Рассказ об ошибке»).76
Стоит отметить, что расчёты Хлебникова охватывают чрезвычайно широкий круг явлений: особые признаки и даты не только исторических событий, но и мыслей, чувств, творческих порывов, рождений и смертей; расположение городов, движение планет, частота сердцебиения и т.д. и т.п. Размах ошеломляет. Читаем, например:
Если существуют чистые законы времени, то они должны управлять всем, что протекает во времени, безразлично, будет ли это душа Гоголя, «Евгений Онегин» Пушкина, светила солнечного мира, сдвиги земной коры и страшная смена царства змей царством людей, смена девонского времени временем, ознаменованным вмешательством человека в жизнь и строение земного шара.
(СС III: 479)
Иными словами, всё и вся имеет меру, причём единую.
На протяжении довольно долгого времени число 317 в его поисках законов времени преобладало. Хлебников вывел его из своей формулы 365±48, с помощью которой, как утверждалось ещё в 1914 г., он дал людям способы предвидеть будущее (НП: 352). Однако к концу 1920 г. поэт в корне пересмотрел свои прежние воззрения на повторяемость событий. В «Досках судьбы» читаем:
Чистые законы времени мною найдены в 1920 г., когда я жил в Баку, в стране огня, в высоком здании морского общежития.
(СС III: 471)
Своё
открытие Хлебников тотчас “перевёл на рельсы” пророчества:
Я хотел найти ключ к часам человечества, быть его часовщиком и наметить основы предвидения будущего (
СС III: 471). И далее:
Тем, у кого нет обыкновенных часов, небесполезно носить большие часы человечества и прислушиваться к их стройному ходу: тик-тик-тик.
77
Ларчик открывался якобы просто:
Я понял, что время построено на ступенях двух и трёх, наименьших чётных и нечётных чисел.
Я понял, что повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная природа времени
(СС III: 473)
Важное различие между числами два и три, ключевыми единицами времени, пояснено в письме к Петру Митуричу:
Мой основной закон времени: во времени происходит отрицательный сдвиг 3n дней и положительный через 2n дней; события, дух времени становится обратным через 3n дней и усиливает свои числа через 2n; между 22 декабря 1905 московским восстанием и 13 марта 1917 прошло 212 дней; Между завоеванием Сибири 1581 г. и отпором России 25 февраля при Мукдене прошло 310 + 310 дней.
(СП V: 324)
Проще говоря, число два связывалось с приращением события подобным событием (февральская революция довершает московское восстание 1905 г.); а число три — с отрицанием или обращением события вспять (поражение России под Мукденом в 1905 г. в войне с Японией обратно успеху 1581 г. в завоевании Сибири). События, управляемые числом три, рассматриваются в терминах закона качелей:
Мы часто ощущаем, проходя тот или иной шаг по мостовой судьбы, что сейчас все мы, всем народом, опускаемся в какой-то овраг, Идём книзу, а сейчас взлетаем кверху, точно на качелях, и какая-то рука без усилия несёт нас на гору.
(СС III: 504)
Обобщить открытие Хлебникова можно так: поэт связывал двойку с молодостью, ростом и жизнью, тройка же означала упадок и возмездие, была
злым числом,
колесом смерти,
крылом смерти.
78
Попытки составить расписание будущих событий предпринимались Хлебниковым со всей ответственностью:
как всякий подлинный утопист, он верил в реальность своих предугадываний;.
79
Подтверждений такому суждению немало. Хлебников был настолько озабочен доказательствами своей правоты, что, предсказав точную дату возникновения где-либо нового Советского Правительства, убедил трёх большевистских чиновников заверить своей подписью свидетельство успеха (СС III: 531). Удостоверение это впоследствии появилось в московском журнале (март 1922). Некоторые из его пророчеств изложены в стихах. Одно из них не сбылось, но своей актуальности не утратило и по сей день:
Клянемся волосами Гурриэт эль Айн,80 Клянемся золотыми устами Заратустры —
Клянемся золотыми устами Заратустры —
Персия будет советской страной.
Так говорит пророк!(СП V: 85)
Одержимость Хлебникова математическими расчётами, на основании которых он делал свои предсказания, заставляет заподозрить у него раздвоение личности. Владимир Марков, например, уверен:
Хлебников разрывался между языком и математикой; безусловно, он предпочёл бы открыть
законы времени, нежели остаться в анналах поэзии.
81
Однако, как и многие другие „оппозиции”
82
в произведениях Хлебникова, противостояние числа (науки) слову (поэзии) оказывается в значитеной степени мнимым. Могут возразить, что Хлебникова-
числяра следует отделять от Хлебникова-поэта.
83
“Дихотомистам” такого рода следует помнить, что творчество Хлебникова зиждется на единстве его научных и поэтических пристрастий.
Следует учесть и вот что. Во-первых, даже ранняя эстетическая программа Хлебникова ставила задачей решение вопросов, к литературе не относящихся. Стремление показать в своих произведениях Россию в прошлом (СП V: 298) — уже свидетельство наклонностей, которые нашли выход в изысканиях во времени. Хлебников никогда не стремился отгородиться от общественных, идейных или научных запросов, использую при необходимости литературное творчество как платформу для ответов на них. Во-вторых, как показано выше, Хлебников с неких пор стал воспринимать себя не только словеннегой, но и художником числа. Наука сама по себе была для него искусством. „Поэту надо заниматься математикой. Поэзия и математика — из одного истока,” — слова, приписываемые Хлебникову мемуаристом.84 В-третьих, пророчество как таковое, подвигшее (он вдохновенно грезил быть пророком) поэта к математическим изысканиям, тесно связано с поэзией. Корни пророческих речений питали первые ростки поэзии.85
В-третьих, пророчество как таковое, подвигшее (он вдохновенно грезил быть пророком) поэта к математическим изысканиям, тесно связано с поэзией. Корни пророческих речений питали первые ростки поэзии.85 Математические расчёты Хлебникова были неотъемлемой частью пророческого видения всеобщей гармонии, которая была для него столь же эстетически, сколь и научно обоснована.
Математические расчёты Хлебникова были неотъемлемой частью пророческого видения всеобщей гармонии, которая была для него столь же эстетически, сколь и научно обоснована.
В итоге, по словам Цветана Тодорова,
оппозиция литературного и нелитературного, по-видимому, не имела для Хлебникова никакого значения.
86
Литература и не литература, искусство и наука у него не разделены привычными нам перегородками. Таким образом, хотя между поэтом и учёным ощущается некоторое напряжение, хлебниковский подход к словесности позволял и обозначить эти “запросы двойного назначения”, и примирить их. “Научная” работа Хлебникова — безоговорочно творческая.
Да, хлебниковская чересполосица литературы и науки удивит кого угодно. С одной стороны, зачин его «Досок судьбы» («Зарёй венчанный») зарифмован, а законы времени изложены и математически, и метафорически. С другой — расчёты и уравнения встроены в якобы литературные произведения или переведены на заведомо поэтический язык:
Через два раза в десятиой степени три
После взятия Искера,87
После суровых очей Ермака,
Отражённых в сибирской реке,
Наступает день битвы Мукдена,
Где много земле отдали удали.
Это всегда так: после трёх в степени энной
Наступил отрицательный сдвиг. (СП III: 350)
Математические выкладки учёного и пророческие видения художника сливаются, образуя единство как литературного, так и научного (если считать наукой изыскания во времени) содержания.
Пророчество и поэзия у Хлебникова сближены до такой степени, что он полагал вещими свои произведения, подчас лишённые даже намёка на желание заглянуть в будущее. Несомненно, подстрекаемый одобрением Кручёных (который, как показано выше, чуть ли не в первых пробах пера Хлебникова усмотрел предсказания Первой мировой войны), Хлебников развил нечто вроде эстетической теории о заведомо пророческой природе своих работ. Неизданное собрание сочинений (1919) он предварил заявлением:
Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. ‹...› знаем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, она зажигает настоящее.
В «Кузнечике», «Бобеоби», в «О, рассмейтесь» были узлы будущего — малый выход бога огня и его весёлый плеск. Когда я заметил, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова.
(СП II: 8)
Потаенные смыслы, которые Хлебников смолоду подозревал в слове, на закате дней он вменял своим стихам: они, по его мнению, непреложно доказывали подлинно
будетлянскую природу творчества как такового.
88
Вера в изначально провидческую природу художественного произведения очевидна и в подходе Хлебникова к народной сказке. Он считал, что поэтическая выдумка безвестного сказителя предугадывает свершившийся в отдалённом будущем факт. Воздухоплавание, например, — ковёр-самолёт наяву. Народная сказка провидит достижения науки:
Тысячелетие, десятки столетий будущее тлело в сказочном мире и вдруг стало сегодняшним днём жизни. Провидение сказок походит на посох, на который опирается слепец человечества.
(СП V: 196)
Хлебников действует как взломщик кода, выявляя скрытые в такого рода текстах пророческие намёки (СП V: 196). В другом месте, обсуждая ту же тему, он риторически вопрошает:
Так ли художник должен стоять на запятках у науки, быта, события, а где ему место для предвидения, для пророчества, предволи?89 (СП V: 275)
(СП V: 275)
Одно из важных следствий хлебниковских законов времени — жирный знак вопроса в отношении свободы волеизъявления. Предсказуемость событий предполагает строгий детерминизм; неумолимость взмывания/опускания качелей судьбы, подобно колесу смерти, не оставляет произволу человека места. Хлебниковские таблицы дат переселения народов и важных битв составлены как доказательство непреложности открытых им законов; человечество подчинено им безоговорочно; они предопределяют и войны, и религиозные верования, и даже речи пророков.
Мы, люди, подобны волнам, бросаемым друг на друга железным законом отношения времени к месту; извечный договор между временем и пространством даёт знать о себе нашими войнами, пророками, верами ‹...› Приятно ощутить себя вещью.
(СС III: 500)
Поведением человека, хочет он того или нет, управляют высшие силы. Возмездие себе подобным в революциях и войнах — не проявление свободной воли воина или повстанца, но веление законов судьбы, управляющих их действиями во времени и пространстве. Хлебников поясняет:
Я не выдумывал эти законы; я просто брал живые величины времени, стараясь раздеться донага от существующих учений, и смотрел, по какому закону эти величины переходят одна в другую, и строил уравнения, опираясь на опыт.
(СС III: 474)
Изобрёл Хлебников свои законы времени или открыл их — вопрос, безусловно, спорный. После Цусимского сражения он поклялся их найти; примерно через пятнадцать лет ему, по внутреннему убеждению, это удалось. Хлебников, надо полагать, исходил из уверенности в предвечности этих законов, и поставил целью доказать справедливость своего предчувствия. Если причинно-следственная связь именно такова, вывод предшествовал поискам. На этот счёт Цветан Тодоров замечает:
Итак, важно не время или пространство как таковые, а, по выражению Хлебникова, „соразмерность, порядок и лад”. Его первейшая цель — устранить „так называемую случайность” полностью, показать, что кажущееся произвольным — просто ещё не понятая закономерность.
90
Однако есть свидетельства того, что Хлебникова удручала выдвинутая им детерминистская теория. Великий числяр досадует, что угодил в сеть, которую сам же и соорудил:
Если кто сетку из чисел
Набросил на мир,
Разве он ум наш возвысил?
Нет, стал наш ум ещё более сир!
(СП III: 357)
О тягостном осознания промаха можно судить ещё и по тому, что, впервые появившись в стихотворении 1912 года (НП: 25), эти строки перекочевали в сверхповесть «Зангези», написанной почти десятилетие спустя.
Ещё один пример отстаивания свободой воли человека — саркастические замечания в «Детях Выдры» относительно Маркса и Дарвина, которые, сдавив нежные умы ‹...› в тисках железных, / В застенке более полезных, Поймали нас клешнями в сеть (СП II: 172).91
Таким образом, уверения вроде приятно чувствовать себя вещью оказываются самообольщением, ибо число и треугольник, как замечает поэт в прозаическом отрывке «Перед войной», суть железная мышеловка (СП IV: 145):
Я шептал проклятья холодным треугольникам и дугам, пируя над людьми, подымавшими ковши с пенной брагой, обмакивавшими в мёд седые усы князей жизни, и видел, как кулак калек подымается к их теням с тою же глухой угрозой. Я отчётливо видел холодное “татарское иго” полчищ треугольников, вихрей круга, наступавшее на нас, людей, как вечер на день ‹...›
(СП IV: 144)
Хлебников, похоже, весьма далёк от признания себя игралищем предопределённости:
И пусть насмешливо смеётся
С досок московских переулков
Кривая конская головка, —
Клянусь кониной, мне сдаётся,
Что я не мышь, а мышеловка.
(СП I: 176)
Таким образом,
осада башни времени вызвана отнюдь не мечтой о прокрустовом ложе детерминизма для человечества. Наоборот, одним из главных побуждений к открытию
законов времени оказывается всемерное упрочение свободы воли. Отнюдь неспроста «Воля всем» взята заголовком стихотворения;
92
известно и такое высказывание:
Могут спросить, что это? Сдача року? Опуск знамени человека? Отнюдь нет. ‹...›
Измерим противников.
93
Своими законами времени Хлебников намеревался вверить человеку знания, которые позволят ему стать хозяином своей судьбы. Он считал, что не события управляют временем, а время управляет событиями.94 В «Досках судьбы» заявлено:
В «Досках судьбы» заявлено:
Судьба Волги даёт уроки судьбознанию.
День измерения русла Волги стал днём её покорения, завоевания силой паруса и весла, сдачи Волги человеку. Промеры судьбы и изучение её опасных мест должны сделать судьбоплавание настолько же лёгким и спокойным делом, насколько плавание по Волге стало лёгким и безопасным ремеслом после того, как сотни буянов алыми и зелёными огнями отметили опасные места, камни, отмели и перекаты речного дна. Точно так же можно изучать трещины и сдвиги во времени.
Подобные же промеры можно делать и для потока времени, строя законы завтрашнего дня, изучая русло грядущих времён, исходя из уроков прошлых столетий и вооружая по способу судьбомерия разум новыми умственными очами в даль грядущих событий.
Давно стало общим местом, что знание есть вид власти, а предвидение событий — управление ими.
(СС III: 471)
Ясновидение, даруемое хлебниковскими законами времени, не человека отдавала на волю событий, а события подчиняла воле человека.
В отрывке «Одиночество», который, вероятно, был продолжением «Досок судьбы», о силе даруемого законами времени предвидения Хлебников говорит так:
Я думал, что слепой узнаёт яму, упав в неё (грубое измерение ямы). А наделённый глазами видит и мудро обходит её. Я думал, что было бы небесполезно найти что-то похожее на калоши для луж судьбы и непромокашки от косых капель ливня судьбы. Человек, строй себе жилище!95
Вот почему, несмотря на кажущуюся неумолимость хлебниковских
законов, Николай Асеев говорит о них как о барометре, способном предупреждать человечество и направлять его развитие, а Владимир Марков замечает, что у Хлебникова была „истинно футуристическая мечта о свободном человеке, который сумеет познать законы бытия и благоустроить свою жизнь”.
96
Сам же Хлебников на сей счёт держался такого мнения:
Теперь, изучив огромные лучи человеческой судьбы, волны которой населены людьми, а один удар длится столетия, человеческая мысль надеется применить и к ним зеркальные приёмы управления, построив власть, состоящую из двояко выпуклых и вогнутых стёкол. Можно думать, что столетние колебания нашего великанского луча будут так же послушны учёному, как и бесконечно малые волны светового луча. Тогда люди сразу будут и народом, населяющим волну луча, и учёным, управляющим ходом этих лучей, изменяя их путь по произволу.
(СП V: 239–240)
Налицо уверенность: человек будет хозяином своей судьбы.
97
В конечном счёте, по мнению Хлебникова, возможен переход от всеобщей предзаданности к всеобщей гармонии: уравнение человеческого счастья будет решено (СП IV: 298) и темница времени, в которой томится человек, покажется ему обителью радости:
Закононовшества: их нельзя нарушать, им нельзя не подчиняться: их можно видеть или не видеть ‹...›
Мы раскрываем, мы распахиваем радостную темницу, в которой живёт человек, из которой он не может выйти; каждый живущий — обитатель этой темницы времени; жизнь есть жилое помещение.
Да здравствует палуба земного шара!98
В хлебниковской
осаде башни времени преобладали два образа: воин/охотник и пророк/учёный.
99
Это знакомое сочетание видим и в заявлении Хлебникова о долгожданной победе. В «Досках судьбы» он ликует:
Открыв значение “чёта” и “нечета” во времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в которой испуганным зверком дрожит древний рок.
(СС III: 473)
Первооткрыватель значения “чёта” и “нечета” приравнивается к охотнику, в западню которого угодила судьба. Пророк всё знает наперёд, подобно закалённому в боях воину, способному предугадать малейшее движение противника.
Идея переноса противоборства с уровня физического насилия на уровень интеллекта имела для Хлебникова громадное значение. Выше мы отметили “обезоруживание” Разина и Атиллу без меча; есть и другие примеры подобного умиротворения. «Взлом Вселенной», например, производит впечатление мятежа космического размаха, но место действия — череп, а властвуют рычагам мозга (СП III: 97). К финалу поэмы об “интеллектуализации” конфликта говорится без околичностей: герой спасает осаждённый народ не силой оружия, а умом и только мыслью (СП III: 99).
Слияние воина и пророка очевидно и в письме, которое Хлебников написал своей сестре Вере из Баку в январе 1921 года:100
Этот год будет годом великой и последней драки со змеем. ‹...› За это время я выковал дрот для борьбы с ним — это предвидение будущего: у меня есть уравнения звёзд, уравнения голоса, уравнения мысли, уравнения рождения и смерти.
(СП V: 315–316)
Оружие, которым поэт борется со змеем — набело переписанные месяцем раньше законы времени. Перерождение поэта-воина в поэта-пророка прекращало вооружённую борьбу за ненадобностью: интеллектуальный крестовый поход против древнего рока подразумевал и войны. Судьба в мышеловке оборачивалась войной в мышеловке. Воззвание «Всем! Всем! Всем!», датированное 1919–1921 гг. гласит:
Кто сможет нарушать наши законы?
Они сделаны не из камня желаний и страстей, а из камня времени.
Люди! говорите все вместе: Никто!
Прямые, строгие в своих очертаниях, они не нуждаются в опоре острой трости войны, который ранит того, кто на него опирается.
(СП V: 165)
«Доски судьбы» — самое подходящее место для подобных заявлений. Изложение законов времени открывается стихотворными строками:
Если я обращу человечество в часы
И покажу, как стрелка столетий движется,
Неужели из вашей времён полосы
Не вылетит война, как ненужная ижица?
(СС III: 469)
Иными словами, хлебниковские часы человечества сделают войну пережитком прошлого (ижица — буква, изъятая из алфавита после реформы 1918 г.).
Дальнейшее умаление войны до ненужного письменного знака происходит в математических уравнениях, посредством которых Хлебников излагает свои законы времени. В «Глашатае (починка мозгов)» читаем:
Странно думать, что народы бесчисленными государственными переворотами только проходили несколько правил алгебры. Человечество кровавыми войнами, почерком меча войн, как ученик, просто проходило, отгибало углы страниц Книги чисел. Клокотанье столетних страстей, величавая война, уносящая столько жизней, — часто просто значит перемену знака в уравнении.
Мы должны уметь читать знаки, начертанные на страницах прошлого, чтобы освободиться от роковой черты между прошлым и будущим ‹...›
101
Как только человечество осознает, что кровавые войны можно свести к нескольким правилам алгебры, полагает Хлебников, оно сможет освободиться от роковой черты — обуздать настоящее, миг за мигом.
Устранение войны простой переменой знака в уравнении возможно и в нотной записи. В «Нашей основе» будетлянин заклинает древний рок игрой на балалайке:
Перед вами будетлянин со своей “балалайкой”. На ней, прикованный к струнам, трепещет призрак человечества. А будетлянин играет: и ему кажется, что вражду стран можно заменить ворожбой струн.
(СП V: 239)
Пророческое “тренькание”
будетлянской “балалайки” останавливает мировые войны, при этом
ворожба струн подразумевает магическое действо, прямо связанное с ясновидением. “Балалаечник” зачаровывает вооружённую борьбу народов,
решая струнной игрой то, что решается пушечным боем (
СП V: 313).
102
Важный пример такого рода волхования очевиден во «Взломе Вселенной», где Хлебников красочно излагает свою клятву дать оправдание смертям:
Я дал обещание,
Я нацарапал на синей коре
Болотной берёзы
Взятые из летописи
Имена судов,
На голубоватой коре
Начертил тела и трубы, волны, —
Кудесник, я хитр, —
И ввёл в бой далёкое море,
И родную берёзу, и болотце.
Что сильнее: простодушная берёза
Или ярость железного моря?
(СП III: 94)
Здесь столкновение народов представлено сочетанием письменных знаков и графики: не алгебра или музыка, но слова и картинки. Получив известие о Цусимском сражении, Хлебников дал обещание найти законы времени (СП II: 10). Это краткое сообщение далее уточняется: имена и тела судов вырезаны на коре, дабы воссоздать битву между сушей и морем. Видим опытного (я хитр) колдуна (кудесника) за работой. Подобно древнему магу, он ведёт своё сражение не въяве, а посредством заклинаний. Это война по доверенности. Подобно первобытному дикарю с его наскальными рисунками, поэт обозначает цель своего заклинания наглядно и воздействует на неё колдовскими чарами. Это тот уровень, на котором Хлебников может победить и войну, и судьбу.
Пушки отброшены в пользу перочинного ножа; подножием башни времени становится письменный стол, за которым числяр занимается расчётами, которые загонят судьбу в мышеловку и устранят угрозу войны. Вот запись от 21 марта 1921 г.:
Люди делали счёт времени военной кровью, мечом. Отсюда войны прекратятся тогда, когда люди научатся делать счёт времени чернилами.
Война обратила вселенную в чернильницу с кровью и хотела утопить жалкого, смешного писателя.
А писатель хочет войну утопить в своей чернильнице, самую войну. Вер спор — звук воль.
Кто победит?
(СП V: 266)
Война и жалкий, смешной писатель соревнуются за господство над вселенной, каждый пытается утопить другого в чернильнице, и Хлебников риторически вопрошает: Кто победит? Ответ — в прозаическом отрывке, предназначенном, по всей видимости, для «Досок судьбы»:
Однажды я задумчиво сидел с пером в руке.
Перо праздно висело в воздухе. Вдруг влетела война и, равная весёлой мухе, села в чернильницу. Умирая, она поползла по книге, и это следы её ног, когда она ползла слипшимся комком, вся покрытая чернилами.
Такова судьба войны. Война утонет в чернильнице писателя.103
Так война превращается в кляксу и, размазывая её по бумаге, пишет себе эпитафию. Продолжая осаду башни времени, Хлебников стремился не только заманить судьбу в мышеловку, но и довести свои военные действия против войны до победного конца.
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
ИС:
Велемир Хлебников. Избранные стихотворения / ред., биограф. очерк и примеч. Н. Степанова.
М.: Советский писатель. 1936.
СС: Собрание сочинений в 4-х томах / ред. В. Марков.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1968–1972.
 1
1 Григорьев (Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 92) тоже связывает эти ранние и поздние сочинения.
 2
2 Ед. хр. 73, л. 5.
 3 Осип Мандельштам
3 Осип Мандельштам. Собрание сочинений, т. 2. С. 390. Далее Мандельштам говорит (там же), что поэзия Хлебникова „идиотична — в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова”. «Слово о полку Игореве» считается одним из величайших произведений древнерусской литературы; датируется XII веком.
 4
4 См.
НП: 342. Пржевальский был известным исследователем и путешественником XIX века. Времена Куликовской битвы русская литература того времени вниманием не обошла. Цикл стихов Блока «На поле Куликовом», например, написан в 1908 году.
 5
5 Я включаю исправление из
НП: 15–16.
 6
6 Некоторые интересные комментарии о характере националистических и панславянских симпатий Хлебникова см.:
Ronald Vroon. Velimir Chlebnikov’s “Chadži-Tarchan” and the Lomonosovian Tradition // Russian Literature, 9 (1981). P. 107–131.
 7
7 Хлебников называет немецкий народ
немь; см.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 71.
Немь, конечно, соотносится и с немцами, и с немотой. Им Хлебников противопоставляет
славь, которое связано со славянским народом, славой и даже словом (см. Вроон, там же, p. 72).
 8
8 «Западный друг» (Славянин, 7 июля 1913 г.) показывает и растущий “азийский” уклон хлебниковского антизападничества, и расширение круга его националистических и панславистских идей:
На кольцо европейских союзов можно ответить кольцом азиатских союзов — дружбой мусульман, китайцев и русских.
 9
9 Копии двух стихотворений
Милицы до сих пор хранятся в архиве Хлебникова (ед. хр. 135). Сколь велико было его желание видеть их напечатанными, можно судить по письму к Матюшину (
СП V: 294–295).
 10
10 См.:
Александр Парнис. Южнославянская тема Велимира Хлебникова: новые материалы к творческой биографии поэта // Зарубежные славяне и русская культура / ред. М.П. Алексеев.
Л. 1978. С. 223.
 11 Николай Харджиев
11 Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // Russian Literature, №9 (1975). P. 12.
 12
12 Этот манифест, озаглавленный «!будетлянский» (прилагательное от хлебниковского неологизма
будетлянин), был, по словам Степанова (
СП V: 349), предназначен для футуристского сборника «Рыкающий Парнас», не опубликованного при жизни Хлебникова. . Хлебников отметил на рукописи:
Это я пишу не от себя, а для Лунева, он ответственен за высказываемое единство взглядов; известно и такое разъяснение:
Лунев или [все]
Кручёных (
СП V: 349). Парнис, возможно, на этом основании, усматривает в Луневе псевдоним, которым Хлебников пользовался „совместно с А. Кручёных” (Южнославянская тема, с. 228). Однако это был псевдоним, которым Хлебников пользовался для написанной лично статьи «Моя и дома» (
СП IV: 339). Хлебников также оставил на рукописи «!будетлянского» пометку:
без имени в Поладу Будетлянскую (
СП V: 349); таким образом, скорее всего это своего рода групповая декларация. В примечаниях (
СП V: 349) Степанов предполагает, что Хлебников „отличал “программные” статьи от своих личных поэтических принципов”.
 13
13 Это заявление содержится в письме, которое опубликовано как обращение к Николаю Бурлюку, но на самом деле было предназначено Маринетти.
 14
14 Весьма озадачивает то, что Хлебников во время Цусимского сражения (14–15 мая) испомещает себя в Ярославскую губернию, хотя в это самое время он с братом Александром находился в экспедиции на Урале. Запись в опубликованном отчёте о наблюдениях от 11 мая исключает посещение Ярославской губернии по пути на Урал, Имеются сведения, что Хлебников гостил там у товарища в начале 1904 г., после освобождения из казанской тюрьмы (
ИС: 10–11). Тем не менее, утверждение о пребывании
при известии о Цусиме в селе Бурмакине, Ярославской губернии находим и в «Свояси» (
СП II: 10).
 15
15 Хлебников интересовался и японской литературой. Эстетическая программа, изложенная им в письме к Кручёных, в качестве одного из пунктов включает
японское стихосложение (
СП V: 298). Мало кто сомневается, что некоторые короткие стихи Хлебникова обязаны японским литературным формам (см., например, СП II: 93–95, 97). См. также упоминание
японских стихов в письме к матери от 1917 г. (
СП V: 313) и сведения мемуариста (
Н. Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове (к 90-летию со дня рождения) // День поэзии: 1975.
М. 1975. С. 202) о юном Хлебникова, изучающем японский язык. Вроон (
Ronald Vroon. Four Analogues to Xlebnikov;’s “Language of the Gods” // The Structure of the Literary Process: Essays in Memory of Felix Vodićka / ed. M. Cervenka, P. Steiner and R. Vroon.
Amsterdam: John Benjamins. 1982. P. 588–589), рассматривает японский как один из аналогов хлебниковского
языка богов, отношение Хлебникова к Японии обсуждается в:
Salomon Mirsky. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikov.
München: Verlag Otto Sagner. 1975. P. 36–48.
 16
16 Не исключено, что
“смородина” — отсылка к фирменному названию женских духов.
 17
17 См. также:
Salomon Mirsky. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikov.
München: Verlag Otto Sagner. 1975. P. 40.
 18
18 Хлебников пишет:
Вот почему в «Илиаде» реки выходят на помощь из берегов и вмешаются в битву и идут в рядах враждебный войск ‹...›
Реки враждебны людям материка, а полуострова — людям моря (
СС III: 426).
 19
19 Памятником, давшим название поэме, является знаменитая скульптура царя Александра III работы князя Трубецкого. В стихотворении частично рассказывается о том, как этот памятник покидает свой пьедестал и появляется на месте боёв.
 20 Barbara Lönnqvist
20 Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 105–106.
 21
21 Восстановлено вымаранное Д. Бурлюком по цензурным соображениям
Христа, как это предлагается в
НП: 17.
 22
22 См.:
Baran H. Chlebnikov’s Poem “Bech” // Russian Literature, 6 (1974).
 23
23 Цитирую стихотворение оттуда же, p. 7.
 24
24 Там же, p. 18.
 25
25 Там же.
 26
26 Роман Якобсон датирует его не ранее 1911 года; см. его «Из мелких вещей Велимира Хлебникова: Ветер — пение» // Selected Writings III / ed. Stephen Rudy.
The Hague-Paris-New York: Mouton. 1981. P. 573. В сборнике Хлебникова «Стихотворения, поэмы, драмы, проза» (1986) оно датируется ориентировочно 1912–1913 гг. (с. 58). Стихотворение впервые опубликовано в сборнике «Четыре птицы», где несколько названий стихов Хлебникова, видимо, придуманны составителями: см. СП II: 318; и
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 297. Название «Кубок печенежский» взято из рукописи поэмы, обнаруженной Александром Парнисом; см.:
Н. Степанов. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.
М.: Советский писатель. 1975. С. 65. Очевидно, стихотворение посвящено битве XIII века на реке Калке, когда русские войска потерпели поражение от передовых частей Чингисхана. Битва на Калке, безусловно, занимает немаловажное место в творчестве Хлебникова (
СП II: 245, III: 78,
СС III: 419,
НП: 175).
 27
27 Сообщение о том, что печенеги изготовили из черепа Святослава чашу, находим в одной из ранних русских летописей. Этот обычай степняков отмечен и Геродотом, внимательным читателем которого был Хлебников; см., например:
Henryk Baran. Xlebnikov and the History of Herodotus // Slavic and East European Journal, vol. 22, 1 (1978). P. 30–34.
 28 Barbara Lönnqvist
28 Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 36.
 29
29 Маяковский,
ПСС 1: 319. В статьях Маяковского этого времени часто упоминается воинственность Хлебникова, говорится, например, о его „боевых кличах” (
ПСС 1: 322). Многие русские писатели патриотично отозвались на начало войны. Обсуждение некоторых откликов см.:
Орест Цехновицер. Литература и мировая война 1914–1918.
М. 1938.
 30 И. Поступальский
30 И. Поступальский. В. Хлебников и футуризм // Новый мир, 5 (1930). С. 192.
 31 Н. Степанов
31 Н. Степанов. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.
М.: Советский писатель. 1975. С. 161.
 32
32 Многие сражения русских с немцами в начале Первой мировой войны происходили среди Мазурских болот в Восточной Пруссии. Возможно, Хлебников повествует о них.
Озеро, вообще говоря, — ключевой элемент в его творчестве, а отсутствие конкретики в этом стихотворении придаёт изображаемому некую вневременнýю окраску. Следует отметить, что Хлебников также называл поле Куликовской битвы, где Россия сражалась с татарами,
полным синих озёр (
СП III: 77). На поле битвы в стихотворении «Тризна» —
озёр не менее
ста (
СП II: 229).
 33
33 О филине как птице, предвещающей недоброе, см. словарь Даля, где приводится поговорка: „Пугач (филин) не к добру кричит (хохочет)”.
 34
34 Подобно временным рамкам «Смерти в озере», в «Тризне» таковые кажутся размытыми. Хотя упоминаются
лётчики, русские названы на старинный лад
руссами. Более того, помимо общих со «Смертью в озере» ссылок на
озёра, в обоих стихотворениях упоминаются и реки. Стоит также отметить, что название «Тризна» содержит анаграмму имени
Разин.
 35
35 Это напоминает строки «Детей Выдры»:
До сей поры не знаем, кто мы: /
Святое я, рука иль вещь? (
СП II: 164). «Дети Выдры», как и «Были вещи слишком сини...», всё ещё грозятся русской местью:
Бойтеся русских преследовать, /
Мы снова подымем ножи. (
СП II: 161).
 36
36 «Монмут» и «Отранто» — британские корабли, участвовавшими в боевых действиях против немцев у берегов Чили 1 ноября 1914 года. «Монмут» был потоплен со всем экипажем.
 37
37 Ср. более раннее (до 1914 г.) изображение Хлебниковым “мира-юноши” в стихотворении «Юноша Я-Мир» (
СП IV: 35), который с гордостью называет себя
клеткой волоса или ума большого человека, которого имя Россия (предвосхищая более поздние образы человека-государства).
 38
38 Харджиев датирует стихотворение октябрем-ноябрем 1915 года, см.:
Н. Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове (к 90-летию со дня рождения) // День поэзии: 1975.
М. 1975. С. 209). Здесь он публикует другую, более пространную версию стихотворения.
 39
39 Волк занимает в творчестве Хлебникова место среди других чудовищ войны и судьбы. В варианте стихотворения, который Харджиев публикует в «Дне поэзии», волк — это просто
зверь.
Жнея (здесь же) — ещё одно хлебниковское олицетворение смерти.
 40
40 Говорится о росте и падении акций, вызванными войной (
Падают Брянские, растут у Манташова), с намёком на то, что
старцы обогащаются на смертях
русских юношей.
 41
41 «Девы и юноши, вспомните...» впервые напечатано в сборнике «Пета» (
М. 1916). Вариант опубликован (1923) в сборнике Хлебникова «Стихи» (стр. 41), где оно датировано 1915 годом.
 42 Vladimir Markov
42 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 299.
 43 Тетива
43 Тетива встречается у Хлебникова и в другом месте. Возможно, поэт имеет в виду
тетиву войны (как в СП IV: 73).
 44
44 См., например:
Орест Цехновицер. Литература и мировая война 1914–1918.
М. 1938. С. 300.
 45 Vladimir Markov
45 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 298.
 46
46 Джон Милнер (Vladimir Tatlin and the Russian Avant-Garde.
New Haven and London: Yale University Press. 1984. P. 124) сообщает, что Каменский намеревался сделать экспонатом живую мышь в мышеловке на выставке «1915 год», открывшейся в Москве в апреле 1915 года.
 47
47 Полное название этого произведения — «Разговор. Взирающий на государства В. Хлебников. Из книги удач. Лист I-й из 317». Он был опубликован в 1917 году во «Временнике 2». Ещё одно упоминание о
мышеловке войны и судьбы см. в: СП IV: 144–145.
 48
48 Как обычно, Хлебников и в этом кратком прозаическом произведении для обозначения футуриста последовательно употребляет слово
будетлянин.
 49
49 Переодевание — это образ возрождения наравне с огнём и водой, которые использовал Хлебников. Некоторые архетипические образы возрождения обсуждаются со ссылкой на Хлебникова и др. в:
А.М. Панченко, И.П. Смирнова. Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала XX в. // Древнерусская литература и русская культура XVIII–XX вв. Труды отдела древнерусской литературы, Институт русской литературы АН СССР XXVI.
Л. 1971. С. 33–49.
 50 Henryk Baran
50 Henryk Baran. The Problem of Composition in Velimir Chlebnikov’s Texts // Russian Literature, 9 (1981). P. 93. «Ветер — пение» — основной предмет анализа в:
Роман Якобсон. Из мелких вещей Велимира Хлебникова: Ветер — пение // Selected Writings III / ed. Stephen Rudy.
The Hague-Paris-New York: Mouton. 1981. P. 19.
 51 Николай Харджиев
51 Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // Russian Literature, №9 (1975). С. 19.
 52
52 «Октябрь на Неве» был опубликован в СП IV: 105–113, но более достоверный текст см.:
Александр Парнис. В. Хлебников — сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 110–111. Упоминание в этом тексте вонзания заострённого кола в единственный глаз чудовища войны и о прятании под овечьей шкурой — отголосок противостояния с Циклопом, описанного в «Одиссее» Гомера.
 53 Александр Парнис
53 Александр Парнис. В. Хлебников — сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 110.
 54
54 См.:
Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М. 1926.
 55
55 Поэт призывает
холопа богатых освоить вселенную:
Хватай на ус созвездье Водолея, /
Бей по плечу созвездье Псов! (
СП I: 184).
 56
56 Цит по:
А. Парнис. Велемир Хлебников // Простор (Алма-Ата), 7 (1966). С. 91.
 57 Александр Парнис
57 Александр Парнис. В. Хлебников — сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 106. О настроениях, разделяемых некоторыми работниками пропаганды в Иране, см.:
Костерин А. Русские дервиши. Москва, № 9 (1966). С. 218.
 58
58 “Антинэпманское” «Не шалить» (
СП III: 301) напечатано — очевидно, при содействии Маяковского, чьи «Прозаседавшиеся» находим в том же номере «Известий» (начало марта 1922). См.:
Н. Степанов. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.
М.: Советский писатель. 1975. С. 228.
 59 А. Парнис
59 А. Парнис. В. Хлебников в Бакросте // Литературный Азербайджан (Баку), № 7 (1976). С. 118.
 60
60 См., например:
Костерин А. Русские дервиши. Москва, № 9 (1966).
 61
61 Ед. хр. 64, л. 39. Подробнее об этом стихотворении см.:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “I esli v ‘Khar'kovskie ptitsy’... ”: Manuscript Sources and Subtexts // Russian Review, 42 (1983).
 62
62 См.:
Дмитрий Петровский. Воспоминания о Велемире Хлебникове.
М. 1926.
 63
63 Ед. хр. 64, л. 31 об. Стихотворение переработано Хлебниковым, рукопись содержит вставки и вычеркивания.
 64
64 Там же.
 65
65 О нежелании
Председателя Чеки играть роль палача и перекличке поэмы с хлебниковским «Отказом» см.:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “I esli v ‘Khar'kovskie ptitsy’... ”: Manuscript Sources and Subtexts // Russian Review, 42 (1983). P. 263–264.
 66
66 В «Ночном поиске» (
СП I: 252–273) красные матросы заперты в горящей квартире за
железной дверью, при этом
окна с решёткой (
СП I: 325).
Решётка — иносказание хлебниковских
законов судьбы (см., например,
СС III: 425). В поэме действуют и другие внешние силы: приговор матросам выносит фигура Бога/Христа; ей предпослан математический эпиграф, напрямую относящийся к хлебниковским
законам. Обсуждение эпиграфа см.:
R.D.B. Thomson Khlebnikov and 3
6 + 3
6 // Russian and Slavic Literature / ed. R. Freeborn, R.R. Milner-Gulland and C.A. Ward.
Slavica Publishers Inc. 1976. P. 297–312;
Raymond Cooke. Image and Symbol in Khlebnikov’s “Night Search” // Russian Literature Triquarterly, 12 (1975). P. 279–294.
 67 Корнелий Зелинский
67 Корнелий Зелинский. На великом рубеже // Знамя, 12 (1957). С. 147–148.
 68
68 Я заимствую термин из:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “Razin: Two Trinities”: A Reconstruction // Slavic Review, vol. 39, 1 (1980). P. 84. См. также в другом месте этой работы обоснованное обсуждение значимости фигуры Разина для Хлебникова.
 69
69 Я снова цитирую Вроона. См.:
Ronald Vroon. “Sea Shore” (“Morskoi bereg”) and the Razin Constellation // Russian Literature Triquarterly, 12 (1975). P. 295–326.
 70 В. Хлебников
70 В. Хлебников. Стихи.
М. 1923. С. 32.
 71
71 Подробности об этом и их отношение к собственной биографии Хлебникова см.:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “Razin: Two Trinities”: A Reconstruction // Slavic Review, vol. 39, 1 (1980).
 72
72 См.:
Александр Парнис. В. Хлебников в революционном Гиляне (новые материалы) // Народы Азии и Африки, 5 (1967). С. 163.
 73 Н. Степанов
73 Н. Степанов. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.
М.: Советский писатель. 1975. C. 165.
 74 В. Хлебников
74 В. Хлебников. Стихи.
М. 1923. С. 32.
 75
75 По сообщению Роналда Вроона, Хлебников влюбился в молодую девушку, которую он обучал во время своей короткой поездки в Иран, и стал считать ее своей собственной “персидской принцессой”. Это перевернутое отражение опыта Разина имеет, таким образом, соответствие в биографии Хлебникова. См.:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s “Razin: Two Trinities”: A Reconstruction // Slavic Review, vol. 39, 1 (1980). P. 77–84.
 76
76 Хлебников описывает свою
ошибку в предсказании сражений Первой мировой войны в письме к Матюшину (
НП: 375–377).
 77
77 Ед. хр. 72, л. 2.
 78
78 Ед. хр. 73, л. II; ед. хр. 77, л. 15;
СП III: 354;
СС III: 476; см. также:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 146.
 79 Сергей Спасский
79 Сергей Спасский. О Хлебникове // Литературный Ленинград, 14 ноября 1935 г.
 80
80 Куррат аль-Айн — персидская поэтесса, противница многожёнства. Принимала участие в движении баби (впоследствии бахаи), подавленного персидским шахом Насер ад-Дином. Казнена в 1852 году.
 81 Vladimir Markov
81 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 301. Критик заметил, что „поэт в Хлебникове поссорился с учёным” (
В. Перцов. Поэты и прозаики великих лет.
М. 1969. С. 210. См. также мнение Лённквист об „усталости Хлебникова от попыток упорядочить «Доски судьбы»” (
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 123).
 82
82 Некоторые из этих „оппозиций” обсуждаются в:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 142–154; а также в:
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979.
 83
83 Марков (
Vladimir Markov The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, vol. 62.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 25–26) утверждает, что три стороны творческой личности Хлебникова (отвечающие за художественную работу, экспериментальную работу и „многочисленные произведения своеобразного характера”, включая математические изыскания) следует „по возможности, рассматривать порознь”. Однако далее следует оговорка: „границы, разделяющие эти три стороны интеллектуальной деятельности Хлебникова, иногда размыты”. Ещё ниже проводится мысль о „неразрывном слиянии его поэзии с его проектами и исследованиями” (там же, p. 300).
 84
84 Н. Барютин (он же Амфиан Решетов), сотрудник журнала «Маковец», был допущен Хлебниковым в начале 1922 г. „на удачу” к своему мешку с рукописями (
НП: 416). Цитирую здесь его воспоминания о Хлебникове из: ЦГАЛИ, ф. 2283, опись 1, ед. хр. 6, л. 13 об.
 85
85 О поэзии и пророчествах см., например, эссе
George Thomson. Marxism and Poetry.
London: Lawrence & Wishart. 1975 (впервые напечатано в 1945), где он указывает (p. 28), что „в первобытном мышлении нет ясной грани между пророчеством и поэзией”.
 86 Tzvetan Todorov
86 Tzvetan Todorov. Number, Letter, Word // The Poetics of Prose / trans. Richard Howard.
Oxford: Basil Blackwell. 1977. P. 203.
 87
87 В XVI в. Искер был главным городом Сибири. Его отнял у татарского хана Кучума “покоритель Сибири” Ермак.
 88
88 Это представление о том, что будущее каким-то образом запечатлено в его поэтических произведениях, проявляется и в позднем, незавершенном стихотворении «Что делать вам...» (
СП V: 111–118), где различные свои работы поэт называет
вовремя данными мной указаниями (там же, с. 117). Степановское
СП не лишено недостатков. Пропущены некоторые высказывания, достаточно безобидные, которые на момент публикации могли счесть крамолой. Например, явно намекая на пророческий характер своей «Госпожи Ленин» (1913), Хлебников обмолвился:
Ленин в женском платье (ед. хр. 98, л. 36).
 89
89 Пока Хлебников-взломщик вскрывал коды сказок, Хлебников-шифровальщик был занят созданием собственных кодов.
Намёки — термин, который он применял к своей работе (
СП II: 11, V: 195). Его взгляд на сказку как на пророчество почти наверняка является ключом к «Иранской песне»:
Верю сказкам наперёд:
Прежде сказки — станут былью ‹...›
(СП III: 130) 90 Tzvetan Todorov
90 Tzvetan Todorov. Number, Letter, Word // The Poetics of Prose / trans. Richard Howard.
Oxford: Basil Blackwell. 1977. P. 193.
 91
91 Это обсуждается в:
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979. P. 122–124.
 92 Воля
92 Воля здесь — русское слово, обозначающее в т.ч. и свободу.
 93
93 Цит. по:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 129.
 94
94 Ед. хр. 73, л. 5.
 95
95 Ед. хр. 72, л. 3.
 96 Асеев Н
96 Асеев Н. В.В. Хлебников // Творчество (Владивосток), 2 (1920). С. 28;
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 302.
 97
97 Это ещё и видение единства учёного и толпы, которое перекликается с единством поэтического
Я и толпы в человеко-государстве «Я и Россия».
 98
98 Ед. хр. 75, л. 2.
 99
99 И, в меньшей степени, путешественник/мореплаватель.
 100
100 В
СП V: 315 дата и пункт отправки письма указаны неверно: Харьков, 2 января 1920 г. На самом деле (
СС III: p.x.), Баку, 2 января 1921 г. Подлинник письма действительно датирован 2 января 1920 г. (см. ед. хр. 141, л. 8): Хлебников по рассеянности допустил распространенную тогда — вследствие перехода на новый стиль летоисчисления — ошибку.
 101
101 Ед. хр. 73, л. 5.
 102
102 Обратите внимание на отрывок из «Царапины по небу»:
Через 317 (π + е) волны татар
Битва при Калке — гибель России.
Дети, так ясно, так просто!
Зачем же вам глупый учебник?
Скорей учитесь играть на ладах
Войны без дикого визга смерти —
Мы звуколюди!
(СП III: 78) 103
103 Ед. хр. 72, л. 11.
Воспроизведено по:
Raymond Cooke. Velimir Khlebnikov. A critical Study.
Cambrige University Press. 1987. P. 104–160; 213–221.
Перевод В. Молотилова
Продолжение 
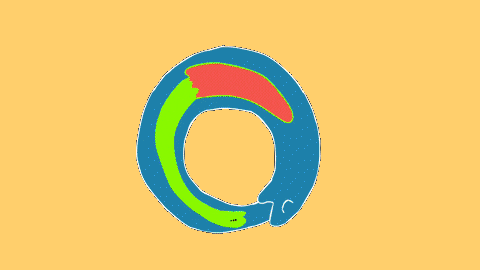
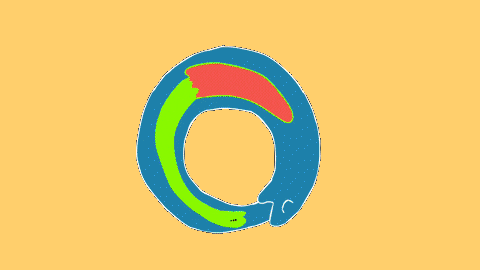




 щё в «Пусть на могильной плите прочтут...» (1904) Хлебников наметил открытия, которые прославят его имя, и заявил, среди прочего, что связать время и пространство (НП: 318) удастся именно ему. Незадолго до смерти он счёл это предсказание сбывшимся. В «Досках судьбы» читаем: найдена опытом количественная связь начал времени и пространства. Первый мост между ними (СС III: 477).1
щё в «Пусть на могильной плите прочтут...» (1904) Хлебников наметил открытия, которые прославят его имя, и заявил, среди прочего, что связать время и пространство (НП: 318) удастся именно ему. Незадолго до смерти он счёл это предсказание сбывшимся. В «Досках судьбы» читаем: найдена опытом количественная связь начал времени и пространства. Первый мост между ними (СС III: 477).1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()