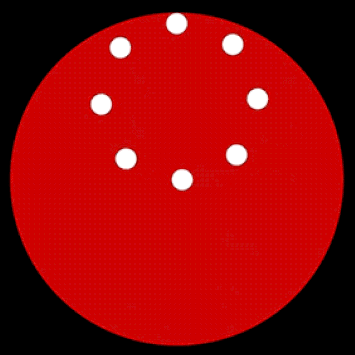Рэймонд Кук
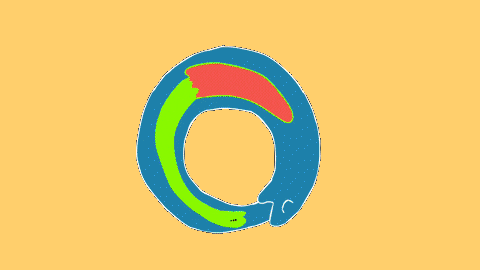
Велимир Хлебников. Переосмысление
Продолжение. Предыдущие главы: 


Башня слова
I
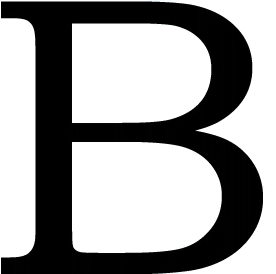
ероятно, большинство знатоков теоретического наследия Хлебникова согласится:
осада башни слова — его главная битва. Поэт избегал
бесплодных отвлечённых прений об искусстве (
НП: 367), но споров о слове и языке это не касалось: налицо развёрнутое изложение взглядов. Хлебниковская
осада башни слова имела решающее значение для русского футуристического движения.
Хлебников был в авангарде экспериментальной работы над языком и, как отметил Виллем Вестстейн, „за несколько лет до публикации первого манифеста футуристов ‹...› уже сформулировал некоторые принципы футуристического обновления языка”.1 Задолго до того, как русский футуризм выступил с программой словотворчества, Хлебников придумал десятки, если не сотни, новых слов. Если манифест «Пощёчины общественному вкусу» явил „ненависть” к существующему литературному языку, то Хлебников уже трудился над его преобразованием. Хотя он призывал к осаде языков (СП V: 259) и готовился разрушать языки осадой их тайны (СП V: 157), его подход был исключительно созидательным.2
Задолго до того, как русский футуризм выступил с программой словотворчества, Хлебников придумал десятки, если не сотни, новых слов. Если манифест «Пощёчины общественному вкусу» явил „ненависть” к существующему литературному языку, то Хлебников уже трудился над его преобразованием. Хотя он призывал к осаде языков (СП V: 259) и готовился разрушать языки осадой их тайны (СП V: 157), его подход был исключительно созидательным.2
Подобно своим коллегам-кубофутуристам, Хлебников считал, что слово в русской словесности не стоит на должной высоте, и стремился поправить дело. По выражению Кручёных, до сих пор были лишь жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию и психологию в стихах для всякого домашнего и семейного употребления, но не было „искусства слова”.3 „Произведение искусства — искусство слова”, провозглашалось в их совместной с Хлебниковым декларации (СП V: 247).
„Произведение искусства — искусство слова”, провозглашалось в их совместной с Хлебниковым декларации (СП V: 247).
В связи с этим бытует мнение, что Хлебникова следует считать главным зиждителем краеугольного камня русской кубофутуристской эстетики — самовитого слова. С таковым обычно связывают представление о слове как первичном факте и герое поэзии с упором не на значение, а на форму, фактуру и звук. То, что с такой меркой подходят к творчеству Хлебникова, не удивительно. Он когда-то писал, например, что слово остаётся не для житейского употребления, а для слова (СП V: 157) и приветствовал самовитое слово вне быта и жизненных польз (СП II: 9). Однако, несмотря на вложенный в эти высказывания (особенно вырванные из контекста) смысл, представление Хлебникова о самовитом слове в действительности было несколько иным.4
В статье «Наша основа» (Харьков, 1920), например, он заявляет:
Слово делится на чистое слово и повседневное слово. Можно думать, что в нём скрыт ночной звёздный разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днём исчезают все светила звёздной ночи. ‹...› Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звёздные сумерки.
(СП V: 229)
Следовательно, в представлении Хлебникова слово и девственно чисто, и затаскано повседневным употреблением одновременно. За его бытовым значением скрывается множество смыслов, которые можно уподобить звёздам на небе, которые невидимы в светлое время суток, но, тем не менее, существуют и днём. Именно это представление о незримых, но фундаментальных смыслах, скрытых за иллюзорным бытовым значением, вкладывает поэт в понятие самовитое слово. Для вящей убедительности он привлекает астрономию: землянам кажется, что солнце вращается вокруг их планеты, тогда как на самом деле всё обстоит наоборот. Хлебников отождествляет видимость вращения солнца кругом земли с повседневным, а физическую реальность вращения земли вокруг солнца — с самовитым словом. Он противопоставляет самоочевидной лжи бытовой обстановки звёздные сумерки самовитого слова.
Оказывается, самовитым для Хлебникова было не столько лишённое повседневного значения, сколько выходящее за пределы рутины, раскрывающее все остальные его значения слово; оно лишь кажется оторванным от быта, раскрывая при вдумчивом подходе явления жизни с гораздо большей полнотой. Связь с представлением о потаенной природе слова (через слюду обыденного смысла просвечивает их второй смысл5 ) налицо.
) налицо.
Об этом поэт выразился с немалой иронией: Те, кто принимают слова в том виде, в каком они поданы нам разговором, походят на людей, верящих, что рябчики живут в лесу голые, покрытые маслом и сметаной.6 Подразумевается, что “пра-слова” жили осмысленной, самовитой жизнью задолго до того, как были поданы с подливой из повседневного смысла на тарелке разговора. Бессмыслица всегда претила Хлебникову, он был в сильнейшей степени озабочен именно значениями слов; поиски этих значений и легли в основу его лингвистических экспериментов.
Подразумевается, что “пра-слова” жили осмысленной, самовитой жизнью задолго до того, как были поданы с подливой из повседневного смысла на тарелке разговора. Бессмыслица всегда претила Хлебникову, он был в сильнейшей степени озабочен именно значениями слов; поиски этих значений и легли в основу его лингвистических экспериментов.
II
В 1919 году в предисловии к собранию сочинений, которое не состоялось, Хлебников так определил своё первое отношение к слову:
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова ‹...›. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз.
(СП II: 9)
Отложив на будущее хлебниковский способ свободно плавить славянские слова, обратимся к более глубокому уровню самовитости слова — кругу корней. Корни слов являются ключевыми носителями смысла, фундаментальными блоками в семантической системе языка. Внутри круга их и лежал, по Хлебникову, “философский камень” языка, посредством которого обыденность перестаёт быть непроницаемой пеленой. В «Кургане Святогора» Хлебников писал, что хотя слова — дело рук человеческих, их корни — божьи (НП: 323); именно корень слова, это “божественное” орудие словообразования, Хлебников использует с первых шагов на поприще словотворчества.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяно!
О рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!
Смейво, смейво,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
(СП II: 35)
Заклятие смехом — не только доказательство
самовитости слова, но и наглядный пример богатства значений, таимых отдельно взятым корнем русского языка: вся совокупность неологизмов (глаголы, существительные, прилагательные, наречия) — “поросль” единого корня
смех-. Возможности русского словообразования здесь использованы едва ли не полностью, при этом каждое новое слово высвечено
лучами разума на особый лад. Владимир Марков, который считал, что „приемлемый результат может быть достигнут только на английском языке”,
7
отнюдь не единственный переводчик «Заклятия». В опусах его коллег появились неологизмы, в обратном переводе звучащие как ‘смехники’, ‘смехотоны’, ‘смеходары’ и т.п.
8
Хлебников, особенно в ранний период, создал сотни словоновшеств, образованных от издревле известных корней. В сборнике «Дохлая луна» (1913), например, четыре страницы заняты словами, которые он “взрастил” из корня люб- (СП IV: 317–318). В менее насыщенном виде такого рода неологизмы найдём во многих его произведениях (например, небич | небиня | небистель от корня неб-; людняк | людошь | людел от корня люд-).9
Ясно, что создание неологизмов на основе корней немыслимо без важных кирпичиков словообразования — приставок и суффиксов, которых в русском языке предостаточно. В «Заклятии смехом» налицо именные (смехачи | смеюнчики), глагольные (иссмейся | усмей | смеянствуют), прилагательные (надсмейных), наречия (смейво). Сочетание корня и аффикса Хлебникову особенно удавалось, и стало образцом для построения множества неологизмов, расширяющих границы значений повседневного слова.
Зачастую Хлебников законы словообразования нарушал, соединяя, например, глагольные основы с суффиксами, требующими субстантивной основы (в этот разряд попадает будетлянин).10 Поэт не был склонен и к “псевдоразделительным” процедурам, используя в своих сочинениях “суффиксы”, которые в повседневном слове таковыми не являются: например, -бро (от ‘серебро’) и создавал “фальшь-слова” по аналогии (лобзебро | волебро).11
Поэт не был склонен и к “псевдоразделительным” процедурам, используя в своих сочинениях “суффиксы”, которые в повседневном слове таковыми не являются: например, -бро (от ‘серебро’) и создавал “фальшь-слова” по аналогии (лобзебро | волебро).11
Правоверные литературные критики рассматривали эту неологическую деятельность как несуразицу или даже признак безумия,12 чему, разумеется, горячо возражали кубофутуристы. Своё первое знакомство с рукописями Хлебникова Бенедикт Лившиц описал так:
чему, разумеется, горячо возражали кубофутуристы. Своё первое знакомство с рукописями Хлебникова Бенедикт Лившиц описал так:
Я вскоре почувствовал, что отделяюсь от моей планеты и уже наблюдаю её со стороны.
То, что я испытал в первую минуту, совсем не походило на состояние человека, подымающегося на самолёте, в момент отрыва от земли.
Никакого окрыления.
Никакой свободы.
Напротив, всё моё существо было сковано апокалиптическим ужасом. ‹...›
Ибо я увидел воочию оживший язык.
Дыхание довременнóго слова пахнуло мне в лицо..
13
Изобретая слова, Хлебников равнялся на язык русского простонародья. Для него это была воля народная, которая давала права словотворчества (НП: 323). Но, как мы видели, его первое отношение к слову вышло за пределы русского языка и охватило все славянские слова, вплоть до превращения их одно в другое.
Тяга Хлебникова к языкам славян хорошо документирована. Одной из художественных задач, которую он ставил перед собой, было, напомним, заглядывать в словари славян, черногорцев и др. ‹...› и выбирать многие прекрасные слова (СП V: 298). И Хлебников практиковал то, что проповедовал. В очерке о черногорской жизни «Закалённое сердце» использованы черногорские слова и поговорки,14 а Кручёных он советовал запастись словарём чешском, польском, сербским и ещё одним каким-нибудь (СП V: 302).
а Кручёных он советовал запастись словарём чешском, польском, сербским и ещё одним каким-нибудь (СП V: 302).
Заимствование из славянских языков было частью общей склонности поэта к редким, не стёртым от употребления словам. Хлебников с улыбкой вспоминал, что полабское поименование луны (леуна) в его тексте поэт Брюсов принял за неологизм (СП II: 7).15 Такая оплошность неудивительна. Точно так же могут быть восприняты многие хлебниковские заимствования из других языков или диалектов. Словарный запас Хлебникова не ограничивался географией; он свободно ориентировался во времени и пространстве, и некоторые слова, которые на первый взгляд кажутся словоновшествами, в действительности оказываются архаизмами. Более того, Хлебников часто внедрял в придуманные им слова архаические форманты, создавая этим впечатление древнерусского или даже праславянского языка.
Такая оплошность неудивительна. Точно так же могут быть восприняты многие хлебниковские заимствования из других языков или диалектов. Словарный запас Хлебникова не ограничивался географией; он свободно ориентировался во времени и пространстве, и некоторые слова, которые на первый взгляд кажутся словоновшествами, в действительности оказываются архаизмами. Более того, Хлебников часто внедрял в придуманные им слова архаические форманты, создавая этим впечатление древнерусского или даже праславянского языка.
Его стремление расширить границы русской словесности так, чтобы она охватила весь славянский мир, вызвано чётким сознанием их единства. Любопытно, что именно это побудило его записать Вячеслава Иванова в единомышленники, а затем искать личного знакомства. В письме, которое он отправил Иванову в марте 1908 г. с просьбой дать оценку некоторым его стихам, читаем:
‹...› я помнил о “всеславянском языке”, побеги которого должны прорасти толщи современного, русского. Вот почему именно ваше мнение об этих стихах мне дорого и важно, и именно к вам я решаюсь обратиться.
(НП: 354)
В статье, обнародованной несколько месяцев спустя, Хлебников призывает
думать о дебле, по которому вихорь-мнимец емлет разнотствующие по красоте листья — славянские языки и о сплющенном в одно, едином, общем круге-вихре — общеславянском слове.
(НП: 323)
И, поскольку круг корней — основа самовитого слова — един для всех славянских языков, поэт стремился найти средство, с помощью которого славянские слова можно свободно плавить.
Однако это, как признаётся он сам, было только первым шагом:
Увидя, что корни лишь призрак, что за ними стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, — моё второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку.
(СП II: 9)
Возможно, поначалу Хлебников мыслил только в рамках всеславянского языка, но впоследствии круг задач существенно расширился: он уверовал в возможность создания всемирного языка. Иначе говоря, сквозь призраки корней слов он различил единицы азбуки — отдельные буквы. В лингвистических терминах — стал рассматривать фонему как семантически значимую, самостоятельную морфему.
Вызревание этих умопостроений происходило постепенно, хотя признаки того, что Хлебникову стал внятен семантический потенциал единиц азбуки, очевидны уже в диалоге «Учитель и ученик» (1912). Именно здесь он сформулировал свою теорию внутреннего склонения:
‹...› если родительный падеж отвечает на вопрос откуда, а винительный и дательный на вопрос куда и куда, то склонение по этим падежам основы должно придавать возникшим словам обратные по смыслу значения. Таким образом, слова-родичи должны иметь далёкие значения. Это оправдывается. Например, бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного хищника и образованные винительным и родительным падежами общей основы “бо”, самим строением своим описывают, что бобра следует преследовать, охотиться за ним как за добычей, а бабра следует бояться, так как здесь сам человек может стать предметом охоты со стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением своего падежа изменяет смысл словесного построения.
(СП V: 171)
В «Учителе и ученике» Хлебников приводит и другие примеры, такие как
бог — существо, к которому должна быть обращена боязнь и вызывающий страхом
бег.
16 Ученик
Ученик утверждает, что перемена отдельных гласных в словах
выворачивает их смысл.
Как отметил Роналд Вроон, Хлебников при этом не верил, что слово и объект, который оно обозначает, тождественны.17 В «Нашей основе» читаем:
В «Нашей основе» читаем:
Заменённое словесной игрушкой, величественное, спокойно сияющее светило, охотно соглашается на дательный и родительный падежи, применённые к его наместнику в языке. Но это равенство условно: если настоящее исчезнет, а останется только слово солнце, то ведь оно не сможет сиять на небе и согревать землю, земля замёрзнет, обратится в снежок в кулаке мирового пространства. Также, играя в куклы, ребёнок может искренне заливаться слезами, когда его комок тряпок умирает, смертельно болен; устраивать свадьбу двух собраний тряпок, совершенно неотличимых друг от друга, в лучшем случае с плоскими тупыми концами головы. Во время игры эти тряпочки — живые, настоящие люди, с сердцем и страстями. Отсюда понимание языка, как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира.
(СП V: 234)
И далее:
Люди, говорящие на одном языке, — участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы — просто собрание звуковых тряпочек.
(СП V: 234)
Не верил Хлебников и в произвольность лингвистического знака. Порукой тому — его взгляд на
внутреннее склонение слов. В противовес одному из основных положений соссюровской лингвистики, Хлебников усматривал неотъемлемую связь между звучанием слова и его значением, между означающим и означаемым.
18
Хлебникову ещё только предстояло развить эти идеи, но диалог «Учитель и ученик» уже даёт некоторое представление о том, в каком направлении пойдёт поиск. Кроме обзора проявлений внутреннего склонения слов,19 ученик предполагает:
ученик предполагает:
Может быть, в древнем разуме силы просто звенели языком согласных. Только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы.
(СП V: 172)
Этот отрывок содержит два основополагающих понятия:
язык согласных, который позже разовьётся в хлебниковский
звёздный язык,
20
и “врождённую”
мудрость языка.
Язык согласных вскоре по важности намного превзошёл теорию внутреннего склонения гласных, хотя, по-видимому, возник из того же посыла. Статья, написанная предположительно в начале 1912 г. (НП: 459) выказывает значительный интерес поэта к роли согласных, в особенности начального. Отмечая, например, внутреннее склонение слов ‘лес’ и ‘лысый’, Хлебников как бы делает заметку на будущее: Л, в смысле устремления кверху, начинает оба слова (НП: 327–328).
Наряду с разнородными, но связанными своим звучанием словами, которые “внутренне склоняются”, Хлебников приступает к подбору слов, начинающихся с одной и той же согласной, выявляя их сходную семантику. Например, объединяет ‘лес’, ‘лук’ и ‘луч’.
Приравнивая ‘лить’ к ‘лугу’ и ‘луже’, поэт обосновывает свой вывод ролью начального согласного Л: движением своеначального в разрез с окружающим (НП: 326); означает те движения, в которых причина движения есть движущаяся точка (НП: 459). Даёт определение он и для Д (НП: 459) и Т (НП: 325). К 1912 г. Хлебников уверенно встал на путь семантизации начальной буквы слова.21
В течение последующих лет он окончательно уверовал в особую природу (СП V: 188) начальных букв и дал им развёрнутое определение. В одном из таких перечней сообщается, например, что М заключает в себе распадение целого на части, а С — собирание частей в целое (СП V: 189). Списки слов, которые, как он полагал, имели схожие основные значения вследствие одинаковой начальной буквы, известны во множестве. Хлебников объединял по смыслу ласты тюленя, ладью, лыжи, лист, ладонь — и это лишь малая часть того, что начинается с Л, где сила тяжести, шедшая по некоторой оси, расходится по плоскости, поперечной этой оси (СП V: 198).
По его мнению, налицо двадцать видов построек человека, начинающихся на Х: храм, хлев, хоромы и т.д. Причина в том, что здания служат защитой, поэтому х можно определить как плоскость преграды между одной точкой, в кругу этой защиты, и другой, движущейся к ней (СП V: 200). Начальная буква Ч — Оболочка. Поверхность, пустая внутри, налитая или обнимающая другой объём. Череп, чаша, чара, чулок, чрен, чоботы, черевики, черепаха, чехол, чахотка (СП V: 207).
Его занимал и “национальный” смысл той или иной буквы или звука. Он отмечал значение Р для России (Русь, рюриковичи — СП V: 192), Г и Ш для Германии (Германия, Гогенцоллерны, Габсбурги, Гёте, Гейне, Гейзе, Гегель, Шиллер, Шлегель, Шопенгауэр, Шеллинг — СП V: 188, 192). Поскольку Хлебников не принял во внимание причуды транслитерации (Heine и Hegel), он поневоле оказался прав: сравнительное языкознание придёт в ярость (СП V: 189). Обозревая семантические возможности начальных гласных (исключительно редкое для него занятие), Хлебников отметил, что буква А ассоциируется с материками (вполне соответствует английскому языку): Азия, Африка, Америка, Австралия: может быть, помимо современности, в этих словах воскресает слог А праязыка, означавший сушу (СП V: 192). Мысль Хлебникова можно изложить следующим образом: по мере того как фонема становится морфемой, она приобретает семантическую идентичность корневого слова.
Представление о том, что семантические качества отдельной буквы каким-то образом связаны с единым праязыком человечества, подводит нас к другой важной стороне лингвистических воззрений Хлебникова: помимо веры в осуществимость всемирного языка посредством открытых им единиц азбуки, он полагал, что всеобщий язык некогда действительно существовал. Нынешнее вавилонское столпотворение языков он считал изменой славному прошлому. Языки, некогда делавшие будущее прозрачным и спокойным ‹...› дикарь понимал дикаря и откладывал в сторону слепое оружие, ныне служат делу вражды (СП V: 216). Хлебников надеялся на восстановление этой социальной и языковой гармонии. В записной книжке незадолго до смерти сделана запись:
Мы спрашиваем: что лучше — всемирный язык или всемирная бойня?22
Умозрительные возможности языка были воистину двигателем его лингвистических теорий. В поэме-прозрении «Ладомир» читаем:
Лети, создатели человеческие,
Всё дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертный разговор.
(СП I: 186)
Для раскрытия свого представления о смысловом значении начальной буквы слов Хлебников использовал различные маркеры. Помимо
струн или
единиц азбуки, видим
простые имена языка |
азбуку ума |
азбуку понятий.
23
Далее возникает термин
звёздный язык (
СП III: 75), придавший воображаемому
всемирному языку определённое эстетическое качество. Пристрастие Хлебникова к образу звезды нами уже отмечено, и последний пример ещё раз в этом убеждает. Может статься,
звёздный язык отчасти происходит от пояснения, которое Хлебников дал одному из своих кластеров начальных букв. Приведя список (якобы) семантически связанных слов, начинающихся на
Л, он пишет:
все эти слова, звёзды Л-неба, летят в одну точку (
СП V: 199). А ведь
звезда хлебниковского
звёздного языка вполне конкретна: это язык,
общий всей звезде, населённой людьми (
СП III: 376), т.е. язык, внятный землянам.
Кроме того, звёздный язык имеет ещё одно важное свойство. Объясняя природу самовитого слова, Хлебников, напомним, писал:
Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звёздные сумерки.
(СП V: 229)
Следовательно, звёздный язык — неотъемлемая часть хлебниковского самовитого слова, только вот сопутствующий ему ночной звёздный разум действует на более глубоком, нежели бытовое значение слова, уровне.
К 1919 г. Хлебников разработал “прописи смыслов” для всех согласных русского алфавита, за исключением Ф (СП V: 217–218). Роналд Вроон предполагает, что поэт — по-видимому, инстинктивно — знал, что этой фонемы в общеславянском языке не существует.24 Известно, что русский словарь на Ф состоит из множества западных заимствований.25
Известно, что русский словарь на Ф состоит из множества западных заимствований.25 Возможно, именно это вынудило Хлебникова оставить эту букву без внимания.
Возможно, именно это вынудило Хлебникова оставить эту букву без внимания.
В статье «Наша основа», содержащей окончательное изложение азбуки ума, Хлебников следующим образом раскрывает посылки, легшие в её основу:
1. Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным.
2. Слова, начатые одной и той же одной согласной, объединяются одним и тем же понятием ‹...›
(СП V: 235–236)
Часто отмечалось, что, хотя Хлебников приводит весьма остроумные доводы в пользу первооснов звёздного языка, нетрудно найти примеры, которые им отнюдь не соответствуют. Здесь следует отметить две важные вещи. Во-первых, несмотря на планетарный размах, хлебниковский звёздный язык — важная семантическая компонента его собственных произведений, причём как автономная система. Во-вторых, фундаментальное положение, лежащее в основе его семантики начального согласного, отнюдь не безразлично современной лингвистике. Тесты с достаточной частотой и последовательностью показывают, что люди действительно связывают некоторые звуки с определёнными понятиями.26 Хлебников был поэтом, а не специалистом в области языкознания, но его понимание языка вполне может оказаться полезным для науки.
Хлебников был поэтом, а не специалистом в области языкознания, но его понимание языка вполне может оказаться полезным для науки.
Если Хлебников полагал, что звёздный язык способен раскрыть глубокий смысл слова (СП V: 199), то именно вследствие убеждения, известному нам по диалогу «Учитель и ученик» (1912) о природной мудрости языка. По его мнению, язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его; более того, мудрость языка шла впереди мудрости наук (СП V: 231). В другом месте читаем: язык — вечный источник знания (СП IV: 49).
Поскольку громадные деревья вырастают из крошечных семян (весь лес в будущем поместится у вас на ладони), для нового сеятеля языков, по Хлебникову, всё разнообразие слов исходит от основных звуков азбуки (СП V: 228). Хлебников утверждает, что из этих базовых единиц можно составить нечто вроде периодической таблицы Менделеева, а затем преподать её путейцам языка:
Как часто дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума временем, отданным на раздумье. Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка современного книжного языка свободна от таких путешествий? Это потому, что нет науки словотворчества.
(СП V: 228)
Именно такую науку Хлебников видел в своём звёздном языке с его основными единицами “азбучных истин”. И это, по его мнению, отнюдь не произвольная система — она искони присуща языку. Только с её помощью потаенные творческие возможности языка можно поставить на службу человеку.
Уверенность во врожденной мудрости языка очевидна и в представлении о том, что рассудочный свод языка древнее словесного и не изменяется, когда изменяется язык, повторяясь в позднейших оборотах (СП V: 192). Для Хлебникова эта рассудочная жизнь была связана с немым языком понятий из единиц ума и представляла аналог языка говоров (СП V: 188). Эта двойственность занимает своё место рядом (и может быть отождествлена) с другими подобными ей в хлебниковском подходе к языку (звук и значение, звёздный и повседневный языки). Однако взгляд Хлебникова на слово двойственностью не ограничивается.
В одной из статей, где он излагает ещё только наброски прописных истин звёздного языка, читаем: слово имеет тройственную природу: слуха, ума и пути для рока (СП V: 188)27 ‹...› помимо звуко-листьев и корне-мысла в словах (через передний звук) проходит нить судьбы (СП V: 189). Знания, которые таятся в этих основных единицах “азбучных истин”, весьма обширны. Начальная согласная служит носителем судьбы (СП V: 188), проволокой, руслом токов судьбы, по которой можно услышать будущее в неясных говорах (СП V: 192). Судьба человечества, по мнению Хлебникова, не столько предначертана звёздами, сколько написана его звёздным языком.
‹...› помимо звуко-листьев и корне-мысла в словах (через передний звук) проходит нить судьбы (СП V: 189). Знания, которые таятся в этих основных единицах “азбучных истин”, весьма обширны. Начальная согласная служит носителем судьбы (СП V: 188), проволокой, руслом токов судьбы, по которой можно услышать будущее в неясных говорах (СП V: 192). Судьба человечества, по мнению Хлебникова, не столько предначертана звёздами, сколько написана его звёздным языком.
Итак, Хлебников видел в слове источник некой силы. Если начальная согласная управляет словом, то, перейдя на более высокий уровень обобщения, следует признать:
‹...› слово управляет мозгом, мозг — руками, руки — царствами. Мост к самовитому царству — самовитая речь.
(СП V: 188)
III
Есть, пожалуй, направление мысли, которое выделяется среди прочих в хлебниковском воззрении на язык: возможность придания ему статуса общечеловеческого. Ибо, сколь бы искусственным ни казался международный дискурс проекта Хлебникова, он был не навязан извне, а самым естественным образом возник изнутри. Второе отношение к слову Хлебникова — открытие, а не изобретение всемирного языка.
Одной из основных целей истолкования начальных согласных было составление словаря, который мог бы служить основой общения народов. По мнению Хлебникова, его звёздный язык применим отнюдь не только к русскому языку:
Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решён вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться че ноги, все виды чашек — че воды — ясно и просто. Во всяком случае, хата означает шалаш не только по-русски, но и по-египетски; в в индоевропейских языках означает вращение.
(СП V: 236)
Одна из наиболее примечательных сторон хлебниковских определений отдельных букв звёздного языка — геометрический или пространственный подход. Это видно из некоторых приведённых выше цитат. Для большей наглядности приведём несколько словарных статей из этой азбуки, общей для многих народов, которую он назвал образчиком мирового словаря, самого краткого из существующих (СП V: 219):
‹...› З означает отражение движущейся точки от черты зеркала под углом, равным углу падения. Удар луча о твердую плоскость.
(СП V: 217)
‹...› К означает отсутствие движения, покой сети n точек, сохранение ими взаимного положения; конец движения.
(СП V:218)
‹...› Б означает встречу двух точек, движущихся по прямой с разных сторон. Борьба их, поворот одной точки от удара другой.
(СП V: 218)
Эти определения из статьи 1919 года «Художники мира!» показывают неизменный интерес Хлебникова к геометрии, давая некоторое представление о том, почему он считал себя наследником Евклида и Лобачевского.
28
Видим и кое-что из того, как Хлебников воспринимал не только язык, но и мир; формулы не абстрактны, а конкретны и наглядны.
29
Иной раз Хлебников излагает свой звёздный язык в терминах звуковых “образов” (СП V: 220) или песен (СП III: 332), но, поскольку наглядными пособиями он избрал графические „пространственные конфигурации”,30 во главу угла ставился букварь общего письменного языка, общего для всех народов (СП V: 216). Потребностью дать письменные знаки для всемирного языка и вызвано его обращение 1919 года к художникам краски: он ставил задачу дать основным единицам разума начертательные знаки (СП V: 217).31
во главу угла ставился букварь общего письменного языка, общего для всех народов (СП V: 216). Потребностью дать письменные знаки для всемирного языка и вызвано его обращение 1919 года к художникам краски: он ставил задачу дать основным единицам разума начертательные знаки (СП V: 217).31
Хлебников полагал, что письменность таит гораздо больше возможностей, чем вавилонское столпотворение разговорных языков:
Пусть один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человека и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые начертательные знаки помирят многоголосицу языков.
(СП V: 216–217)
В своей статье Хлебников делает несколько предложений относительно того, какую форму должны принять знаки всемирного языка. Например, В, определяемое как вращение одной точки кругом другой, следует изобразить в виде круга и точки в нём; З, определяемое через отражение движущейся точки, — вроде упавшего К: зеркало и луч; Ч, определяемое как сосуд или оболочка, — в виде чаши (СП V: 219). В машинописный текст статьи эти и подобные изображения вставлены от руки.32 Таким образом, Хлебников признавал связь не только между звуком и смыслом, но и между визуальным символом и его значением. Причём, по мнению Хлебникова, эта связь не была искусственной, а коренилась в первобытных истоках языка:
Таким образом, Хлебников признавал связь не только между звуком и смыслом, но и между визуальным символом и его значением. Причём, по мнению Хлебникова, эта связь не была искусственной, а коренилась в первобытных истоках языка:
‹...› вначале знак понятия был простым чертежом этого понятия. И уж из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни.
(СП V: 219)
Он ссылается на идеограммы китайцев и на иероглифы Древнего Египта:
китайцы и японцы говорят на сотне разных языков, но пишут и читают на одном письменном языке (
СП V: 216).
33
Сосредоточенность на письменной графике сблизила математические изыскания Хлебникова с переосмыслением изобразительного искусства. На каком-то уровне он стал говорить о всемирном языке не только в терминах геометрии, но и алгебраического языка.34 С другой стороны, идею знаков как графического письма он считал продолжением искусства живописи, которая всегда говорила языком, доступным для всех (СП V: 216).
С другой стороны, идею знаков как графического письма он считал продолжением искусства живописи, которая всегда говорила языком, доступным для всех (СП V: 216).
Любопытно, что в статье «Художники мира!» Хлебников приводит практический пример “перевода” на всемирный язык:
Вместо того, чтобы говорить:
„Соединившись вместе, орды гуннов и готов, собравшись вокруг Атиллы, полные боевого воодушевления, двинулись далее вместе, но, встреченные и отражённые Аэцием, защитником Рима, рассеялись на множество шаек и остановились и успокоились на своей земле, разлившись в степях, заполняя их пустоту”, — не следовало ли сказать:
„Ша + со (гуннов и готов), вэ Атиллы, ча по, со до, но бо + зо Аэция, хо Рима, со мо вэ + ка со, ло ша степей + ча”.
35 (СП V: 220)
(СП V: 220)
Как отметил В.П. Григорьев, “перевод” (любой из двух, предлагаемых поэтом) вызывает много вопросов.
36
Семантика использованных
единиц азбуки расплывчата, судьба частей речи (глаголов, существительных и т.д.), а также категорий времени и числа неясна. Не обошлось и без
повседневного языка. Не поддался, надо полагать, переводу союз
но, вопреки его сходству с наличным
но. Под вопросом употребление гласных, и это несмотря на оговорку: таковые
здесь случайны и служат благозвучию (
СП V: 220). Подобные попытки создания международного языка иначе как примитивными не назовёшь, что Хлебников и признаёт без колебаний:
первый крик младенца (
СП V: 221).
Примечательно, что попытки такого рода Хлебников предпринимает с оглядкой на понятия заумного языка: уже в истолковании второго отношения к слову главнейшими объявлены поиски пути к мировому заумному языку (СП II: 9). То же и в обращении к художникам мира, где, несмотря на примитивность “перевода”, он заявляет: общий образ мирового грядущего языка дан. Это будет язык “заумный” (СП V: 221).
Однако в некотором смысле заумным был не столько итог — всемирный язык, — сколько пригодность языка к изменению в нужном поэту направлении. Хлебников как-то назвал семантизацию начального согласного путём сделать заумный язык разумным (СП V: 235) — мнение, которое отражено в воззвании «Художники мира!», где он говорит о задаче обратить заумный язык из дикого состояния в домашнее, заставить его носить полезные тяжести (СП V: 220).
Заумный язык означал разные вещи для разных людей в разное время. Напомним, что в манифесте «Слово как таковое» (за авторством и Хлебникова, и Кручёных) заумный язык связан с пересборкой слов. В другой статье того же года (1913) Кручёных даёт определение заумному языку в терминах „иррациональных частей” слова.37 Причём он уже опубликовал стихотворение «Дыр бул щыл», которое современники незамедлительно сочли заумным par excellence, а Владимир Марков назвал инаугурацией заумного языка.38
Причём он уже опубликовал стихотворение «Дыр бул щыл», которое современники незамедлительно сочли заумным par excellence, а Владимир Марков назвал инаугурацией заумного языка.38 По признанию Кручёных, это стихотворение было написано „на собственном языке” и словами, не имеющими „определённого значения”.39
По признанию Кручёных, это стихотворение было написано „на собственном языке” и словами, не имеющими „определённого значения”.39 Но, несмотря на “приватный” характер этого языка, Кручёных видел его „свободным” и „вселенским”.40
Но, несмотря на “приватный” характер этого языка, Кручёных видел его „свободным” и „вселенским”.40 Его универсальность не была, однако, самостоятельной разновидностью звёздного языка, с которым Кручёных соотносил свою заумь.41
Его универсальность не была, однако, самостоятельной разновидностью звёздного языка, с которым Кручёных соотносил свою заумь.41
Наиболее полное изложение Хлебниковым идеологии заумного языка дано в статье «Наша основа», где термин этот служит подзаголовком небольшого раздела, посвящённого истолкованию его же. Именно здесь Хлебников развивает свою теорию языка как игры в куклы. Затем он продолжает:
Но язык естественно развивался из немногих основных единиц азбуки; согласные и гласные звуки были струнами этой игры в звуковые куклы. А если брать сочетания этих звуков в вольном порядке, например: бобеоби, или дыр бул щел, или манчь! манчь! чи брео зо!, — то такие слова не принадлежат ни к какому языку, но в то же время что-то говорят, что-то неуловимое, но всё-таки существующее.
(СП V: 234–235)
Такие тряпочки слов, настаивает Хлебников, что-то значат:
Но так как прямо они ничего не дают сознанию, сознанию (не годятся для игры в куклы), то эти свободные сочетания, игра голоса вне слов названные заумным языком. Заумный язык — значит находящийся за пределами разума.
(СП V: 235)
Отсюда ясно, что хлебниковское истолкование
заумного языка не ограничивалось его теорией всемирной коммуникации.
Заумь была для него понятием достаточно широким, чтобы выйти за пределы его собственных произведений и включить в себя «Дыр бул щыл» Кручёных — не обременённое „определённым значением”, но достаточно внятное, по мнению Хлебникова, произведение. Он даже заметил по его поводу:
точно успокаивает страсти самые расходившиеся (
НП: 367).
42
Выше по тексту Хлебников приводит в качестве примера “зауми” не только слова умирающего Аменхотепа (Эхнатона) из повести «Ка» (
СП IV: 67), но и зачин
звукописи «Бобэоби пелись губы...». Учитывая этот расширенный взгляд на
заумь, стоит более подробно рассмотреть, как
заумный дискурс Хлебникова отразился на его творчестве.
Примерами послужат несколько “звуковых картин” Хлебникова. «Бобэоби», пожалуй, самая известная из них:
Бобэоби пелись губы
Вээоми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиэээй — пелся облик
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
(СП II: 36)
В звёздном языке Хлебникова отдельные согласные имеют „пространственные конфигурации”, но в этой ранней “звуковой картине” (впервые опубликовано в сборнике «Пощёчина общественному вкусу», 1912) они очевидным образом увязаны с цветом. Позже Хлебников уточнил: Б или ярко красный цвет, а потому губы бобэоби, вээоми — синий и потому глаза синие, пииэо — чёрное (СП V: 276). Ещё один словарик (СП V: 269), озаглавленный Звукопись и опять-таки приравнивающий согласные к цветам, показывает полное совпадение с Б — красный, рдяный и П — чёрный с красным оттенком. Более того, Лицо узнаваемо по белому цвету, который приписывается букве Л, цепь — тоже: буквы Г и З окрашены соответственно жёлтая и золотая. А вот синева здесь приписывается не В, а М.
«Бобэоби» — явно не упражнение в футуристской тарабарщине, а попытка представить цвет в терминах звука, своего рода синестезия. Эта экспериментальная работа имела к тому времени значительную родословную. Русские кубофутуристы отнюдь не были первыми и не единственными поэтами, чуткими к цвету. Сам Хлебников указывает на авторитет такой поэзии в лице Малларме и Бодлера, которые, пишет он, уже говорили о звуковых соответствиях слов (СП V: 275). Вероятно, не случайно для своей ранней звукописи он подыскал холст каких-то соответствий.43
Хлебников связывал эту разновидность заумного языка и с другим типом зауми — общечеловеческим языком. Звукописи он даёт следующее определение: Этот род искусства — питательная среда, из которой можно вырастить дерево всемирного языка (СП V: 269). Поэтому неудивительно, что в его воззвании к художникам мира (СП V: 219) обнаруживаем ещё одно мимолётное упоминание о предполагаемой связи между цветами и отдельными согласными. Здесь М снова рассматривается в терминах синего цвета, а В (синий в «Бобэоби») становится зелёным. Эти изменения отражены и в крупном “звуковом полотне” Хлебникова из сверхповести «Зангези»:
Вэо-вэя — зелень дерева,
Нижеоты — тёмный ствол,
Мам-эами — это небо,
Пуч и чапи — чёрный грач.
Мам и эмо — это облако.
(СП III: 344)
Как отметил Роналд Вроон, словарики, составленные Хлебниковым, делают расшифровку его немногочисленных “звуковых картин” „элементарной задачей”.
44
Любопытно, что, в отличие от Рембо, Хлебников не присваивал цвета гласным. Объяснение даёт он сам: гласные звуки менее изучены, чем согласные (СП V: 237). Это можно увидеть в его “переводах” на всемирный язык, где, как уже указывалось, гласные случайны и служат благозвучию. Однако гласные играют некоторую семантическую роль в его языковых теориях (вспомним внутреннее склонение). Он дал им когда-то и такие определения: и соединяет | а против | о увеличивает рост | е упадок, упадать | у покорность. Отсюда вывод: Так стихотворение полно смысла из одних гласных (СП V: 189).45
Именно в контексте “звуковых картин” Хлебникова следует рассматривать и такие произведения, как «Гроза в месяце Ау». Начинается оно так:
Пупупопо! Это гром.
Гам гра гра рап рап.
Пи-пипизи. Это он.
Бай гзогзигзи. Молний блеск.
Вейгзогжива. Это ты.
Гога, гаго — величавые раскаты.
Гаго, гога!
Зж. Зж. ‹...›
(СП V: 73)
Налицо звукоподражание, попытка передать звуки летней грозы. Однако в их нарастании легко угадываем отсылку и к “цветовому кодированию” Хлебникова, и к “пространственным конфигурациям”
звёздного языка.
46
Звукоподражательный принцип очевиден и в
птичьем языке Хлебникова. Хотя он обычно рассматривается в контексте
зауми, на самом деле это попытка поэта воспроизвести крики птиц, что ему, как опытному орнитологу, весьма удалось. Как и в случае
звукописи, “крикопись” Хлебникова читателю совершенно понятна. В двух произведениях, где встречается
птичий язык, краткой «Мудрости в силке» (
СП II: 180, впервые опубликовано в 1914) и «Зангези» (
СП III: 318–319) названия птиц обозначены, а в
сверхповести есть и описание их повадок
повседневным языком:
Овсянка, качаясь на ветке: Цы-цы-цы-ссыы.
Пеночка зелёная, одиноко скитаясь по зелёному морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора: Прынь! пциреп-пциреб! Пциреб! — цэсэсэ.
Овсянка: Цы-сы-сы-ссы (качается на камыше).
Сойка: Пиу! пиу! пьяк, пьяк, пьяк!
Ласточка: Цивить! Цизить!
(СП III: 318–319)
Не следует пренебрегать и семантическим значением
птичьего языка, поскольку Хлебников хорошо знал, что издаваемые птицами звуки зависят от их настроения.
47
Ещё один аспект хлебниковского заумного языка (и того, который он таковым называл)48 — язык богов. Подобно звукописи и птичьему языку, он состоит из слов, к повседневному языку ни в коей мере не относящихся, и обычно считается „экстремальным примером” хлебниковской зауми.49
— язык богов. Подобно звукописи и птичьему языку, он состоит из слов, к повседневному языку ни в коей мере не относящихся, и обычно считается „экстремальным примером” хлебниковской зауми.49 Язык богов налицо не только в соответствующей главе «Зангези» (авторское истолкование следует за птичьим языком, СП III: 319–321), но и лёг в основу позднего короткого драматического произведения «Боги» (СП IV: 259–67). Вот пример “божественного” дискурса:
Язык богов налицо не только в соответствующей главе «Зангези» (авторское истолкование следует за птичьим языком, СП III: 319–321), но и лёг в основу позднего короткого драматического произведения «Боги» (СП IV: 259–67). Вот пример “божественного” дискурса:
Юнона: Бальдур, иди сюда!
Зам, гаг, зам!
Ундури: Дех, мех, дзупл.
Туки, паки ситсоро
Мигоанчи, мечепи!
Рбзук квакада квакира! хлям!
Тиен: Сиоукин сисиси.
Сиокуки сицоро!
Хрюрюрюри чицацо.
Печь, пачь, почь. ‹...›
(СП IV 266–267)
Как отметил Роналд Вроон, эта „форма неологии ‹...› является самой непостижимой и наименее референтной из всех”. Однако это, продолжает Вроон, „аномалия”, потому что (вопреки своей обычной практике) „Хлебников не даёт ни словарика, ни образцов, ни подсказок, которые придавали значение
словоновшествам в обычном смысле слова”.
50
И всё-таки следует отметить, что Хлебников, по аналогии с его
звукописью и
птичьим языком, действительно соединяет неологию с
повседневным языком, тем самым придавая ему некий понятийный костяк. В «Зангези», например, основное изложение
языка богов предваряется обширным отрывком на
повседневном языке, который задаёт обстановку действия. В короткой пьесе «Боги» (как видно из первой строки приведённой цитаты) Хлебников перемежает
заумные божественные высказывания общепонятными. Есть и сценические ремарки. В результате этого контур сюжета становится различимым.
Одним из существенных аспектов языка богов является его “объективная” природа. Это не “субъективный” язык поэтического Я, но речь “персонажей”. В этом смысле язык богов подобен птичьему языку:51 он тоже диалогичен, что подразумевает наличие смысла в дискурсе, даже если таковой не очевиден (читатель, скорее всего, воспримет его как беседу иностранцев). Ещё один момент, на который следует обратить внимание: такая не соотносимая ни с чем заумная неология сравнительно редка в контексте общего словотворчества Хлебникова и затрагивает ничтожно малую часть его произведений.
он тоже диалогичен, что подразумевает наличие смысла в дискурсе, даже если таковой не очевиден (читатель, скорее всего, воспримет его как беседу иностранцев). Ещё один момент, на который следует обратить внимание: такая не соотносимая ни с чем заумная неология сравнительно редка в контексте общего словотворчества Хлебникова и затрагивает ничтожно малую часть его произведений.
Но, как и звукопись или птичий язык, хлебниковский язык богов имеет свою, не ограничивающуюся поздними произведениями, родословную. Например, «Ночь в Галиции» (1914) включает следующий отрывок:
Русалки: Ио, иа, цолк,
Ио, иа, цолк.
Пиц, пац, пацу,
Пиц, пац, паца.
Ио иа цолк, ио иа цолк,
Копоцамо, миногамо, пинцо, пинцо, пинцо!
Ведьмы (вытягиваются в косяк, как журавли, и улетают):
Шагадам, магадам, выкадам.
Чух, чух, чух.
Чух.
(СП II: 201)
Как сообщил сам Хлебников, источником
заумного пения
русалок является не произвольная авторская неология, но
учебник (как иронически называет его Хлебников)
Сахарова (
СП II: 200). Речь идёт о воистину впечатляющем сборнике «Сказания русского народа», составленного И.А. Сахаровым в середине XIX века, куда включён ряд магических гимнов, песен ведьм и колдовских заговоров. С ним в 1913 г. ознакомил Хлебникова, как ни странно, Роман Якобсон.
52
Именно этот магический язык стал прообразом хлебниковского
языка богов и ещё одним важным аспектом хлебниковской
зауми.
53
В статье «Наша основа» читаем:
То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным.
(СП V: 235)
В другой статье, написанной примерно в то же время (1919–1920 гг.), он более конкретен:
Говорят, что стихи должны быть понятны. Так... ‹вывеска на улице›, на которой ясным и простым языком написано: „здесь продаются..” ...но вывеска ‹ещё не есть стихи›. А она понятна. С другой стороны, почему заговоры и заклинания так называемой волшебной речи, священный язык язычества, эти „шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу” — суть вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе отчёта, и является как бы заумным языком в народном слове. Между тем, этим непонятным словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, прямое влияние на судьбу человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Им предписывается власть руководить добром и злом и управлять сердцем нежных.
(СП V: 225)
Хлебников выступает здесь в защиту магического заумного слова. Этот, казалось бы, некоммуникабельный язык на самом деле что-то сообщает и, по-видимому, обладает наибольшей властью над человеком, обращаясь через голову правительства прямо к народу чувств (СП V: 225). Здесь народ следует понимать как буквально, так и метафорически: заговоры и заклинания кажутся поэту высшей точкой народовластия в жизни слова и рассудка.
Тяга Хлебникова к магической стороне фольклора очевидна. Его работы изобилуют ведьмами и языческими поверьями, не забыт и сибирский шаман. Однако такого рода пристрастие в контексте современной поэту литературы вполне объяснимо. Символисты Блок, Бальмонт и Андрей Белый тоже писали о поэзии и магии.54 Более того, в первом десятилетии ХХ века славянская мифология была в моде, особенно успехом пользовались произведения Алексея Ремизова и Сергея Городецкого.55
Более того, в первом десятилетии ХХ века славянская мифология была в моде, особенно успехом пользовались произведения Алексея Ремизова и Сергея Городецкого.55 Оба этих писателя оказали некоторое влияние на раннее творчество Хлебникова — он высоко ценил, например, сборник стихов Городецкого «Ярь».56
Оба этих писателя оказали некоторое влияние на раннее творчество Хлебникова — он высоко ценил, например, сборник стихов Городецкого «Ярь».56
“Черновики заклинаний” разбросаны по всему корпусу хлебниковских стихов, начиная с ранних. Знаменитый поэтический дебют Хлебникова, стихотворение отнюдь не заумное, называется «Заклятие смехом», что автоматически помещает его в магический контекст. Заклинает множественным числом герой поздней сверхповести «Зангези» (СП III: 344). Поскольку персонажи Хлебникова иной раз наделены магическими способностями, неудивительно, что самого Хлебникова некоторые современники считали чародеем.57 Казалось даже законным, что язык такого “колдуна” зашифрован: только поэт-маг знает ключи к закодированному тексту, благодаря чему и сохраняет свою силу.
Казалось даже законным, что язык такого “колдуна” зашифрован: только поэт-маг знает ключи к закодированному тексту, благодаря чему и сохраняет свою силу.
Смежный аспект магического заумного языка — язык молитвы. Вслед за приведённым выше упоминанием священного языка язычества читаем:
Молитвы многих народов написаны на языке, непонятном для молящихся. Разве индус понимает Веды? Старославянский язык непонятен русскому. Латинский — поляку и чеху. Но написанная на латинском языке молитва действует не менее сильно, чем вывеска. Таким образом, волшебная речь заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьёй будничный рассудок.
(СП V: 225)
Разумеется, можно спорить о том, способна ли молитва действовать не менее сильно, чем вывеска, но для верующего этот тип “магического” дискурса определённо не может быть судим будничным рассудком. Однако волшебный язык такого рода отличается тем, что он, безусловно, имеет смысл, неведомый слушателю только потому, что принадлежит иному народу или седой древности. Несмотря на то, что эти слова могут не задевать сознание верующих, их содержательность не вызывает сомнений. Можно было бы ожидать подобного отклика и на некоторые произведения самого Хлебникова.
Чтобы обнаружить ещё один посыл развития магического заумного языка Хлебникова, следует обратиться к сектантским формам богослужения. Хлебников разделял интерес, проявляемый некоторыми его друзьями и коллегами к деятельности христианских сект и, в частности, к практикуемой ими глоссолалии. Критик-формалист Шкловский приводил примеры таковой в статье 1915 года о предпосылках футуризма,58 Кручёных в своих манифестах, излагавших теорию кубофутуризма, цитирует песнопения сектантов. В статье «Новые пути слова», напечатанной в футуристическом сборнике «Трое» рядом с произведениями Хлебникова, он приводит примеры глоссолальных выкриков:
Кручёных в своих манифестах, излагавших теорию кубофутуризма, цитирует песнопения сектантов. В статье «Новые пути слова», напечатанной в футуристическом сборнике «Трое» рядом с произведениями Хлебникова, он приводит примеры глоссолальных выкриков:
„намос памос багос ‹...› герезон дроволмире здрувул дремиле черезондро фордей”.
59
И Кручёных называл эти песнопения сектантов
заумью.
60
В отличие от молитв на латыни или церковнославянском языке, глоссолалия бессмысленна по определению, хотя Кручёных связывал её со способностью говорить на иностранных языках.61 По своей сути, разумеется, „говорение на языках” в конечном счёте связано с нисхождением Святого Духа и возглашением слова Божия („каждый слышал их говорящих на его языке” Деяния 2-6). Такого рода словесность имеет некоторое сходство с лингвистическими устремлениями Хлебникова (и Кручёных): „говорение на языках” и заумно, и всемирно одновременно. Можно сказать, что это “подлинный” божественный язык, и действительно, Роналд Вроон выявил „ряд замечательных сходств между глоссолальными выкриками и языком богов Хлебникова”.62
По своей сути, разумеется, „говорение на языках” в конечном счёте связано с нисхождением Святого Духа и возглашением слова Божия („каждый слышал их говорящих на его языке” Деяния 2-6). Такого рода словесность имеет некоторое сходство с лингвистическими устремлениями Хлебникова (и Кручёных): „говорение на языках” и заумно, и всемирно одновременно. Можно сказать, что это “подлинный” божественный язык, и действительно, Роналд Вроон выявил „ряд замечательных сходств между глоссолальными выкриками и языком богов Хлебникова”.62
Другим подобием языка богов, которое Роналд Вроон усматривает в магической зауми Хлебникова (хотя сами по себе они вовсе не заумны), — имена собственные. Вроон указывает на „поразительную параллель ‹...› между именами богов или героев и их последующими высказываниями” и предполагает, что боги „очевидно пытаются произнести свои собственные имена и имена своих бессмертных собратьев, возможно, в попытке определить свою собственную сущность”.63
Своего рода игру экзотическими именами видим в отрывке, который Хлебников предпосылает пьесе «Боги» (используя и в «Ладомире»):
Туда, туда,
Где Изанаги
Читала «Моногатори» Перуну,
А Эрот сел на колена Шанг-Ти,
И седой хохол на лысой голове бога
Походит на ком снега, на снег;
Где Амур целует Маа Эму,
А Тиен беседует с Индрой;
Где Юнона и Цинтекуатль
Смотрят Корреджио
И восхищены Мурильо;
Где Ункулункулу и Тор
Играют мирно в шахматы ‹...›
64 (СП IV: 259)
(СП IV: 259)
Подозреваю, что имена некоторых богов — да и живописцев Корреджо и Мурильо — пустой звук для среднего русского (если уж на то пошло, и зарубежного) читателя. Следовательно, его внимание переключится на звучание имени, а не на его соотносимость. Владимир Марков в своих комментариях к «Ладомиру» пишет: „в некоторых отрывках эти имена почти теряют свою денотативность и используются скорее как абстрактные цветовые пятна”.
65
По выражению самого Хлебникова, они обращаются
через голову правительства прямо к народу чувств.
Это заумное использование имён становится ещё более заметным, когда Хлебников делает имена основой словоновшеств:
Усадьба ночь, чингисхань!
Шумите, синие берёзы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть!
И сумрак облака, будь Гойя!
Ты ночью облако, роопсь!
(ИС: 380)
Имена Чингисхана, Заратустры, Моцарта и художника Ропса
66
превращены в словесные императивы, силам природы и физического мира велено их усвоить, переназваться. Другое короткое стихотворение «О достоевскиймо...» подобным образом сочетающее неологию и имена собственные, было названо критиком „заклятием именем” и „магическим актом”.
67
„Заклятие именем” лежит в основе одной из самых замечательных поэм Хлебникова «Разин». Она состоит из свыше 400 строк палиндромов, которые сам Хлебников называл
заклятьем двойным течением речи (
СП I: 318).
Поэму начинает двухстрочный эпиграф-палиндром:
Я Разин со знаменем Лобачевского логов.
Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря.68 (СП I: 202)
(СП I: 202)
Далее следует глава «Путь»:
Сетуй утес!
Утро чорту!
Мы, низари, летели Разиным.
Течет и нежен, нежен и течет.
Волгу див несет, тесен вид углов.
Олени. Синело.
Оно.
(СП I: 202)
Палиндром как формальный приём не требует неологии. Но, памятуя о разносторонности Хлебникова, стремление расширить его возможности посредством словотворчества (пример тому — меткие
низари, “низшие” по классовому признаку или топографии)
69
удивления не вызывает. Палиндром обладает выраженной магической коннотацией — это форма для заклинаний по определению: двойной звуковой поток скрывает слова в словах и тем удваивает их силу. Отнюдь не случайно Хлебников и Степан Разин поэмы взаимоувязаны: поэт называл себя
Разиным навыворот (
СП I: 234). Он приписывал палиндрому пророческую мощь, однажды назвав его строки
отражёнными лучами будущего (
СП II: 9). Очевидное в палиндроме эхо соответствует перекличке сдвоенных судеб: именно о них в поэме идёт речь. Хлебников не только воспевает Разина, но и взывает к самому себе.
70
Сродни палиндромам склонность Хлебникова кодировать имена и ключевые слова в виде анаграмм. Оценивая возможности скрытого в них смысла, сам Хлебников однажды признался, что короткое стихотворение «Крылышкуя...» потому прекрасно, что в нём, как в коне Трои, сидит слово ушкуй (разбойник) (СП V: 194). У Хлебникова можно найти множество и других анаграмм: особенно он любил кодировать имя Разина. Пример тому — стихотворение «Ра...» (СП III: 138), в котором несколько анаграмм имени казака-бунтаря предваряют огласку его имени.
Это стихотворение — яркий пример многозначности хлебниковского текста. Ра связан не только с Разиным, но и с египетским богом солнца и древним названием реки Волги, где Разин омывает ноги. Вдобавок, Ра соотнесён с буквой Р звёздной азбуки.71 Строго говоря, палиндромы и анаграммы, хотя и содержат элемент кодирования, к магическому заумному языку Хлебникова причислены быть не могут. Но когда анаграмма имеет отношение к звёздному языку, она явно приобретает заумный оттенок и может привести в область полисемантики, где каждое ключевое слово хлебниковского текста следует рассматривать как в отношении его повседневного значения, так и звёздного истолкования начальной буквы этого слова.
Строго говоря, палиндромы и анаграммы, хотя и содержат элемент кодирования, к магическому заумному языку Хлебникова причислены быть не могут. Но когда анаграмма имеет отношение к звёздному языку, она явно приобретает заумный оттенок и может привести в область полисемантики, где каждое ключевое слово хлебниковского текста следует рассматривать как в отношении его повседневного значения, так и звёздного истолкования начальной буквы этого слова.
Итак, Хлебников полагал свой волшебный, заклинательный язык звёздным. В той же статье, где говорится о заговорах и заклинаниях так называемой волшебной речи ‹...› этих „шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу”, он пишет, что странную мудрость магической речи можно разложить на истины, заключённые в отдельных звуках: ш, м, в и т.д. Мы их ещё не понимаем. Честно сознаемся. Но нет сомнения, что эти звуковые очереди — ряд проносящихся перед сумерками нашей души мировых истин. (СП V: 225).72
Когда Хлебников прибегает к звёздному языку, он обычно даёт подсказку относительно истолкования закодированного дискурса. Как правило, в случае языка богов | птичьего языка | звукописи он смешивает заумь с повседневным языком, обеспечивая, тем самым, вразумительность высказывания для непосвящённых. Наглядный пример тому — «Царапина по небу», первый раздел которой «Прорыв в языки» имеет подзаголовок Соединение звёздного языка и обыденного (СП III: 75). Сцена, изображенная в этом отрывке, — весёлая пляска крестьян:
Пи бега по кольцу тропы,
Ша ног босых,
Как кратки Ка покоя!
И Вэ волос на голову людей,
Вэ ветра и любви,
Эс радостей весенних ‹...›
(СП III: 75)
Помимо такого рода смешения, Хлебников порой заходит столь далеко, что предоставляет читателю словарь звёздного языка (СП III: 376–377). Согласно таковому,
ПЭ — прямое движение точки прочь от неподвижной, движение по прямой черте. ‹...›
ША — слияние поверхностей, наибольшая площадь в наименьших границах одного. ‹...›
КА — взаимное сближение двух точек до неподвижного предела, остановка многих точек у одной неподвижной. ‹...›
ВЭ — движение точки по кругу около другой неподвижной. ‹...›
ЭС — пути движений, имеющие общую начальную и неподвижную точку осей (солнце, сад, село).
В цитированных выше строках «Прорыва в языки» угадываем плясуний с уложенными вокруг головы косами: они сходятся, останавливаются и снова расходятся. Можно взять любую строчку этого отрывка и, справляясь со словарём, осмыслить “закодированный” текст.
73
«Царапина по небу» раскрывает и ещё одно свойство звёздного языка. Помимо того, что он способен функционировать как автономная единица со своим собственным “смыслом”, в сочетании с повседневным языком он оказывается подручным средством неологии. В завершении раздела «Земному шару» говорится:
Го люди, смотрите на небо:
Че зори так велят!
Мне гоум повелел
Ввести Го нравы
Летучего правительства
Земного шара,
Как мотылёк порхающего
По лугу имён.
(СП III: 80)
Здесь видим, как фонема Гo сомкнулась с повседневным словом ум (разум, интеллект) и образовала составной неологизм гоум. Эта неологическая подспудность звёздного языка проявилась уже в 1916 г. (что любопытно — в неологизме чезори, который Хлебников разъял в приведённой выше цитате).74 Такого рода потенциал очевиден и в собственных попытках Хлебникова “перевода” на мировой грядущий язык, которые на поверку оказываются в некотором смысле удвоенным заумным языком (СП V: 220–221).
Такого рода потенциал очевиден и в собственных попытках Хлебникова “перевода” на мировой грядущий язык, которые на поверку оказываются в некотором смысле удвоенным заумным языком (СП V: 220–221).
Поскольку Хлебников в своём словаре определяет Го как высшую точку (СП III: 377), гоум можно понять как “высший разум”. Подтверждение находим в «Зангези», где этот неологизм вновь появляется, но уже среди ему подобных (выум, ноум, лаум и др.) в благовесте ума (СП III: 334–336). Следуя своей обычной практике пособничества читателю, Хлебников ещё раз даёт словарь всех этих слов; Гоум определяется следующим образом: высокий, как эти безделушки неба, звёзды, невидимые днём (СП III: 336). Заметим, что словарь Зангези причисляет чезори (и другие подобные слова на че) к понятию чеум.
Хлебников, по-видимому, был не прочь создавать и “сложносоставные” слова, полностью состоящие из единиц звёздного языка, см. виель (от В и Л).75 Хотя он обращал внимание прежде всего на начальную согласную, налицо готовность учитывать семантический потенциал и других согласных слова. Внимание к таковым очевидно уже в 1912 г. в статье «Изберём два слова...» (НП: 325–329). Несколько лет спустя («Царапина по небу») оно становится более пристальным: среди прочего, Хлебников размышляет здесь о сочетании согласных Х и М в слове ‘хлам’. По мнению поэта, начало слова хла имеет силу хлева и холи, тогда как ам передаёт силу могилы и мора (СП III: 80–81). Далее читаем:
Хотя он обращал внимание прежде всего на начальную согласную, налицо готовность учитывать семантический потенциал и других согласных слова. Внимание к таковым очевидно уже в 1912 г. в статье «Изберём два слова...» (НП: 325–329). Несколько лет спустя («Царапина по небу») оно становится более пристальным: среди прочего, Хлебников размышляет здесь о сочетании согласных Х и М в слове ‘хлам’. По мнению поэта, начало слова хла имеет силу хлева и холи, тогда как ам передаёт силу могилы и мора (СП III: 80–81). Далее читаем:
ХА — это преграда между убийцей и жертвой,
Волком, ливнем и человеком,
Холодом и телом, морозом и холей.
ЭМ — разделение объёма, ножом и целью
На множество малых частей.
Хлам — разрушенное начало холи ‹...›
(СП III: 81)
Значение слова ‘хлам’ определяется, по Хлебникову, не только начальной Х, но и конечной согласной М. Защитный барьер, образованный Х, не выдерживает сокрушительного натиска М. Таким образом, значение слова может стать итогом взаимодействия различных его согласных. Этим повседневный язык оказывается полезен для словоновшеств вроде виель.
Хлебников развивал представление о слове как о поле битвы, где одна согласная соперничает с другой за главенство. Так, заменой второй буквы слова ‘хлам’ на Р, “барахло” превращается в ‘храм’ (СП III: 328, V: 104). Точно так же господин (‘пан’) может править, но с изменением конечного согласного господству приходит конец: пан пал (СП III: 84–85).
Этот тип игры слов (напоминающий обратное значение в теории внутреннего склонения) связан и с поединком слов, который Хлебников затеял в «Зангези». В.П. Григорьев описал его в терминах борьбы М и Б, где М вытеснило Б из повседневных слов ‘богатырь’, ‘богач’ и ‘боги’ ради неологизмов могатырь, могач и моги (от ‘мочь’ — быть в состоянии).76 Подобное предприятие налицо в известном примере из «Ладомира», где революция достигает лингвистического завершения заменой дворян творянами (СП I: 184).
Подобное предприятие налицо в известном примере из «Ладомира», где революция достигает лингвистического завершения заменой дворян творянами (СП I: 184).
Такого рода мутации обычно связаны со звёздным языком, однако неологизмом творяне Хлебников выявляет природную мудрость языка, и не более того. Ясно, что такой тип оппозиции тоже связан с неологией, хотя и не всегда. Хлебников мог и сберечь мудрость разговорного языка, противопоставляя, например, ‘братву’ (товарищество, морск. жарг.) ‘жратве’ (пища, быт. жарг.) (НП: 61).77
Иной раз акцентированием начальных согласных даже повседневный язык Хлебников преобразует в некое подобие звёздного. В этом нет ничего странного: дать определения начальных согласных в звёздном языке, не прибегая к “бытовым” словам, невозможно. В «Нашей основе» читаем:
Или взять два слова, “ладья” и “ладонь”. Звёздное, выступающее при свете сумерек, значение этого слова: расширенная поверхность, в которую опирается путь силы, как копьё, ударившее в латы.
(СП V: 229)
Иначе говоря, оба слова имеют одно и то же
звёздное значение, потому что управляются одной и той же согласной. Из-за этой предустановленной связи уже нельзя полностью избавить общеупотребительные слова от их
звёздного смысла. Как правильно заметил Роналд Вроон, это в очередной раз приводит в область полисемии, где „канонические слова выбираются для демонстрации справедливости выводов Хлебникова о семантическом поле рассматриваемого согласного”.
78
Таким образом,
повседневные слова автоматически становятся частью
звёздной парадигмы.
К таковой Хлебников причислял и некоторые имена собственные. Например, фамилии многих белых вождей гражданской войны начинаются на К (Каледин, Крымов, Корнилов, Колчак) — букву, в представлении Хлебникова связанную с остановкой движения и, следовательно, со смертью.79 Налицо расширение более раннего представления о том, что Г связано с Германией, а Р — с Россией. Подобным же образом Л ассоциируется как с Лениным (СП III: 84), так и с умиротворяющим Ладомиром (СП V: 230). Некоторые буквы отличаются гибкостью семантического охвата, хотя и функционируют в рамках заданных параметров. У Г, например, возможны общие коннотации правителя и власти; у Р — борьбы за свержение такой власти.80
Налицо расширение более раннего представления о том, что Г связано с Германией, а Р — с Россией. Подобным же образом Л ассоциируется как с Лениным (СП III: 84), так и с умиротворяющим Ладомиром (СП V: 230). Некоторые буквы отличаются гибкостью семантического охвата, хотя и функционируют в рамках заданных параметров. У Г, например, возможны общие коннотации правителя и власти; у Р — борьбы за свержение такой власти.80 Иной раз буквы приобретают едва ли не мифологический статус, фигурируя как “самостоятельные” сущности, воины азбуки, действующие лица событий:
Иной раз буквы приобретают едва ли не мифологический статус, фигурируя как “самостоятельные” сущности, воины азбуки, действующие лица событий:
Эр, Ка, Эль и Гэ —
Воины азбуки, —
Были действующими лицами этих лет,
Богатырями дней ‹...›
И тщетно Ка несло оковы, во время драки Гэ и Эр,
Гэ пало, срубленное Эр,
И Эр в ногах у Эля!81 (СП III: 330)
(СП III: 330)
Однако, по мнению Хлебникова, такие сценарии выходят за рамки “прописных истин”, поскольку начальная согласная для него была всё-таки носителем судьбы и путём для воль (СП V: 188):
Вздор, что Каледин убит и Колчак, что выстрел звучал.
Это Ка замолчало, Ка отступило, рухнуло наземь.
Это Эль строит морю мора мол, а смерти смелые мели.
(СП III: 329)
В конечном итоге, сам язык рассматривается Хлебниковым как определяющий фактор в развёртывании человеческой судьбы. В «Зангези», изобразив побоище воинов азбуки, он пишет:
Пусть мглу времён развеют вещие звуки
Мирового языка. Он точно свет.
(СП III: 330)
IV
Уверенность Хлебникова в безграничных возможностях языка незыблема. Он выявил более пятидесяти его типов,
82
начиная от уже знакомого нам
звёздного языка и
волшебной речи, заканчивая
радужной речью и
личным языком. Причём словами поэт не ограничивается. В этом перечне обнаруживаем “лингвистический” подход к другому его пожизненному пристрастию — математике:
числослово,
числоимена,
алгебраический язык и
числоречи.
83
Хлебниковскую “словесность числа” устоявшейся не назовёшь. В раннем диалоге (1913), развивающем уже знакомое нам представление об отношениях между звуком и значением, делается попытка установить этимологическую связь между названиями чисел и другими обиходными словами. Предполагается, например, что русское ‘семь’ связано с русским же ‘семья’. Не есть ли число семь усечённое слово “семья”?, — спрашивает один из участников диалога. Прослеживается даже связь между словами ‘единица’ и ‘еда’; предполагаемое оправдание такого сближения состоит в том, что первобытный человек не нуждался в чужой помощи во время еды (СП V: 184). Эти немногочисленные попытки были, по-видимому, в дальнейшем оставлены, однако сходство идей очевидно в более позднем приписывании числам два и три соотносимости с группами слов, начинающихся с первых согласных этих чисел — Д и Т.84
Однако в ещё одном раннем диалоге поэт связывает числа и слова иначе. Поясняя стихотворение «Кузнечик», он заострил тогда внимание читателя на том, что в первой строфе стихотворения помимо желания написавшего этот вздор, звуки “у, к, л, р” повторяются пять раз каждый . ‹...› Пятеричное строение имеет также «И и Э» (СП V: 185). Хлебникову явно льстила математическая симметрия, которая, как ему казалось, проступает в его стихах. Это ещё одно раскрытие потаённых смыслов, которые Хлебников как никто другой был способен уловить.
Он привёл примеры пятеричности в небольшой статье, опубликованной во «Временнике» (1916), на этот раз подойдя математически к стихам Пушкина и Лермонтова. Здесь, помимо указания на числовую закономерность в распределении некоторых букв, он опять-таки соотнёс их со звёздным языком. Таким образом, удалось, по его мнению, установить связь между борьбой жизни и смерти в пушкинском «Пире во время чумы» посредством взаимодействия букв М (предположительно связанной со смертью) и П (предположительно связанной с жизненной силой). Он присвоил произведению числовое имя 5 м + 1 п и назвал подмеченную особенность стихосложения вторым языком песен (СП V: 210–211). Примерно в это же время написана статья «О простых именах языка», где заявлено:
‹...› каждое знание проходит сквозь возраст закона кратных отношений. Языковедение младше этого возраста. Но уже и теперь на него падает свет чисел.
(СП V: 203)
То, что заместительные возможности чисел Хлебников осознал ещё в начале 1914 года, следует из его ответа на письмо Романа Якобсона. Поэт сетует на то, что алфавит слишком беден для поэзии и поэтому ведёт в тупик и что он (Хлебников) вынужден перейти к числу.85 Такое признание, по-видимому, подразумевает, что Хлебников уже тогда готовился приобщить число к средствам художественного самовыражения. Якобсон в своём письме предполагает, что поэзия из чисел возможна, и просит предоставить ему небольшой образец. Хлебников, насколько нам известно, “цифровых” стихов никогда не писал (кажется, Кручёных отметился и здесь).86
Такое признание, по-видимому, подразумевает, что Хлебников уже тогда готовился приобщить число к средствам художественного самовыражения. Якобсон в своём письме предполагает, что поэзия из чисел возможна, и просит предоставить ему небольшой образец. Хлебников, насколько нам известно, “цифровых” стихов никогда не писал (кажется, Кручёных отметился и здесь).86
Вероятно, поначалу Хлебников смотрел на числа скорее с точки зрения обиходного, нежели поэтического языка. Например, в одном из его «Предложений», впервые опубликованных в сборнике «Взял. Барабан футуристов» (декабрь 1915), читаем:
Все мысли земного шара (их так немного), как дома улицы, снабдить особым числом и разговаривать и обмениваться мыслями, пользуясь языком зрения. Назвать числами речи Цицерона, Катона, Отелло, Демосфена и заменять в судах и других учреждениях никому не нужные подражательные речи простой вывеской дощечки с обозначением числа речи. Это первый международный язык.
(СП V: 158)
Хлебникова занимает здесь не столько эстетическая, сколько коммуникативная функция чисел, их потенциал для общения народов.
Он высказал подобное мнение и в 1916 году, предположив, что язык чисел мог бы стать общеазийским словарём:
Мы можем обозначить числом каждое действие, каждый образ ‹...› Особенно удобен язык чисел для радиотелеграмм. Числоречи. Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах.
(СП V:157)
По убеждению Хлебникова, кроме освобождения ума от повседневных забот числоречи освобождают от оскорбительного груза. Слух устал. (СП V: 158). В эссе «Время мера мира» (1916) это воззрение подтверждено: будучи устарелым орудием мысли, слово всё же останется для искусств (СС III: 447).
Однако было бы заблуждением думать, что Хлебников был глух к эстетике числа. Хотя он, видимо, не приветствовал идею “цифровых стихотворений”, числа мелькают в его сочинениях тут и там — особенно в теоретических статьях, где видна растущая тяга к математическому предсказанию хода истории. Даже в стихах натыкаемся на даты или уравнения, которые использованы для определения этих дат (взять, к примеру, стихотворение о “праве первородства”: Я, Хлебников, 1885, / За (365+1)3 до меня ‹...›). Кроме того, число занимает видное место и в качестве поэтического образа, и как тема некоторых важных произведений.87
Следствием длительных математических изысканий Хлебникова стала его уверенность в точности предсказаний будущего. Научившись представлять исторические события в виде уравнений, Хлебников достиг таких высот умозрения, что воспринимал свои числовые выкладки уже “эстетически”. Пример тому — описание в статье «Время мера мира» отношений между Землей и “числом чисел” 365:
‹...›
земной шар должен постигаться как законченное творение чистого искусства звуков, где Скрябин88 — земной шар, струны — год и день, а господствующее созвучие, поставленное в заголовке всего труда — числа 365, 1, 25 (сутки солнца принимается в 25 земных суток)
— земной шар, струны — год и день, а господствующее созвучие, поставленное в заголовке всего труда — числа 365, 1, 25 (сутки солнца принимается в 25 земных суток) ‹...›
(СС III: 445)
То есть, несмотря на высказывание
будучи устарелым орудием мысли, слово всё же останется для искусств, число отнюдь не лишено для Хлебникова эстетической ценности. На излёте жизни поэта это настолько очевидно, что возникает подозрение: число стало для него эстетическим соперником слова. В 1919 году он писал:
перешёл к числовому письму, как художник числа вечной головы вселенной (
СП II: 11). В другой записи это повторено:
Художник числа приходит на смену художнику слова.
89
Две ипостаси — числяра и поэта — соперничали друг с другом за первенство, но, как мы видим, обе Хлебников понимал эстетически: в любом случае он оставался художником. Его строго выверенные расчёты событий и судеб следует рассматривать под тем же углом зрения, что и строки стихов, а математические выкладки допустимо считать “цифро-поэзией”.
Или, пожалуй, “цифро-изваянием”, ибо в одном из отрывков, предназначенном видимо, для его «Досок судьбы», читаем:
Число есть единственная глина в пальцах художника, из него мы волим вылепить голубокумирное лицо времени. Лицо, о котором долго тосковало человечество, во всех своих грёзах давних времён упорно думая о нём. Оно будет сделано из этой глины будущего!90
Ваяние не было единственным видом искусства, который Хлебников соотносил с числом. Он говорил и о желании перейти
от смутного слова к точной архитектуре чисел.
91
Подобно
сваям в графическом начертании букв, в числах поэт видел объёмы зданий и сооружений. Они могли принять вид
города в
степях времени:
Там, где раньше были глухие степи времени, вдруг выросли стройные многочлены, построенные на тройке и двойке, и моё сознание походило на сознанию путника, перед которым вдруг выступили зубчатые башни и стены никому не известного города.
(СС III: 473)
Математическое выражение могло показаться ему
стройным городом числовых башен.
92
Числа стали возвышаться перед ним в виде той самой
башни времени, которую — подобно
башне слова — он
осаждал:
Есть башня из троек и двоек
Ходит по ней старец времён.
(СП III: 351)
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
ИС:
Велемир Хлебников. Избранные стихотворения / ред., биограф. очерк и примеч. Н. Степанова.
М.: Советский писатель. 1936.
СС: Собрание сочинений в 4-х томах / ред. В. Марков.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1968–1972.
 1 Willem Weststeijn
1 Willem Weststeijn. Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism.
Amsterdam: Rodopi. 1983. P. 18.
 2
2 См. также:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 75.
 3
3 Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 65.
 4
4 На это же указывает Роналд Вроон (
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 7). При написании этой главы я с удовольствием признаюсь, что в большом долгу перед Врооном за превосходный анализ хлебниковских высказываний и, в частности, за изложение “словесной вселенной” Хлебникова (P. 3–24).
 5
5 Григорьев также считает
самовитое слово Хлебникова не столько оторванным от повседневной жизни, сколько дополняющим её („связанное с “бытом” отношением дополнительности”), см.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 64.
 6
6 Ед. хр, 73, л. 8; см. также:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 73.
воспроизведено на www.ka2.ru 7 Vladimir Markov
7 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 7.
 8
8 Перевод Маркова см. в:
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 7–8.
 9
9 Перечень см. в:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983.
 10
10 Там же. P. 29, 101.
 11
11 Там же. P. 30, 148–149.
 12
12 Бенедикт Лившиц и Давид Бурлюк собрали воедино некоторые критические отклики на выступления своей группы и переиздали их в «Первом журнале русских футуристов» (
М. 1914); см.:
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 177.
 13 Бенедикт Лившиц
13 Бенедикт Лившиц Полутораглазый стрелец
Л. 1933. С. 46–47.
 14
14 См.:
Александр Парнис. Южнославянская тема Велимира Хлебникова: новые материалы к творческой биографии поэта // Зарубежные славяне и русская культура / ред. М.П. Алексеев.
Л. 1978. С. 232–251. Парнис указывает (С. 232), что черногорского языка как такового не существует. В Черногории говорят на сербохорватском диалекте, в котором, однако, есть характерные “черногорские” слова.
 15
15 О других заимствованиях из славянских языков см.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 67–68.
 16
16 См.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 18–19.
 17
17 Там же. P. 10.
 18
18 Обсуждение взаимосвязи между звуком и значением у Хлебникова см.:
Willem Weststeijn. Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism.
Amsterdam: Rodopi. 1983. P. 1–37.
 19
19 Вкратце обозначим другую идею, которая занимала Хлебникова примерно в это же время:
простейшие слова в нашем языке сохранились в виде предлогов (
СП V: 172, более подробно в
СП V: 255); см. также:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 18.
 20
20 О намётках консонантных теорий Хлебникова ещё в 1908 году см.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 13.
 21
21 Важно отметить, что в приписывании семантических качеств отдельным буквам или звукам Хлебников ни в коем случае не уникален. Бальмонт (Поэзия как волшебство.
М. 1915) и Андрей Белый (Глоссолалия: поэма о звуке.
Берлин. 1922) развивали сходные понятия и, более того, применяли их на практике. Несколько интересных замечаний о подобных идеях см. в гл. «Звук и смысл» в книге Ефима Эткинда «Материя стиха» (
Paris: Institut d’études slaves.1978).
воспроизведено на www.ka2.ruПримечательно, что несколькими годами ранее французский поэт (и преподаватель английского языка) Малларме приписывал семантические качества начальным буквам слов. Идеи Малларме и их соответствие представлениям Хлебникова обсуждаются в:
Lanne, J.-C. . Velimir Khlebnikov: poète futurien, 2 vols.
Paris: Institut d’études slaves. 1983. P. 61–66.
 22
22 Ед. хр. 88, л. 5.
 23
23 Эти определения даны в
СП V: 203, 207, 217.
 24 Vroon R
24 Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 169.
 25
25 Обсуждая древнерусскую систему согласных, У.К. Мэтьюз описывает
Ф как „иностранную фонему, фигурирующую в заимствованных — главным образом, из византийского греческого — словах”. См.:
W.K. Matthews. Russian Historical Grammar.
University of London: The Athlone Press. 1967. P. 97.
 26
26 Возьмём, к примеру, недавно опубликованное в СССР исследование:
А.П. Журавлёв. Звук и смысл.
М. 1981. Роналд Вроон (Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems. P. 195) указывает на вывод другого советского исследователя в этой области, М.В. Панова: „Звуки языка ассоциативно связаны с понятиями, не имеющими ничего общего со звуком. Эти ассоциации более или менее идентичны для большинства носителей данного языка ‹...›”
 27
27 Еще один “триумвират” можно увидеть в другом разделении Хлебниковым слов на следующие категории:
слово-пяльцы;
слово-лён;
слово-ткань (
СС: 383). Роналд Вроон предлагает следующую интерпретацию (Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems. P. 15): „слово — это конструкция, компоненты которой включают: 1) значение (готовая ткань), 2) звук (материал, из которого соткана ткань) и 3) правила, регулирующие сочетание звуковых нитей (пяльцы, т.е. каркас)”. Григорьев приходит к аналогичному выводу (
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 16): „В первом приближении значение формулы таково: слово не только готовый продукт исторического развития или нечто кем-то произведённое и предназначенное для использования (
ткань), не только материал для поэтических и иных преобразований (
лён), но и инструмент этих преобразований (
пяльцы)”. Нетрудно сопоставить эту “троицу” с другой: слух, мышление, судьба, ибо в той же статье Хлебников утверждает:
кроме языка слов, есть немой язык понятий из единиц ума (ткань понятий, управляющая первым) (
СП V: 188. Курсив мой. —
Р.К.). Таким образом,
слово-ткань связано со смыслом и мышлением;
слово-лён — с
языком слов, т.е. со звуком и слухом, а
слово-пяльцы — с направляющей основой для звука и смысла, с более глубоким уровнем значения, который таит в себе естественную
мудрость языка и обеспечивает “путь судьбы”.
 28
28 И тот, и другой — зачинатели огромных для своего времени подвижек в геометриии и математике. Евклид упоминается в цитированном выше стихотворении о “праве первородства”. Образ Лобачевского приобретает в поэтическом мире Хлебникова черты едва ли не альтер-эго. Переворот, который Лобачевский произвёл своей неевклидовой геометрией, описывается Хлебниковым в тех же выражениях, что и социальная и политическая революция 1917 года. Учёный-бунтарь Лобачевский в сознании Хлебникова идёт рука об руку с воином-бунтарём Разиным. В обоих случаях биографические взаимопересечения налицо. В первой половине XIX века Лобачевский почти 20 лет был ректором Казанского университета, где в дальнейшем Хлебников изучал математику. Одно из самых известных высказываний Хлебникова о Лобачевском находим в поэме «Ладомир» (
СП I: 184), где революционные города России украшены
Лобачевского кривыми.
 29
29 См., например,
СП V: 198, где
учитель поясняет свойства начальной согласной
Л. Здесь определения Хлебникова касаются, главным образом, концепции движения точек в пространстве. А.Г. Костецкий, составивший словарик хлебниковской
азбуки ума, пришёл к выводу, что определения Хлебникова охватывают три основные семантические области: пространство, движение и математические понятия; см.:
А.Г. Костецкий. Лингвистическую теория В. Хлебникова // Структурная и математическая лингвистика, 3 (1975). С. 34–39.
 30
30 Роналд Вроон (Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems. P. 19) использует это определение.
 31
31 Воззвание «Художники мира!» написано для планируемого сборника «Интернационал искусства» в 1919 году Статья опубликована в 1928 году по машинописному тексту; см.
СП V: 352 и
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 195.
 32
32 Роналд Вроон их воспроизводит (там же).
 33
33 Это не совсем верно, хотя Япония приняла китайские иероглифы в качестве своего письменного языка в начале христианской эры и, по-видимому, использовала классический письменный китайский в течение нескольких столетий в качестве официального письменного языка.
 34
34 См.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 89. Ссылаясь на архив Хлебникова (ед. хр. 14, л. 5), Григорьев рассматривает
алгебраический язык Хлебникова как „абсолютный синоним”
звёздного языка (с. 112). В «Зангези» Хлебников упоминает
алгебру слов (
СП III: 332). Есть высказывание Хлебникова (ед. хр. 73, л. 5), где он, по-видимому, приравнивает алгебраические символы к арабским буквам:
Подобно письменности ислама, законы времени недаром напоминают нам учебник алгебры. По всей видимости, подразумевается Коран.
 35
35 Марков (Russian Futurism, p. 303) предполагает, что этот отрывок взят из «Галльской войны» Цезаря. Это не так, поскольку описываемое событие — поражение гуннов в битве (V в. н.э.) с легионами Флавия Аэция.
 36
36 См.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 79–80; его же: Из истории интерлингвистики: „Лети, созвездье человечье” (В. Хлебников — интерлингвист) // Учёные записки Тартуского университета, выпуск 613 (1982). С. 153–166. Григорьев поясняет отношение Хлебникова к эсперанто, который
очень строен, лёгок и красив, но беден звуками и не разнообразен и в нём
избыток омонимии и скудень синонимии (
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 80).
 37
37 См.:
А. Кручёных. Новые пути слова // Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 66.
 38 Vladimir Markov
38 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 44. Стихотворение «Дыр бул щыл» впервые опубликовано в сборнике Кручёных «Помада» в начале 1913 года.
 39
39 См. факсимиле страницы с этим стихотворением (из «Те ли ле») в:
Susan Compton. The World Backwards: Russian Futurist Books 1912–1916.
London: British Museum Publications. 1978. Ill. 13.
 40
40 Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 61–62, 66.
 41
41 Марков (Russian Futurism, p. 347) пишет: „для Кручёных ‹...› эмоциональная сущность зауми явно находится в центре внимания”. Это видно из заявлений поэта 1913 и 1921 гг.: „Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определённого значения (не застывшим),
заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее”. (Цит. по: Russian Futurism, p. 345).
Заумь Кручёных не была статичной и развивалась как весьма широкое понятие, включающее „восклицания, междометия, мурлыканья, припевы, детский лепет, ласкательные имена, прозвища ” и т.д. (Там же, p. 345–346). Другими заметными прктиками
заумной поэзии были Игорь Терентьев и Илья Зданевич. Более подробную о них см.:
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969;
Gerald Janecek. The Look of Russian Literature: Avant-Garde Visual Experiments, 1900–1930.
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984.
 42
42 Комментаторы справедливо указывают на различие между взглядами Хлебникова на
заумный язык (смысл по главе угла) и взглядами Кручёных („не имеющий определённого значения”); см., например:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 6;
Krystyna Pomorska. Russian Formalist Theory and its Poetic Ambience.
The Hague-Paris, Mouton. 1968. P. 94–95, 108. Однако Кручёных ни в коем случае не пренебрегал значением или содержанием при разработке своей
зауми: одним из его утверждений было то, что „новая словесная форма создаёт новое содержание” (Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 64). Взгляду Хлебникова на когнитивную функцию языка соответствует идея Кручёных о том, что „художник должен переходить через слово к непосредственному восприятию” (там же, p. 66). Это близко утверждению Хлебникова о том, что
заумные слова способны непосредственно воздействовать на чувства (
CП V: 225). Для Кручёных
заумь была не столько лишена смысла, сколько „шире смысла” (там же).
 43
43 Курсив мой.
Соответствия были, разумеется, ключевым элементом символистской теории, и это слово вошло в название знаменитого стихотворения Бодлера. Не менее знаменитое стихотворение Рембо «Voyelles», где между гласными и цветами ставится знак равенства, было известно гилейцам. Оно цитируется в теоретической статье Николая Бурлюка «Поэтические начала» (см.: Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 79). Синестетические идеи были подхвачены и развиты русскими символистами, в частности Бальмонтом и Белым. Комментируя «Бобэоби», Крыстына Поморска справедливо отмечает, что картина, которую Хлебников рисует здесь в звуке, является не столько символистским, сколько кубистским полотном (см.:
Krystyna Pomorska. Russian Formalist Theory and its Poetic Ambience.
The Hague-Paris, Mouton. 1968. P. 98–99). См. также:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 181–183.
 44
44 См.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 181–182. Вроон указывает, что
ч, которого нет в этом словарике Хлебникова, по-видимому, означает серебристый цвет:
пуч и чапи имеют в виду „серебристо-чёрный блеск крыльев грача”.
 45
45 Хлебников, возможно, имел в виду здесь стихотворение Кручёных из одних гласных в его «Декларации слова как такового» (1913), воспроизведённой в: Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 63–64. Комментируя его, Хлебников написал Кручёных:
ряд аио, еее имеет некоторое значение и содержание и это может в искусных руках стать основой для вселенского языка (
НП: 367).
 46
46 Ау — согласно словарю Даля, народное название месяца июнь. Анализ этого стихотворения с точки зрения его “хроматических и пространственных конфигураций” см.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 185–186.
 47 Vroon R
47 Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 20–21, 186–187.
 48
48 Хлебников сделал пометку:
боги в зауми. См.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 87.
 49 Ronald Vroon
49 Ronald Vroon. Four Analogues to Xlebnikov;’s “Language of the Gods” // The Structure of the Literary Process: Essays in Memory of Felix Vodićka / ed. M. Cervenka, P. Steiner and R. Vroon.
Amsterdam: John Benjamins. 1982. P. 581.
 50 Vroon R
50 Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 188.
 51
51 См.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 63.
 52
52 О том, как Якобсон знакомил Хлебникова с книгой Сахарова, см.:
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // Russian Literature, №9 (1975). P. 16. Примерно в то же время, когда он дал её Хлебникову, Якобсон сам был поглощён
заумным языком и поэтическими экспериментами.
Заумь Якобсона, скрывшегося под псевдонимом Р. Алягров, была опубликована Кручёных в его «Заумной гниге» (
М. 1915). См.:
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 334;
Gerald Janecek. The Look of Russian Literature: Avant-Garde Visual Experiments, 1900–1930.
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984. P. 180–182.
 53
53 О магическом языке как аналоге
языка богов Хлебникова см.:
Ronald Vroon. Four Analogues to Xlebnikov;’s “Language of the Gods” // The Structure of the Literary Process: Essays in Memory of Felix Vodička / ed. M. Cervenka, P. Steiner and R. Vroon.
Amsterdam: John Benjamins. 1982. P. 590. Именно к этому типу
заумного языка Вроон относит слова умирающего Аменхотепа в «Ка» (
манч! манч!);
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 188.
 54
54 См., например, «Поэзия как волшебство» Бальмонта; «Магия слов» Белого в его «Символизме» (
М. 1910. С. 429–448); «Поэзия заговоров и заклинаний» Блока (Собрание сочинений, том 5, стр. 36–65).
 55
55 См.:
Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 13.
 56
56 В апреле 1913 года Хлебников надписал Городецкому экземпляр «Садка судей II»:
Одно лето носивший за пазухой «Ярь», любящий и благодарный Хлебников (
СП I: 46).
 57
57 Давид Бурлюк, например, назвал Хлебникова „молчаливым магом и чародеем” («От лаборатории к улице: (эволюция футуризма)» // Творчество (Владивосток), №2 (1920). С. 24). Георгий Иваск вторит Бурлюку: „маг в таинственном царстве словесных откровений, волшебник доисторической эпохи, обладающий удивительной интуицией” (
George Ivask. Russian Modernist Poets and the Mystic Sectarians // Russian Modernism: Culture and the Avant-Garde 1900–1930 / ed. George Gibian and H.W. Tjalsma.
Ithaca and London: Cornell University Press. 1976. P. 101).
 58
58 См.:
В. Шкловский. Предпосылки футуризма // Голос жизни, №18 (1915). С. 6–9;
В. Шкловский О поэзии и заумном языке // Сборники по теории поэтического языка 1.
Петроград. 1916. С. 1–15.
воспроизведено на www.ka2.ru 59
59 Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 67.
 60
60 Там же.
 61
61 Там же; см. также p. 62.
 62 Vroon R
62 Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 189.
 63 Ronald Vroon
63 Ronald Vroon. Four Analogues to Xlebnikov;’s “Language of the Gods” // The Structure of the Literary Process: Essays in Memory of Felix Vodička / ed. M. Cervenka, P. Steiner and R. Vroon.
Amsterdam: John Benjamins. 1982. P. 587.
 64
64 Идзанаги и Идзанами — пара японских божеств, мужского и женского пола (Хлебников, похоже, их перепутал).
Моногатори (monogatari) в переводе с японского означает “рассказы” («Гэндзи моногатари» — «Рассказы о Гэндзи», «Исэ моногатари» — «Рассказы об Исэ»). Хлебников считал моногатори японским
рыцарским романом (см. Кручёных (ред.), «Записная книжка», стр. 13).
Шанг Ти (Владыка на небесах) — древнее, некогда высшее китайское божество, одно из главных распорядителей перемен и судеб, недоступное лицам более низкого ранга. Подобно Тяню (небу), этому богу мог поклоняться только император как его предстоятель на земле.
Индра, согласно индуистским верованиям, является главой ведического пантеона, богом войны и дождя. Согласно переводчику «Ладомира» Гейлу Веберу,
Маа-Эма (Маан-Эмо) — мать-земля в финской мифологии (см.: Russian Literature Triquarterly, 12 (1975). P. 160). Степанов (
ИС: 490) видит в нём полинезийское божество. Гейл Вебер (там же) считает, что
Цинтекуатль — это Синтеотль, бог кукурузы индейцев тольтеков, хотя и с окончанием -
куатль (вероятно, производным от -
коатль — змей в ацтекской мифологии). Хлебников вполне мог иметь в виду и божество Кецалькоатль (Пернатый змей) или Чихуакоатль (Женщина-змея). В любом случае он, безусловно, отчасти сведущ в языке ацтеков. Земацкий в мемуарах (ед. хр. 167, л 1 об.) цитирует признание Хлебникова, что тот находил „сходство между русским и ацтекским языками, например, частица -
тель” в русских ‘создатель’ и ‘ваятель’ соответствует ацтекскому -
тль, например, Теночти
тлан, науа
тл, пейо
тль. Согласно примечанию Хлебникова в «Записной книжке» (стр. 13),
Ункулункулу — африканский эквивалент славянского бога Перуна, бога грома.
 65 Vladimir Markov
65 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
London: MacGibbon and Kee. 1969. P. 149; см. также:
Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.
М. 1970. С. 292–293.
 66
66 Считается, что Хлебников, используя слово
роопсь, имел в виду бельгийского художника Фелисьена Ропса, см.: Kern (ed.) Snake Train, p. 249. Стихотворение Хлебникова отчётливо напоминает «Les Phares» Бодлера, в котором используются имена художников и их работы в качестве “соответствий” для воссоздания поэтического пейзажа.
 67
67 Ссылки на это стихотворение и магию можно найти в статье:
Дуганов Р. Краткое искусство поэзии Хлебникова // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. т. XXXIII, №5. 1974 г., стр. 418–427.
воспроизведено на www.ka2.ru 68
68 По предположению Григорьева (
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 96–97),
мене — дательный падеж местоимения ‘я’ от первого лица единственного числа. Слово ‘мана’ в словаре Даля — существительное, образованное от глагола ‘манить’.
 69 Низарь
69 Низарь — это, конечно, палиндром Разина. См.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 42. См. также определения Далем слова ‘низ’, включающие низовья реки.
 70
70 Маяковский погорячился, написав о хлебниковских
перевертнях, что это „только сознательное штукарство — от избытка”. Он тут же поправляет себя: „Штукарство мало интересовало Хлебникова, никогда не делавшего вещей ни для хвастовства, ни для сбыта” (
ПСС 12: 25). Возможности палиндрома отмечены Кручёных в «Новых путях слова»: гилейцы знали, что слово можно читать задом наперёд, и это придаёт ему „более глубокий смысл” (Манифесты и программы русских футуристов / ed. Vladimir Markov.
Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1967. P. 71).
 71
71 Пояснения к этим и другим деталям стихотворения см.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 178–179. Дополнительные комментарии к анаграммам Хлебникова см.:
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979.
 72
72 Вера в скрытые
истины звёздного языка приводит на память
воина истины в «Одиноком лицедее»
 73
73 Подробный анализ этого стихотворения см.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 169–171; другая версия этого сочетания языков используется Хлебниковым в «Зангези» (
СП III: 330–332).
 74
74 См.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 175.
 75
75 Обсуждение
заумных соединений такого рода см.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 82;
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 175–176. Хлебников объединяет
Вэ и
Эль ради выражения
виель крыла (
СП III: 139), которое Вроон понимает как „движение крыла по спирали вниз (
В = вращение,
Л = спуск)”, что находит подтверждение в работе Кручёных «Материалы к словарю неологизмов В. Хлебникова» (ЦГАЛИ, фонд 1334, опись 1, ед. хр. 979), где он определяет
виель в терминах “виться”, “веретено” и даже “спираль” (список 8). Возможно, этот словарик (1922) составлялся при непосредственном участии Хлебникова.
 76
76 Относительно
поединка слов Хлебникова см.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 87.
 77
77 Первоначальная мутация творчества Хлебникова обсуждается в:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 165–168.
 78
78 Там же, p. 176.
 79
79 Вроон комментирует значения
к там же, p. 168–169.
 80
80 См.:
Григорьев В.П. Из истории интерлингвистики: „Лети, созвездье человечье” (В. Хлебников — интерлингвист) // Учёные записки Тартуского университета, выпуск 613 (1982). С. 158–159.
 81
81 Диаграммо-геометрический анализ этого отрывка см.:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems: A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan. 1983. P. 171–174.
 82
82 См.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 93–94.
 83
83 Там же.
 84
84 См., например, цитированный выше отрывок в конце раздела III, глава первая.
Числослова налицо в переосмыслении Хлебниковым поговорки „Три да три — будет дырка” (‘три’ — повелительное наклонение глагола ‘тереть’ и
три — число 3; см.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 125).
 85
85 Письмо Якобсону цитируется в:
Н. Харджиев. Поэзия и живопись (ранний Маяковский) // К истории русского авангарда (The Russian Avant-Garde).
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1976. P. 56–57.
 86
86 Харджиев утверждает (там же, с. 57), что стихотворение Кручёных написано в 1915 году, но не сохранилось.
 87
87 См., например, стихотворение «Числа» (
СП II: 98). См. также «Зверь + число» в:
А. Парнис. Велимир Хлебников // Звезда, 11 (1975). С. 199. Есть число, которое занимает в творчестве Хлебникова видное место, но конкретно не связано с
законами времени: √–1. Обсуждение этого математического понятия и других увлечений Хлебникова в области чисел см.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 119–130;
Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem ‘Poet’.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1979.
 88
88 Хлебников проявлял особый интерес к Скрябину, который, по-видимому, был взаимным. См.:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля: В. Хлебников.
М. 1983. С. 131–142.
 89
89 Ед. хр. 86, л. 46 об.
 90
90 Ед. хр.. 75, л. 2.
 91
91 Ед. хр. 118, л. 1.
 92
92 Ед. хр. 74, л. 24. Когда Хлебников говорит о
башне множеств (
СП IV: 82), он, возможно, имеет в виду не только
башню толп, но и
множества как наборы чисел, которые он выстраивает в
башни для составления математических выражений. См. также: СП IV: 3002.
Воспроизведено по:
Raymond Cooke. Velimir Khlebnikov. A critical Study.
Cambrige University Press. 1987. P. 67–103; 204–213.
Перевод В. Молотилова
Продолжение 
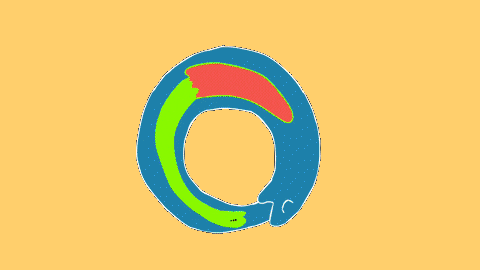
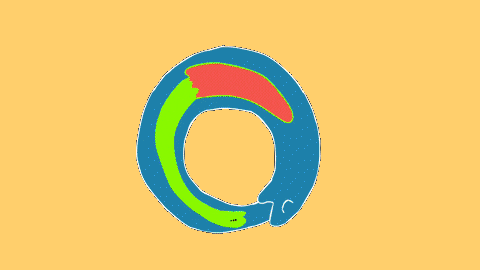



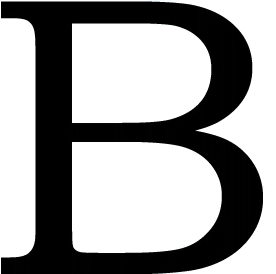 ероятно, большинство знатоков теоретического наследия Хлебникова согласится: осада башни слова — его главная битва. Поэт избегал бесплодных отвлечённых прений об искусстве (НП: 367), но споров о слове и языке это не касалось: налицо развёрнутое изложение взглядов. Хлебниковская осада башни слова имела решающее значение для русского футуристического движения.
ероятно, большинство знатоков теоретического наследия Хлебникова согласится: осада башни слова — его главная битва. Поэт избегал бесплодных отвлечённых прений об искусстве (НП: 367), но споров о слове и языке это не касалось: налицо развёрнутое изложение взглядов. Хлебниковская осада башни слова имела решающее значение для русского футуристического движения.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()