

Вероятно, болезнь эта несколько замедлила моё развитие и оказала влияние на детскую мою судьбу. Опасаясь за мою голову, мама всячески оберегала меня, и, наверное, самые серьёзные размолвки между родителями случались, когда вспыльчивый отец давал мне (заслуженный, наверное) подзатыльник. Опека моей „головки“ продолжалась и в школьные годы. Вместо того чтобы, как других детей, гнать в школу, мама уговаривала не ходить, отдохнуть, а то и „остаться на второй годик“! Прогуливать я прогуливал так усердно, что в школе меня прозвали гостем. Но на „второй годик“ оставаться не хотел. И каким-то образом дотягивал школьные дела и переходил из класса в класс.
Возможно, скудость ранних детских впечатлений связана ещё и с тем, что жили мы на девятом этаже, без лифта. И носить подрастающего младенца на руках было невозможно. Так что до той поры, пока я не смог ходить по лестнице своими ногами, жизнь моя протекала дома, с прогулками на балконе. Довольно широкие пролеты лестничных и балконных перил отец заплел проволокой, чтобы я не вывалился. А летнее дачное гуляние случалось в те трудные годы не каждый год. Игрушек тоже было немного, но зато и помнятся все: и мишка большой, плюшевый, и клоун Жако, и, конечно же, конь, большой, обшитый шкурой с настоящим мехом — бело-рыжий. Конь был на качалке, раскачиваясь на ней, я научился “скакать” по всей комнате и даже поворачиваться и снова скакать, не слезая с седла. Родители поощряли моё рисование, хвалили и радовались каждому рисунку, а пластилиновые мои фигурки отец формовал в гипсе и отливал, расплавляя свинцовые тюбики от масляных красок. И где он брал эти тюбики? Наверное, у своих вхутемасовских студентов, потому что ни ему, ни маме в те годы было не до масляной живописи.
Кроме двух красно-кирпичных высотных по тем временам корпусов, был во дворе и небольшой домик, где помещалось домоуправление. В этом же доме жил Татлин. Навещая его, отец брал иногда и меня ‹...›1![]()
В комнате его мне запомнился полумрак, добротная тяжёлая мебель, какой я тогда ещё не видел, глубокие кожаные кресла, бандура.
Образ Татлина, немного неуклюжий, бандура, протяжное украинское пение, несколько тяжеловесная речь контрастировали с подобранностью отца, отчётливостью в словах и движениях. Эти черты отражались в их творчестве... Отец навсегда поссорился с Татлиным после того, как Татлин оформил катафалк для похорон Маяковского. Пётр Митурич воспринял этот поступок как измену Хлебникову. А измен он не прощал! Помню, как мы шли с ним через двор. Вдруг отец резко убыстрил шаги, увлекая меня за собой, так что я еле поспевал. „Петя! Петя! Постой!“ — протяжно басил сзади Татлин. Его нескладная высокая фигура маячила среди двора. Татлин делал большие, но неуверенные шаги вслед за нами. „Петя!“ Но мы уже скрылись за поворотом переулка ‹...›
Мысли обращаются к прошлому. Вот мама готовит очередную посылку дедушке с бабушкой в Астрахань. Сама шьёт, стегает ватное одеяло. Поверху цветастая синяя набойка, а подкладка из ярко-красной, алой фланели. Она расстелила одеяло на полу подкладкой вверх, и я с неизъяснимым наслаждением ползаю по этому бескрайнему алому полю. На посылочных ящиках отец крупными буквами чернильным карандашом писал адрес. А я повторял эти буквы, скатывая тонкие колбаски из пластилина. Так и узнавал буквы и запомнил адрес — Астрахань, Большая Демидовская. (Только вот номер не помню — видимо, ещё не освоил цифры.) Но буквы, наверное, были позже, а в ранней памяти — бескрайнее одеяло и ещё песок пляжа, серебряная на солнце река. Отец купается, а я боюсь подходить к воде. Отец зачерпнул горсть воды и зовёт меня посмотреть рыбок. В просвечивающих на солнце розовых его ладонях сверкающими искрами сновали мальки. Подманив меня, отец взял на руки и выкупал. И ещё, видимо, тем же летом запомнилась горячая, мягкая как пух под босыми ногами дорожная пыль. Хвалынск? Тогда, значит, 1928 год и мне — три года ‹...›
Из моего повествования как-то выпала ещё одна бабушка — киевская, Александра Карловна, мать отца. Жила она с дочерью, тётей Юлией. Тётя Юлия с детства была больной, видимо полиомиелитом, и передвигалась лишь в коляске. Жили они в вечной нужде, и отец при всякой возможности посылал деньги и ей.
Был я совсем мал, когда отцу зачем-то понадобилось побывать в Киеве, навестить мать и сестру. Всю жизнь мечтая о полёте, он решил не ехать поездом, а лететь самолётом. На аэроплане, как говорили тогда. Из любопытства.
Мы с мамой провожали его. Видимо, мама очень волновалась, отправляя отца в неведомый полёт. И по пути домой мы зашли с нею в церковь. Первый раз в моей жизни. Там было тихо и мрачно. Над полом высились чёрные надгробия с изображением черепов и скелетов.
Перед войной церковь эту снесли.
В Киеве жил ещё и брат отца дядя Володя. Но он вовсе не мог помогать матери. Скромный инженер-строитель, он обременён был семьей из пяти детей — все девочки.
Наверное, через год после поездки в Киев отца мы с мамой тоже отправились на лето к бабушке Карловне в Киев. Не помню, чтобы бабушка очень мне понравилась, а тетя Юлия производила тягостное впечатление. В инвалидном кресле на колесах, с висящими как плети, непослушными руками. Жила бабушка на Миллионной улице близ Печерского базара, в похожем на сарай деревянном домике. Плохо помню, что было в доме. Но, видимо, скоро я начал бабушку Карловну сильно раздражать своей резвостью. Помню — лепила она пельмени, раскладывая на дощечку. Я же, прыгая, дощечку задел, рассыпал пельмени. Ну, и так далее.
Но к тому времени я очень подружился с соседским мальчиком Женей Печенковским. И добрая мама Женина — Александра Ильинична — взяла меня жить к себе. С утра запускала нас гулять в большой, заросший сад, а по вечерам купала в тазике с марганцовкой.
Мало что помню ещё о бабушке, а к тёте Юлии постепенно привык. Её выкатывали в сад, и она, собрав ребятишек, читала нам много интересного. Окрестные дети очень её любили.
Дядю Володю по Киеву не помню вовсе. Девочки его были старше и мною не интересовались. Наверное, я видел его один только раз, когда после войны он вдруг пришёл к отцу. Пережив оккупацию, принудительные работы, он не вернулся в Киев и поселился где-то под Москвой, у женщины, которая стала новой его женой. С нею он и приходил. Но больше встреч не было. Через какое-то время жена его пришла одна и сказала, что дядя Володя внезапно умер. Она принесла на память отцу янтарный мундштучок в кожаном футлярчике.
Освобождённая от меня Александрой Ильиничной, мама взялась за акварель и написала несколько небольших акварелей с сарайчиками и клумбами ‹...›
В Астрахань за ними поехал отец вместе с учеником-другом Павлом Григорьевичем Захаровым. А мы с мамой томились в бесконечном, как казалось, ожидании события. И вот усталые с дороги появились в сопровождении отца бабушка с дедушкой. ‹...› Все так устали с дороги, что весь прибывший с ними скарб оставили, выгрузив, у подъезда прямо во дворе до утра. И не было никаких пропаж. Во всяком случае, их не заметили. А переезжали они в одну нашу комнату из просторной астраханской квартиры, и при всей нелюбви отца к вещам, по настоянию стариков, привыкших к своим книгам, мебели, посуде пришлось взять очень даже многое. Дотоле пустынная наша комната, где я мог из конца в конец “скакать” на коне, заполнилась шкафами, столами, естественно — кроватями.
Перегородились ширмами так, чтобы у каждого был свой уголок.
Появилось и зеркало — большое, овальное в резной деревянной раме. Глядя в зеркало, мама как-то по-особенному складывала, поджимала губы. Меня забавляла эта её привычка. Сама же она не замечала этого.
 И теперь вот, когда я пишу эти строки, передо мною на стене висит её ранняя живопись, по поводу которой у меня были сомнения — автопортрет это или нет, пока не обратил внимания на лёгкий мазок, обозначивший губы и стало ясно — автопортрет. Именно так и складывала она губы перед зеркалом. Всегда.
И теперь вот, когда я пишу эти строки, передо мною на стене висит её ранняя живопись, по поводу которой у меня были сомнения — автопортрет это или нет, пока не обратил внимания на лёгкий мазок, обозначивший губы и стало ясно — автопортрет. Именно так и складывала она губы перед зеркалом. Всегда.
С увеличением семьи прибавилось и трудностей. За пять или шесть лет, прожитых в Москве, бабушка ни разу не спускалась с девятого этажа. Дедушка два или три раза в год выходил. Маме же приходилось теперь и доставлять провизию, и готовить на пятерых. Занятый днём во Вхутемасе отец работал, рисовал иллюстрации, когда все угомонятся. По ночам за своим столом, в своем углу дедушка продолжал давнюю свою работу — каталог птиц астраханского края ‹...›
Бабушка, скучая по инструменту, наигрывала пьесы на краю обеденного стола. Она пыталась учить меня французскому, но добренькая, никак не умела меня пристрожить, и я превращал уроки в кувыркание и прыганье. Но и теперь помню два-три французских стишка, да ещё „каше ля бонбон“. Это когда прятали от меня конфеты, тут же настораживался.
Перевозя Хлебниковых в Москву, родители мои наивно думали, что со временем родителям Велимира Хлебникова предоставят более удобное жильё. С просьбой о содействии обращалась и бабушка к институтской своей подруге Вере Фигнер. Тому свидетельством ответная открытка Фигнер, в своё время переданная мною в ЦГАЛИ. Тоже наивные надежды — Вера Фигнер сама жила в то время в приюте для престарелых революционеров ‹...›
Какая уж там живопись, когда всё было проблемой: и мытьё в большом тазу, и в этом же тазу стирка белья, а когда на натянутых над обеденным столом верёвках бельё сушилось, мама всё же бралась за карандаш и рисовала висящее на веревках бельё, пальто на вешалке, чайную посуду на столе ‹...›
Рождественские ёлки были тогда не в чести, но мама любила ёлочки, и где-то раздобывала их, сама клеила из бумаги, расписывала игрушки, гирлянды. А за недостатком пространства отец подвешивал ёлку вверх ногами к торчавшему в середине потолка крюку. Когда-то на этом крюке висела, видимо, люстра.
А ещё у меня смутные воспоминания об услышанном разговоре о предшественнике отца в этой комнате-мастерской архитекторе Ладовском, у которого к этому крюку была прилажена трапеция для физкультуры. И окончил будто бы Ладовский жизнь, повесившись на этом крюке. Во всяком случае, особенно во время болезней, когда лежишь и глядишь в потолок, крюк этот вызывал смутные страхи, тем более что бабушка, много читавшая мне вслух, любила Гоголя. «Страшная месть», ужас этого чтения врезался в память на всю жизнь. Так получалось, что все в доме заняты были своими делами, и бабушка больше всех занималась мною. Часами играли мы с нею в карты в “пьяницы”. Я увозил её в дальние края, для чего мой конь впрягался в два стула, и мы с бабушкой мчались, и она должна была рассказывать о том, что мы видели по сторонам. У отца есть рисунок, на котором запечатлено такое путешествие.
Но и дедушка, когда в хорошем духе, допускал меня в свой угол, предварительно прибрав разложенные листы своей работы. С ним мы листали книги по зоологии с красивыми цветными картинками, прикрытыми прозрачной калькой. Помнится мне запах сукна его блузы или толстовки, жёсткие, неудобные для сидения колени. Рука с негнувшимися пальцами и шишкой в половину грецкого ореха около них. Опершись на ружьё, он ехал в повозке, и ружье неожиданно выстрелило, пробив дробью кисть руки. И я помню всю жизнь его слова о “незаряженном ружье”, которое однажды стреляет. Ещё у него были большие серебряные карманные часы. Обычно часы эти лежали перед ним на столе. Но я просил дедушку открыть задние крышки. Их было две, одна, затем вторая, и тогда открывался чудесный, пульсирующий механизм. Его еле заметное движение и тиканье завораживало. Хотелось смотреть и смотреть, но дедушка со щелчком закрывал крышки и клал часы на место. Ему пора было возвращаться к своим занятиям, и я снова отправлялся под крыло бабушки ‹...›
Иногда, очень редко поминала бабушка „дядю Витю“, но говорила о нем так, что я вряд ли понимал, что дядя Витя — тот самый Велимир, о котором так много и с таким восторгом говорил отец. Правда, и отец, и мама старались, как кажется мне теперь, не напоминать родителям о близкой ещё тогда утрате сына. А на чудесное возвращение пропавшего без вести сына Александра — дяди Шуры, бабушка с дедушкой надеялись до конца своих дней.
 Прожив около полувека, бабушка с дедушкой обращались друг к другу на “вы”. И, раздражаясь, дедушка говорил: „Вы, Екатерина Николаевна, золотое долото!!!“ Но в отличие от тихой бабушки, дедушка мог и вспылить, и громко прикрикнуть на мои шалости. Но особенно страшно дедушка чихал, издавая звуки, похожие разве что на боевой индейский клич, так что не только я, но, наверное, все обитатели нашей комнаты вздрагивали.
Прожив около полувека, бабушка с дедушкой обращались друг к другу на “вы”. И, раздражаясь, дедушка говорил: „Вы, Екатерина Николаевна, золотое долото!!!“ Но в отличие от тихой бабушки, дедушка мог и вспылить, и громко прикрикнуть на мои шалости. Но особенно страшно дедушка чихал, издавая звуки, похожие разве что на боевой индейский клич, так что не только я, но, наверное, все обитатели нашей комнаты вздрагивали.
Дедушка с бабушкой прожили с нами около пяти лет. И вот дедушка заболел. Он упал на улице и сломал ребро, а затем случилось воспаление легких. И дедушка умер. Мертвым я его почти не видел. Меня отправили на весь день гулять. А к вечеру его уже в доме не было. Дедушку кремировали и урну с прахом отправили в астраханский заповедник, где он и похоронен. И на гранитном памятнике высечено — Владимир Алексеевич Хлебников. Директор-организатор.
Было это в 1934 году.
Бабушка пережила дедушку. Более того, может быть, в первый раз за эти годы мы выехали на лето на дачу в Звенигород, конечно, взяв и бабушку. И там, на воздухе, бабушка лучше себя почувствовала. Но я так, видимо, ошалел от вольной жизни, что совсем мало помню о бабушке ‹...›
Целыми днями удили мы с мальчишками мелкую рыбешку, до посинения купались в Москва-реке, Слегка оправившись в деревне, по возвращении в Москву бабушка снова стала слабеть. Ей все казалось, что дует, и она куталась в платки. А в 1936 году, ни на что не жалуясь, тихо скончалась ‹...›
Наверное, мама горевала и по дедушке, но тог да оставалась ещё бабушка, и горе было не так заметно. Но кончина бабушки ввергла её прямо-таки в неутешное горе ‹...›
Вспоминая о кончине дедушки, я забыл о загадочном, повергшем в общем-то не суеверную мою память в смятение, происшествии. У дедушки было маленькое карманное зеркальце (зерькило, как говорил он по-старинному). Так вот, разбирая вещицы покойного, мама обнаружила, что зеркальце это совсем почернело. Почерневшее зеркальце вместе с многими другими хлебниковскими вещами теперь в музее Велимира Хлебникова, в Астрахани.
Бабушку тоже кремировали, урну захоронили у крематория в Донском монастыре ‹...›
Надо сказать, что и на нашем чёрном ходу когда-то был лифт, грузовой. Действующим его никто не помнил. Но вот однажды явились рабочие и выломали все металлические двери, оставив разверзнутую лифтовую шахту. Ломая каменные ступени лестницы, сволокли электромотор и увезли куда-то. Лифтовая шахта долго оставалась открытой, наводя ужас на маму. Туда в девятиэтажную бездну и правда хотелось заглянуть, и захватывало дух. и кружилась голова. Потом, спустя годы, проемы шахты заколотили досками, а в помещение от лифтового мотора, где как раз помещалась кровать, заселился домовый слесарь дядя Никита с женой. Оба крупные — как они там помещались? И жили, без воды, без “удобств”! Правда, воду дядя Никита-слесарь как-то добывал из труб на чердаке, там же и справлял нужду. Дядя Никита, нужный всему дому всегда, особенно нужен был зимой. Очередной управдом, а они менялись чуть ли не всякий год, получив в доме жилье, уступал место следующим. Так вот, управдом, как говорили, для экономии тепла распорядился снять батареи почти на всех этажах нашей лестницы, оставив лишь в самом низу. И в морозы, тем более что дверь на улицу, с сорванной пружиной всегда была нараспашку, батареи замерзали и лопались, вслед за батареями замерзала и вода, и весь дом ходил с ведрами за водой во двор. Аварии эти цепной реакцией распространялись на квартиры. И тогда согревались лишь газовой плитой, но бывало и так, что останавливался и газ! Тогда, помню, отец приспособил для подогрева еды электрический утюг ‹...›
Ход был действительно чёрный ещё и потому, что на все девять этажей там горели обычно две-три лампочки. Отправляясь в зимней темноте в школу, я встречал там спящих бродяг. Помню, как замер я при виде лежащего на площадке дядьки. Увидев меня, он пробурчал: „Иди, иди, девочка, не бойся“. Ноги сами помнили исхоженные ступени. Но „девочку“ я запомнил. В детстве у меня были пшенично-золотые волосы, и мама никак не хотела их стричь. Естественно, дворовые мальчишки стали дразнить меня девчонкой. Только перед школой мама смирилась. Но перед тем, как остричь мои локоны, повела меня к фотографу и сняла во всей “девичьей” красе.
Довольно поздно получив право самостоятельно выходить во двор, я не адаптировался (как говорят теперь) к сложившейся дворовой иерархии, главари которой время от времени исчезали, по дворовым слухам — в тюрьму. Нас было три-четыре тихих мальчика, сторонившихся от главных дворовых событий. Основной, так сказать, двор не имел особого названия, но был ещё “Кланькин двор” — узкий закут за нашим домом, где мы в основном и пребывали. За вторым корпусом был ещё таинственный “бабий двор”, куда ходить было страшно. Не знаю почему, но мы никогда не решались туда забредать. В те годы по Москве ходили слухи, что детей заманивают конфетами, а потом варят из них мыло или делают котлеты. Достопримечательностью двора была паровая снеготаялка — широкий люк, к которому дворники на больших санях свозили снег. Из люка клубами валил пар и эта маленькая преисподняя притягивала наше любопытство. Даже странно, что никто из ребят в этот люк не свалился. Ещё была помойка — огромный ящик, кишевший крысами, куда ведрами и свертками несли мусор из всех квартир. Зимой от гниющих отбросов тоже шел пар, и порою, отбросы начинали шевелиться и возникал гревшийся в ящике бродяга ‹...›
По дворам ходили старьевщики — всегда татары. Зычно кричали „старьебурум“ — старье берем. Иногда и отец, высунувшись в окно звал старьевщика. И тот со своим мешком забирался на нашу верхотуру и заплатив какие-то копейки, уносил ставшие ненужными тряпки. У китайцев был другой промысел — они предлагали пищалки — “уйди-уйди” и шарики, прыгавшие на резинке. Безденежная детвора могла расплачиваться за игрушки пустыми бутылками. Бывали и бродячие музыканты. Так в исполнении такого бродячего дуэта я впервые услышал про "гоп со смыком" ‹...›
Говоря, что ходили по “чёрному ходу” мы одни, я забыл, что рядом, на той же лестничной площадке была ещё одна разделенная квартира, где жила соседка Софья Викторовна, которая тоже ходила по “чёрному ходу”. И если наш дом, в котором, несмотря на тесноту, где только можно висели картины и рисунки мамы и отца, был для меня первой галерей, то дом Софьи Викторовны был настоящим музеем древностей. Одинокая Софья Викторовна звала меня заходить к ней. В её комнате в хаотическом беспорядке было расставлено и развешано бесчисленное множество различных диковин. Особенно запомнились мне — японский, самурайский костяной панцирь и шлем и прочее вооружение.
Мраморные изваяния каких-то личностей, наверное, и старинные картины, и, главное, множество часов, больших и очень больших. Бронзовых, фарфоровых, деревянных. Все эти часы давно не ходили, и одной из причин тому, видимо, были наслоения пыли, грязи и кошачьей шерсти, покрывавшие жилье Софьи Викторовны и все эти предметы.
У Софьи Викторовны было две кошки — Петрик и Лилька. Мама боялась отпускать меня в эту стихию грязи, но меня неудержимо влекло к Софье Викторовне то, что она охотно разрешала мне “чинить” часы. Беспрепятственно я мог залезать в механизмы, крутить пружины, раскачивать маятники. Но все маятники, лениво качнувшись туда-сюда, снова останавливались.
Софья Викторовна работала библиотекарем в архитектурном институте, и о ней говорили, что она “из бывших”!.. Почему-то запомнился и такой случай: у мамы был красивый кожаный портфельчик, вернее бювар. Отправляясь гулять во двор, я взял его с собой и, разгуливая с бюваром под мышкой, встретил Софью Викторовну. „Какой красивый у тебя портфель, — сказала Софья Викторовна, — наверное, ты хочешь стать курьером, когда вырастешь“. Очевидно, озадаченный словом ‘курьер’, я рассказал маме об этом разговоре. И как не на шутку обиделась, рассердилась мама: „Как она смеет, Софья Викторовна, называть тебя курьером!“ Ведь я должен был стать художником, и только художником.
Софья Викторовна умерла как-то незаметно. И так же для меня незаметно в её комнату переселился слесарь дядя Никита с женой. А куда делись кошки и все её сокровища не знаю ‹...›
Вообще же дома эти изначально заселены были художниками Вхутемаса, и лишь постепенно художники вытеснялись другими жильцами, либо исчезали, как к примеру Древин. Хорошо помню его гулявшего в длинном пальто с Милордом — огненно-рыжим сеттером. Против нас окно в окно через двор жил Фаворский. В первом подъезде нашего дома — Родченко и Лавинский.
Лишь позже я узнал, что дочку Родченко зовут Варварой. В детстве все звали её Мулей. Мулю никогда не выпускали гулять во двор, и она сидела на девятом этаже на балконе. Не помню, с чего это повелось, но собравшись внизу на “Кланькином дворе”, куда выходил балкон, мы хором кричали: „Муля, кинь чего-нибудь“. И Муля бросала с балкона всякую всячину. Книжки, кубики, старые ботинки. Разок, кажется, настольную лампу...
Пробегал по двору лохматый Давидович. О нем я слышал, что он хороший художник, но вид у него был вполне нищенский, даже на общем нищеватом фоне ‹...›
В одной из подвальных квартир жила и работала Беатриса Юлиевна Сандомирская. Она ещё кое-как переносила назойливое наше любопытство, которое привлекали многочисленные, странного вида и больших размеров деревянные скульптуры. Но наш футбол оказывался серьезной угрозой её окнам. Тут уж она выскакивала в чем была и, страшно крича, прогоняла нас. Впрочем, такие полуподвальные, вровень с землей окна были всюду, и футбол встречал отпор во всех уголках двора.
Но и продолжался он недолго, потому что старшие ребята, как правило, отнимали мячик. На этом все и кончалось ‹...›
Среди моих друзей был мальчик Леня Менеc. Он тоже во дворе был “чужим”, потому что тетушка его жила в Риге, тогда за границей, и присылала какие-то маечки, штанишки, казавшиеся знаками роскоши разлагающегося Запада. С Ленькой связывало меня и то, что квартира их была на восьмом этаже, прямо под нами и, как, впрочем, все квартиры кроме нашей, имел выход и на “парадный”, и на “чёрный” ход. И в экстренных случаях можно было подняться до восьмого этажа на лифте. Робко позвонить к Менесам и, пройдя через коридор и кухню, выйти на чёрный ход — а там один этаж и дома. Но в квартире этой жили не только Менесы, но и Сварог с красавицей женой, в открытые двери его комнаты видны были ковры, гитары. Жила там и Вера Матвеевна, экономка недавно умершего художника Архипова. И неудивительно, что иные из них с укором смотрели на мои грязные ботинки. „Ходят, таскают грязь“. Мама моя, на чью долю выпадала участь приносить тяжелые сумки с продуктами, никогда не пользовалась возможностью подняться на лифте, не желая одалживаться. Я же, заигравшись во дворе до темна, боялся подниматься по пустынной темной лестнице. Иногда страх превозмогал неловкость — звонил к Менесам. И хорошо, если дверь открывал Ленька — тогда все сходило легко. А самой страшной была недвусмысленно бурчавшая Вера Матвеевна.
Кстати — однажды на нашей помойке я обнаружил кольчугу и шлем. Самую настоящую кольчугу. Напялив её на себя, я явился домой. Потом с трудом её сняли — в кольцах застревали волосы и выдирались по мере снятия. Потом ржавую, её вымочили в керосине и она обрела должный вид, равно как и шлем. Кольчугу и шлем отец повесил на стоявший в комнате мольберт. А впоследствии мама написала «Натюрморт с кольчугой». Оказалось, что кольчуга эта и шлем принадлежали художнику Архипову, а после смерти его Вера Матвеевна выбросила их на помойку.
Когда началась война и отец дежурил во время налетов на крыше, опасаясь градом падавших зенитных осколков, он надевал эту кольчугу и шлем ‹...›
Мне кажется, что в раннем моем детстве круг друзей отца был шире. В памяти раннего детства приходы Альперовича. Он увлекался фотографией, и на меня наводила ужас вспышка магния, применявшаяся тогда для съемки. На одной из детских фотографий, где я ещё в платьице, на лице моем застыл ужас ожидания неизбежной вспышки. Потом он как-то исчез. Почему — не знаю. Давний друг и сосед Петр Иванович Львов получил место преподавателя в Ленинграде и уехал из Москвы. К разрыву с другими друзьями приводил крутой нрав отца. Один лишь Сергей Михайлович Романович, не будучи учеником его, имевший собственные убеждения, взгляды на искусство, приводившие к горячим спорам, сохранил с Петром Митуричем добрые дружеские отношения ‹...›
 С Сергеем Михайловичем Романовичем отца связывала прочная дружба. Высокая фигура, жесты, поставленный голос делали его похожим скорее на актера, нежели на художника. Широкая небрежность манер затмевала дефекты костюма, и в общем он выглядел даже элегантно. Едва сойдясь и порадовавшись друг другу, они принимались спорить.
С Сергеем Михайловичем Романовичем отца связывала прочная дружба. Высокая фигура, жесты, поставленный голос делали его похожим скорее на актера, нежели на художника. Широкая небрежность манер затмевала дефекты костюма, и в общем он выглядел даже элегантно. Едва сойдясь и порадовавшись друг другу, они принимались спорить.
Сергей Михайлович был традиционно-духовного склада. Почитал Библию, Гёте. В придачу к Ван Гогу и Ларионову, на которых они сходились, обожал Рафаэля, Ге и Сурикова. И был глубоко верующим. Ценил он и Хлебникова, приспосабливая к своим взглядам, но Библия волновала его больше. Отец не был силен в Библии и, ерепенясь, не всегда находил, что ответить. К тому же Романович был глуховат. Распалялся он не так скоро, как отец, но когда расходился, то широкими жестами сметал со стола стаканы, а голос его рокотал. Отец метал свои язвительные стрелы в романовических кумиров: „Булочка, бесформенная, подкрашенная, сладкая булочка ваша Сикстинская. Только слепые, такие как Вы...“ Тут Романович начинал раскатисто хохотать. Хохотал заразительно, до слез, проводя по лицу ладонью, как бы умываясь смехом. „Эх, Вы, темный человек...“ — улыбался отец, а веселые глаза Романовича отвечали отцу тем же ‹...›
Жили мы в одной комнате и я, занимаясь своими детскими делами, оказывался невольным слушателем горячих его монологов — философски возвышенные воззрения отца с первых лет жизни, неосознанно, подсознательно впитывал сын, они окутывали его как воздух, составляли естественную атмосферу существования Петра и Веры Митуричей и близкого им “круга” ‹...›
Равно почтительные, даже преданные отцу ученики — друзья его, были очень разными. И в их отношениях возникали ревнивые нотки. Любимец Паша (Павел Григорьевич Захаров),2![]()
 Паша гордился своим рабоче-крестьянским происхождением (отец его был паровозным машинистом). Родом он из Владимира и пугал страшными рассказами о том, как в юности работал на Клязьме спасателем и как по ночам вылавливал баграми утопленников. „Вот, вот, пощупай“, — часто хвастался он, напрягая могучие бицепсы. — Это я на Клязьме нагреб. В студенческие годы он занимался боксом, но тренер, кажется, известный Королев, сказал, что к боксу он не пригоден — нет злости. Довольно рано Паша стал сильно напиваться. И маленькая сухонькая Таня, его жена, нещадно лупила его беспомощного и виноватого по щекам.
Паша гордился своим рабоче-крестьянским происхождением (отец его был паровозным машинистом). Родом он из Владимира и пугал страшными рассказами о том, как в юности работал на Клязьме спасателем и как по ночам вылавливал баграми утопленников. „Вот, вот, пощупай“, — часто хвастался он, напрягая могучие бицепсы. — Это я на Клязьме нагреб. В студенческие годы он занимался боксом, но тренер, кажется, известный Королев, сказал, что к боксу он не пригоден — нет злости. Довольно рано Паша стал сильно напиваться. И маленькая сухонькая Таня, его жена, нещадно лупила его беспомощного и виноватого по щекам.
Напиваться Захаров стал после тяжкого для него испытания. В 1934 или 1935 году он был арестован. Как говорил он потом, причиной было посещение не открывшейся ещё выставки наркомом Бубновым. Павел Григорьевич смело и резко возражал наркому, велевшему убрать с выставки хорошие, на Пашин взгляд, картины. Этого оказалось достаточно для ареста. Тогда не решавшаяся заходить даже в домоуправление мама отправилась хлопотать о Паше к наркому финансов Брюханову, который когда-то был у Хлебниковых домашним учителем. Наверняка эта её попытка была наивной и безнадежной. Но Паше повезло. Скоро арестован был сам Бубнов. А Пашу выпустили. Он пришел к нам сразу после тюрьмы, обросший рыжей бородой. Подвыпив, он рассказывал, как его били следователи. Говорил, что от побоев оглох на одно ухо (глухота осталась на всю жизнь). И страх доноса, ареста поселился в нем навсегда. С ужасом он пытался удержать от неосторожных высказываний отца. Но безуспешно.
Иного склада был Женя Тейс, потомственный интеллигент, он часто и порой едко подтрунивал над Пашей, над его сермяжностью. Паша тоже не оставался в долгу, намекал на слабость Жени к женскому полу. Иногда Женя приходил к нам после тенниса с ракеткой и мячами. С угрозой для посуды я пытался в комнате осваивать ракетку. И Женя Тейс казался выходцем из некоего иного мира. Всем остальным было не до спорта.
Были ещё два Бориса — Уханов и Винокуров. Они всегда приходили и уходили вместе. Оба тихие, корректные, они никогда не вступали в перепалки. В отличие от Паши и Жени, Борисы почти всегда приходили с папками, показывали новые работы.
Еще был Яша Тайц. Яша тоже охотно возился со мною, катал на закорках. Однако Яша оставил рисование и стал детским писателем. В трудные годы он пытался устраивать так, чтобы иллюстрации к его рассказам заказали отцу. Но редакции не соглашались. Говорили, что к тому времени в редакциях были тайные “чёрные списки”. И для попавших туда художников (конечно, и писателей) двери были закрыты. Более успешные бывшие ученики отца скоро от него отошли. Из-за несовпадения жизненных путей (об одном из них, получившем Сталинскую премию, отец сказал: „Так ему, мерзавцу, и надо“), возможно, и опасаясь не по времени свободой в речах, высказываниях отца.
 Еще был Моля Аскинази. У нас он бывал реже, но будучи художественным редактором журнала «Пионер», многие годы снабжал отца работой, из номера в номер «Пионер» выходил с рисунками отца. Аскинази болен был туберкулезом и умер в начале войны ‹...›
Еще был Моля Аскинази. У нас он бывал реже, но будучи художественным редактором журнала «Пионер», многие годы снабжал отца работой, из номера в номер «Пионер» выходил с рисунками отца. Аскинази болен был туберкулезом и умер в начале войны ‹...›
Ставшие друзьями ученики часто, едва ли не каждый день навещали отца. Но сами они, в большинстве своем не коренные москвичи, жили кто как. Райская, к примеру, ютилась в коморке под лестницей. Так что мы никого из них не навещали, в гости не выбирались почти никогда.
Исключением был Александр Васильевич Свешников. По крайней мере раз в год, на день рождения его сына Вовы мы отправлялись к Свешниковым в гости. Жили они на Рождественке во дворе архитектурного института, в доме с ажурными чугунными лестницами, выложенным, узорными чугунными плитами широким и длинным коридором. Сама же комната Свешниковых была, видимо, узким ломтем в одно окно, отрезанным перегородками от большого зала. Потолок был столь высок, что стены по площади своей намного превосходили площадь пола. И комната Свешниковых была буквально напичкана диковинками. Александр Васильевич был страстный коллекционер. Основу его коллекции составляли, видимо, русские монеты, складеньки, дымковские игрушки, но, как и у всякого коллекционера, у него появлялись и самые неожиданные предметы. Так, где-то высоко под потолком висела огромная труба — корняй. Были и раковины, и окаменелости, и ещё великое множество всякой всячины, расставленной и развешенной по высочайшим стенам, вплоть до заоблачного потолка. Коллекция выплескивалась в коридор, где у входа в жилище стояли резные каменные и деревянные скульптуры, вывезенные, видимо, с севера. Сам Александр Васильевич несколько стилизовался в русский стиль. Носил серьгу в одном ухе (по праздникам) и лихо наигрывал на балалайке и мандолине. Может, и на гитаре — все у него было. Жена же его, Елизавета Георгиевна, была англичанкой. До революции отец её держал лавку художественных красок и принадлежностей. Видимо, там с юных лет Елизавета Георгиевна научилась грунтовать холсты и всю жизнь пробавлялась грунтовкой холстов уже на продажу. Но Елизавета Георгиевна пекла вкуснейшие пирожки. И угощение у Свешниковых было всегда отменным. Наевшись до отвала, мы — дети, гости Вовки, вываливались из тесной комнаты в просторный коридор и носились там по чугунным плитам, натыкаясь на курсировавших в дальний конец коридора, в общую “коммунальную” кухню, хозяек из других “ломтей” этого, как говорили, Строгановского, некогда просторного особняка. Благополучие Свешниковых зиждилось на их трудолюбии. Мечтая, как и все художники отцовского круга, о летнем пленэре, Александр Васильевич всю зиму зарабатывал ретушированием фотографий для различных издательств. И, видимо, был хорошим специалистом, потому что всегда имел эту работу. Коллекционерские же наклонности никто из друзей художника не разделял. И круг его друзей-коллекционеров был особым, неведомым нам кругом ‹...›
Художники круга отца жили тесно, а о мастерских для работы и не помышляли. И зимой ловили всякий заработок в надежде выкроить летние месяцы для работы где-нибудь на природе. Зимой же, несмотря на то что жили мы на девятом этаже без лифта, едва ли не каждый вечер приходили к отцу ученики-друзья и вели нескончаемые беседы об искусстве. Точнее, говорил отец и больше о живописи, которая как раз была для всех для них наиболее трудно доступной ‹...›
 В свое время Наум Рейнгбальд был вполне благополучным, подающим надежды музыкантом, имел жилье и даже давал приют Велимиру Хлебникову. Вот за это и прощал отец Рейнгбальду все его выходки.
В свое время Наум Рейнгбальд был вполне благополучным, подающим надежды музыкантом, имел жилье и даже давал приют Велимиру Хлебникову. Вот за это и прощал отец Рейнгбальду все его выходки.
На моей памяти Рейнгбальд был уже давно спившимся, бездомным, бродячим скрипачом. Когда внезапно, всегда зимой, раздавался громкий стук в нашу дверь, отец по стуку узнавал его и через дверь спрашивал: „Рейнгбальд, вы пьяны?“ И если по голосу казалось, что не совсем, не буйно пьян, отец впускал его. Особенно зимой. Согреться. Входил Рейнгбальд с неизменной скрипкой, всякий раз по-разному, но неизменно странно одетым. Помню его и в “буденновке”, и в широкополой с перьями шляпе, в шинели на голое тело. Нередко он извлекал из кармана бутылку и призывал выпить с ним. Широким жестом открывал футляр скрипки и вываливал на стол груды мелкой монеты — подаяние уличных прохожих.
Иногда он рыдал, вспоминая Зарочку — Зару Левину — известного тогда композитора, бывшую его невесту. Порой же скандалил, чего-то требовал от отца. Лицо его всегда в ссадинах от побоев, то сломан нос, то затекший глаз. Но больше чем свой нос оплакивал он скрипку, которую ему тоже ломали. Каким-то образом добывал он новые. Играл он на улицах и по поездам, разъезжал по всей России. И били его и по пьянке, и в милиции, куда он регулярно попадал. Но остепениться не мог. Да и как было ему остепениться, если он давно утратил и жилье, и прописку, и музыкальный свой талант. Самым страшным испытанием для отца была его игра. Когда он доставал скрипку и начинал громко и самозабвенно музицировать, отец зажимал в ужасе уши.
Мама предлагала ему поесть, но как многие горькие пьяницы, он почти не ел. Тогда мама стелила ему где-нибудь на полу, подальше от Маечки. И допив свою бутылку, он погружался в тяжкий с вскриками и храпами сон. Выспавшись, собирал свое имущество и снова исчезал на несколько месяцев.
Однажды, определив через дверь, что он очень пьян, отец не впустил Рейнбальда в дом. Побуянив, он затих, но скоро потянуло гарью. Оказалось, что, озлившись, Рейнгбальд поджег обивку двери и тут же на площадке, в дыму заснул. Но ни пьянство, ни побои, ни спанье на холодной мокрой земле, в снегу не могли сломит его могучее здоровье... Когда-то отец нарисовал его. Портрет этот в Третьяковской галерее ‹...› \
К этому времени я уже подрос — тринадцатый год, но почти не помню зимние школьные дни, годы. Когда после смерти дедушки с бабушкой стало возможно собирать друзей, событием года стала у нас “Кальпа”, как разъяснял отец, новый год по Хлебникову — в день солнцеворота — 24 декабря.
Приближение “Кальп” ощущалось загодя. Отец расхаживал по комнате с томиком Хлебникова и, бормоча под нос, освежал в памяти стихи; мама запасала угощение. Потом мы садились с отцом клеить из картонной бумаги какую-нибудь небольшую декорацию, состоявшую из цифр года или иллюстрировавшую какое-нибудь место из стихов Хлебникова. С утра 24 декабря отец обычно отправлялся к нижним соседям с просьбой пропустить через квартиру, если кто-нибудь из более пожилых решит подняться на лифте. В этот день комната наша преображалась. Убирались ширмы, раздвигался складной обеденный стол, приставлялся к рабочему отцовскому. Недостаток стульев восполнялся положенными на табуретки досками. Мама успевала приготовить винегрет, салаты. Однажды даже жарила чебуреки. Гости приходили с авоськами — с мандаринами, бутылочками. Иногда собиралось человек до двадцати.
Гости приходили по-разному. Большинство поздно, в 11-м часу, как на Новый год, но некоторые приходили пораньше — может быть, чтобы помочь по хозяйству.
Когда раздавался оглушительный стук в дверь — все знали — это Корвин. Он был совершенно глухой и всегда дубасил что есть мочи.
Отец восседал на своем обычном рабочем месте, которое оказывалось теперь во главе стола, в свеженькой голубой рубашке (он считал голубой цвет цветом “Кальпы” и на одну из “Кальп” мы выкрасили в голубой цвет его седые волосы).
Понемногу народ собирался, в основном это были бывшие ученики, но теперь они подразбрелись и многие только и встречались раз в год на “Кальпах”. Между ними завязывалась обычная беседа: кто, да что, да как. Царило оживление и нестройный гул голосов.
Среди этого гула был слышен голос Паши: „Майка, Майка, — кричал он, — иди сюда. Вот почему — так задевает, а так не задевает“, — и проводил пальцем по носу. Шутку эту я знал давно, но всегда был рад повозиться с Пашей. „Паша, Паша, помолчите немного, — говорил отец. — Пора начинать! Ну, кто самый храбрый?“ Это значило, что настало время просмотра работ. Наверное, самым храбрым оказывался тот, кому в этот год удавалось получше поработать, потому что все давно и хорошо знали друг друга, и стесняться было некого. По “правилам” каждый должен был являться с папкой. Но соблюдали правило далеко не все. Самый регулярный любимый участник — дядя Паша — никогда не показывал рисунки. Боялся критики? Мало работал? Наверное, и то, и другое. Его заела преподавательская работа.
Часто открывал просмотр Александр Васильевич Свешников. Его покритиковывали, но отец ценил в Свешникове настойчивость в работе и продуктивность. „Ничего, ничего, — подбадривал он, — ещё посмотрим, что покажете вы“. Александр Васильевич готовился к “Кальпе” тщательно, рисунки приносил в больших и хороших паспарту.
Просмотр шел своим чередом, высказывались все, но последнее слово оставалось все-таки за отцом. Вспоминаю конкретные разборы, которые делал по поводу каждого рисунка отец, и мне кажется, что они несколько отличались от тех общих теоретических высказываний, в которые облекал отец систему своего понимания искусства. Говорилось о цельности. „Живо, живо“, — говорил отец. Или наоборот: „Суховато. Вот здесь фальшивит“. И всем было понятно, где действительно живо, а где фальшивит. И теперь мне думается, что почти такими же словами обсуждали работы и там, где не могли понять его трактат и иные теоретические рассуждения, приносившие ему столько хлопот и огорчений.
Юрий Корвин был совершенно глухим. Когда завязывалась беседа, кто-либо из присутствовавших писал на бумажке для Корвина все, о чем говорилось. Бумажки эти Юрий уносил с собою, собирая материал для монографии о Петре Васильевиче.
Последним “показывался” отец, и его смотрели с энтузиазмом, иногда даже с аплодисментами. Не только потому, что он пользовался авторитетом бывшего учителя, но и потому, что в его работах каждый год появлялось что-то новое, порой неожиданное. Очень любили и его, и его творчество ученики. Мама живопись свою не показывала, считая, что при электричестве показывать негоже. Отец подбивал показать и меня. Но у меня бывало — раз-два и обчелся. Уже после двенадцати приходил Сергей Михайлович Романович с женой Марией Александровной Спендиаровой — Мирой. 24 декабря, на католическое Рождество, они ходили в костел, слушали мессу, любили органную музыку. А после — к нам. К этому времени мы с Вовой Свешниковым уже перебрасывались мандаринами. Балагурил подвыпивший Паша, а дальние гости собирались по домам.
После разминочной, так сказать, паузы, отец снова брался за стихи. Но, кажется, не обижался, если не очень и слушали. Разве что дядя Паша начинал очень уж дурачиться и задирать друзей. Однажды за шумное поведение он был отлучен от следующей “Кальпы”, да и от дома. Но скоро и прощен. Все скучали без дяди Паши.
...А утром разбирались столы, расставлялись по местам ширмы и 31 декабря, когда все праздновали Новый год, у нас царила будничная тишина. Отец знал, что все, кто был у него на “Кальпе”, пируют теперь за новогодним столом, знал он также, что разгоряченные и воодушевленные очередной беседой на 9-м этаже друзья, уходя домой, снова принимались за будничные дела.
Отец любил своих учеников, многих считал безусловно одаренными и хотел от них большего, хотел увидеть их самостоятельными художниками. Но время шло, молодые седели, но оставались пусть верными, пусть преданными, но все же учениками ‹...›
Представление о “школе Митурича” по сей день весьма смутно и неопределенно, поскольку никем не было изучено и сформулировано. И если говорить о “школе” применительно к прямым ученикам Митурича, то наиболее близкие, сохранившие с ним связь на долгие годы, в столь же значительной степени находились и под влиянием Веры Владимировны Хлебниковой. Так что их “школа” представляет собой сплав этих двух достаточно сильных влияний. Зимой, когда в ожидании летней пленэрной работы всяк занят был своим делом, надеясь подзаработать на лето, вечерние разговоры вел Петр Васильевич. Вера Владимировна никогда не участвовала в теоретических рассуждениях, которые велись главным образом о живописи как наиболее полной форме художественного выражения. Но летом, когда целой колонией поселялись то на юге в Крыму, то в подмосковной деревеньке, Вера Владимировна как бы выступала на первый план. Все, включая и самого Петра Васильевича, несли свою живопись к ней на суд ‹...›
Тридцать шестой год был не только горестным, но и удачным. Отец получил заказ... Появились деньги. И на все лето мы поехали в Солотчу. Да не просто так. А ещё и с поварихой — Лаврентьевной, которая должна была освободить маму от хозяйства для живописи. Места солотчинские знал и присватал Павел Захаров, его жена Татьяна Захарова была родом из тех мест. Но и более того — решено было произвести ремонт обветшавшего нашего жилья. Кто-то порекомендовал опытного мастера Мальцева. Мама долго подбирала светло-серый колер для стен. А дощатый наш пол решено было покрыть левкасом и покрасить блестящей, коричнево-красной краской. В Солотчу мы уехали, оставив Мальцеву ключи от дома, а к возвращению он должен был все и закончить.
 До Солотчи добирались поездом, до Рязани и затем пароходом по Оке. А надо сказать, что к тому времени у нас, у меня, конечно, завелась ручная белая крыса. Мама нарекла её Кулевриной, а вскоре Кулеврину полюбил и ворчавший поначалу отец. Полюбила его и Кулеврина, забиравшаяся к работавшему за столом отцу на плечо. Когда она начинала слегка досаждать, лтец бросал её на тахту. Но Кулеврина не обижалась и тут же прибегала обратно на плечо.
До Солотчи добирались поездом, до Рязани и затем пароходом по Оке. А надо сказать, что к тому времени у нас, у меня, конечно, завелась ручная белая крыса. Мама нарекла её Кулевриной, а вскоре Кулеврину полюбил и ворчавший поначалу отец. Полюбила его и Кулеврина, забиравшаяся к работавшему за столом отцу на плечо. Когда она начинала слегка досаждать, лтец бросал её на тахту. Но Кулеврина не обижалась и тут же прибегала обратно на плечо.
Естественно, что и Кулеврина двигалась с нами в Солотчу. В коробке из-под торта с дырочками для воздуха. Лето 1936 года было не просто жарким. Знойным. Душно было в вагоне, душно в каюте парохода. Словом, несмотря на отдушины, Кулеврина таки задохнулась в своем узилище, так и не добравшись до Солотчи.
Дачников в те годы было немного, и легко нашелся хороший просторный дом, так что мама могла писать не только на пленэре, но и дома. Она уговорила позировать местную девочку-смуглянку обнаженной и сделала с нее акварель, а потом и масляную живопись. Теперь этот холст, так же как и солочинский пейзаж, писаный на берегу Старицы, в Государственном Русском музее. Кроме живописи, рисунков, отец вернулся к давним своим замыслам — строительству “волновиков”. Подробнее о “волновиках” следует рассказать отдельно, а там, в Солотче, они с Пашей Захаровым стали строить “волновик-скакунец”. Нечто вроде деревянного кенгуру на шарнирах и пружинах или, скорее, резиновых амортизаторах. Сев на скакунца и раскачиваясь, надо было заставить его прыгать и так передвигаться. Но беда была в том, что лишь начав подпрыгивать, скакунец сбрасывал седока.
И чтобы как-то его объездить, Павел Григорьевич, которого привычнее для меня звать дядя Паша, и отец отправились к одиноко стоявшей в поле раскидистой березе. И дядя Паша должен был привязать отца к суку веревкой, чтобы, падая со скакунца, он не так ушибался о землю. Их действия издалека заметили местные мужики. Впечатление было усугублено тем, что отец летом ходил в белых (в тех местах неизвестных) брюках.
Словом, мужики решили, что один приезжий раздел другого до исподнего и средь бела дня вешает на суку. Кажется, явившейся вскоре власти не просто было объяснить подлинные намерения ‹...›
В Солотче же дядя Паша и отец решили учить меня плавать. Взяв меня на руки, они заходили в речку по грудь на некотором друг от друга расстоянии и бросали меня в воду с тем, чтобы я плыл от одного до другого. Но пугаясь, я барахтался, захлебывался. И раздраженный моей неспособностью отец откладывал урок на другой день. Напуганный их методом, я решил учиться сам. На не очень глубоком месте я поджимал ноги и научился задерживаться на воде, а скоро и поплыл по-собачьи. Так что, к удовольствию отца, к концу лета переплывал Старицу. Нескладность моя раздражала всегда подтянутого с кадетского детства выправленного отца.
Гулять он любил с тросточкой и донимал меня, довольно больно стукая по лодыжкам — „не косолапь“!
В Солотче у нас появился новый жилец — нырок. Видимо, молодого, ещё не летного его поймали на забаву деревенские ребята. И я то ли выпросил, то ли выменял его на что-то. Мама нарекла нырочка Тутиком, и он очень быстро стал ручным настолько, что я носил его купаться на реку, и он снова ко мне возвращался. Я заметил, что Тутик с особым удовольствием ест крупных кузнечиков. И я, задумываясь о рационе Тутика, когда он поедет в Москву, занялся заготовкой кузнечиков, которых в то знойное лето в выгоревшей как в Сахаре траве было великое множество.
Кузнечиков этих я нанизывал на нитки и сушил впрок. Однажды в поисках кузнечиков я забрел к какому-то одинокому строению. И заглянув во внутрь, убедился, что строение это было бойней. Как раз при мне оглушили обухом и прирезали бычка. Больше туда я не ходил.
Тутик неловко шлепал на своих ножках-ластах по полу и очень ловко склевывал мух, которых тоже было множество ‹...›
Полюбили Тутика все, кроме Лаврентьевны. В её обязанности входило следить за чистотой полов. А Тутик мало ей в этом помогал. И однажды Тутика нашли мертвым. Доказательств не было, но все заподозрили Лаврентьевну. За Лаврентьевной открылся и ещё один грех. К концу нашего пребывания в бурьяне, под крыльцом образовалась целая гора четвертинок из-под водки.
Дождей не было. Зной все усиливался и потянуло дымом — горели торфяники, где-то и леса. И вдруг телеграмма из Москвы. В московском доме пожар! Как узналось потом, горела та самая площадка, где отец сделал столько рисунков. Горел чердак. Огонь не тронул наше жилье, но пожарники каким-то образом сумели залить водой весь мальцевский ремонт. Потеки покрыли потолок и стены, а роскошные левкасовые полы вздулись и раскрошились. Воды было столько, что подмокли стоявшие на полу папки с рисунками и литографиями. Многое пропало. И конечно — столь ожидаемый ремонт. Повторить ремонт уже никогда не решались и так и жили с подтеками и облупленным полом многие, многие годы.
Но все же лето это ознаменовалось возвращением мамы к живописи. Кроме «Старицы» и «Обнаженной» она написала ещё и девочку в красном берете. Это было немало при её вдумчивом и неспешном способе работы. Кроме большого количества рисунков и отец написал большой (самый большой в его наследии) холст, тоже у Старицы.
Без сомнения, он написал больше, но по своему обыкновению уничтожил холсты, которыми не был доволен ‹...›
Отец не любил жаловаться, и я не слышал, чтобы он с кем-то обсуждал и не знал, не подозревал, какие мрачные тучи сгущались над его головой. Уже опубликована была статья «Карлик и Солнце» в газете «Советское искусство».
Поводом для этой статьи явился отцовский “трактат” об искусстве, где, среди прочих крамольных по тому времени суждений, отец критиковал живопись Репина. В то время отец преподавал на “курсах повышения квалификации художников” и для “обкатки” стал читать свой “трактат” студентам. По доносу “трактат” попал в “инстанции”, и закружилось дело, которое чудом не кончилось арестом ‹...›
Не любивший говорить на эту тему отец упомянул как-то о встречах со следователем, который на его счастье оказался вполне интеллигентным и кроме суждений художественных никакой политики в “Трактате” не усмотрел. Но тень подозрения пала на всю его деятельность, включая его искусство.
Стараниями критиков, из реалиста он превратился в злостного формалиста ‹...›
Мы с другом Аликом выходили за пределы двора, в соседний чайный магазин, называвшийся у нас чаеуправление. И, купив кулек конфеток подешевле, бродили по улице... Разгуливая по окрестностям, мы мечтали. Мечтали о разном, но главным образом о детском велосипеде. У Алика был дядя Петя, инженер. И этот дядя Петя уехал в командировку в Америку. А по возвращении обещал привезти Алику американский детский велосипед. Велосипед этот виделся нам как некое сверкающее чудо. И я ожидал Аликов велосипед, наверное, с не меньшим нетерпением, чем сам Алик. Но время шло, а велосипеда, как и самого дяди Пети, все не было. И разговоры о дяде и велосипеде как-то увяли и кончились. Думаю, что по возвращении из Штатов дядя Петя был арестован. А родители, скрывая от Алика причины, запретили ему мечтать о велосипеде.
А вот у меня, и правда, случилось чудо. Однажды отец принес, подарил мне самокат. Но не такой, какие ребята строили сами из досок и подшипников. Блестящий никелем, с колесами на резиновых шинах, со звонком и тормозом, самокат этот к тому же легко разбирался, руль отделялся от подножки и его легко было уносить домой. Служил он мне несколько лет, ломался, чинился. И где он нашел такой? Явно заграничный и не новый — в комиссионном? На барахолке? А в магазинах появились воздушные ружья. Без больших надежд на новое чудо я все же стал намекать отцу, что очень уж хочется. И вдруг он пообещал, что когда исполнится мне 12 лет — будет ружье. И опять ожидание — теперь двенадцати лет. И действительно, у меня появилось ружье!
Уже дома все с увлечением стреляли в цель: и папа, и даже мама и, конечно, заходивший дядя Паша. Дядя Паша даже соорудил, принес мне мишень в виде скворечника. При попадании в цель величиной с монетку из скворечника выскакивал красный флажок. Но самое-то замечательное было впереди. Дела (материальные) у отца шли хорошо и на лето мы собирались в Крым! В Судак, в котором мама была ещё с матерью и братом Виктором ‹...›
Ехали поездом до Феодосии, опять двумя семьями, с Захаровыми. После утомительной для глаза равнины мама сказала, что скоро Джанкой и там из окна видно будет море. Отец тоже не видел моря, и мы прильнули к окну. Какой же чудесной показалась голубая полоска моря. А в Феодосии море плескалось уже у ног. На горной дороге меня укачало, и в Судак я прибыл еле живым. Но на твердой земле морская болезнь быстро уходит.
У автобусной станции ожидали два транспортных средства — телега с белым тентом, под которым восседал невероятно толстый возница, как говорили — цыган. Худенькая его лошадка была немного крупнее конкурента — рыжего осла с хромым, на деревянной ноге поводырем. Кем-то наученные, мы везли крупы, сахар, какие-то консервы и другие продукты. Ещё этюдники, папки, краски. Наверное, столько же и Захаровы, которые ехали ещё и с бабушкой и с двухлетней дочкой — Иркой-пупыркой. Мы погрузили узлы на цыганскую повозку, а сами гуськом двинулись в путь. Не знаю, каким путем разведали родители дом под Алчаком, где мы остановились. Но дом этот, без сомнения, — лучшее место в Судаке. Домик этот на отроге горы Алчак отделен от города широкой долиной виноградников. Хозяйка Христина Антоновна, крымская немка, взялась для нас готовить, чтобы опять освободить маму для живописи.
И хотя сама она, её родители и деды жили в Крыму, по-русски она говорила очень и очень по-немецки. Хозяин — Сергей Алексеевич Кономопуло — грек. Плотник и рыбак.
Дом Кономопуло состоял как бы из двух половин. В одной поселились мы — в другой Захаровы. Сами хозяева переселились в сарайчик. Наверное, это лето было самым счастливым для всех нас ‹...›
 Мама и отец принялись за работу. За рисунок, живопись. Я же наслаждался открывшимся новым миром и, конечно, — ружьем.
Мама и отец принялись за работу. За рисунок, живопись. Я же наслаждался открывшимся новым миром и, конечно, — ружьем.
Изрядно обгорев на солнце в первые дни, все мы стали покрываться настоящим южным загаром. На каменистой почве очень скоро туфли мои сгорели. Кожа на подошвах отвердела, и я стал бегать босиком. Скоро обзавелся и закадычным другом Васькой и, прихватив ружье, а Васька удочки, мы отправлялись на добычу. А для оправдания кровожадных нападений на птичек брали с собою алюминиевую тарелку, если не забывали — кулечек соли и спички.
И всех пойманных рыбешек и подстреленных мелких птичек жарили на алюминиевой тарелке и грызли превратившиеся в сухари тушки.
Гора Алчак замыкает судакскую бухту. И если где-то в средней части пляжа, где дома отдыха и санатории, виднелись группки купальщиков, то у Алчака всегда было пустынно. А уж за Алчаком простиралась Капсель — мертвая бухта, где в те годы не было ни души. Там, в Капсели, отец делал рисунки с обнаженной мамы. Там и купались. Покрытая скудной солончаковой растительностью, холмистая равнина Капсели простиралась до мыса Миляном, до которого по берегу, как говорили, восемнадцать километров. Туда-то, под Миляном, и отправились мы с Васькой с ночевкой.
Двинулись в жару, налегке, прихватив спички и немного съестного. Не спеша, купаясь, забрасывая то тут, то там удочки добрались наконец до круч Милянома. И поудив на закате, отправились на ночлег. С заходом солнца горячий песок начал остывать, и скоро мы уже жались друг к другу, дрожа от холода. Где-то близко завыли, затяфкали шакалы. Мы же, окончательно замерзнув, решили греться в море. Вода действительно показалась теплее. Но и в море согреться не удалось. Ночь была лунной, и мы начали собирать по берегу сухие корешки и щепки, выброшенные на берег волнами. Развели костерок и спасались им до утра. До сих пор помню животворное тепло первых лучей восходящего солнца. Согревшись, мы прилегли и тут же уснули, наверное до полудня, когда раскаленные солнцем забрались спасаться, теперь уже от жары, в море. По счастью, научившись в Солотче плавать, в Судаке я плавал не хуже других мальчишек, и нырял, и прыгал с высоких камней в воду. Словом — освоился.
А в Судак вслед за отцом и Захаровым приезжали ещё друзья-художники — приехали Свешниковы с сыном Володей, Моля Аскинази, Юрий Корвин. Они поселились в немецкой колонии, на другом краю бухты, под горой Сокол, у подножия Генуэзской крепости.
Считается, что судакская бухта от Алчака до Генуэзской крепости около трех километров. Работая с утра всякий в своих угодьях, все друзья сходились у середины залива, у чебуречной Джинибека.
Там, с чебуреками и рислингом, вели беседы, конечно же, снова об искусстве. Купались в теплом море и снова согревались рислингом и чебуреками.
По полстакана вина перепадало и нам с Вовой Свешниковым. А порою, оглянувшись на маму, дядя Паша подливал и побольше.
Мы становились веселыми и ловкими, кувыркались на песке, тормошили и задирали взрослых, которые охотно дурачились с нами. Шутили. Расходились уже в темноте, пытаясь узнавать, вспоминать названия звезд, созвездий. Однажды, бродя как обычно в окрестностях дома, я увидел дядьку, который нес за лапки, как носят кур, — двух воронят. Не ворон, а чёрных воронов. Почему-то я сразу узнал их, хотя прежде видел разве что на картинке. Каким-то образом у дядьки их выпросил и водворил на нашей веранде. Поправив перья, они стали громко просить еды. А поев, успокоились, устроились на веранде. На веранде лежала открытая книга — мое чтение «Тиль Уленшпигель». Видимо, ветерок пошевелил страницы, и новые питомцы изрядно потрепали книгу своими клювами. Книга эта со следами их клювов и теперь сохранилась у меня.
А за подвиг этот нарекли их Тиль (был побольше, покрепче) и Нели — посубтильней.
Став совсем ручными, воронята дополнительно скрасили нашу жизнь. Научившись летать, они провожали меня в моих охотничьих прогулках. И мелкая моя добыча теперь доставалась им. А по вечерам усаживались на рамы открытого окна и пытались ловить клювами клубы дыма отцовских папирос.
Тогда в Крыму жили татары, но жили они не у моря, где-то в горах. И вот изредка к нам являлся татарин по имени Исмаилис. Он приносил яйца, баранину. Бывали с ним и казусы, так, купив у него яйца, мама разбила одно, и оно оказалось тухлым. Разбила другое — тоже. Смущенный Исмаилис начал разбивать яйца одно за другим, и вся партия оказалась тухлой. Но это был случай из ряда выходящий. А было так — идет к нам Исмаилис, несмотря на жару, в своей лохматой бараньей шапке, и вдруг озорник Тилька спикировал и схватил шапку с головы. Ох, и напугался же, даже огорчился Исмаилис.
Бывали шутки и посерьезней, когда дальние соседи жаловались на пропажу цыплят, а садоводы — на пропажу овощей и фруктов. Но мы любили и защищали наших питомцев. Паря высоко в небе, их родичи заметили соплеменников, кружились и звали их гортанными кликами. И наши летели к ним. Гостили долго — и два, и три дня. И вдруг внезапно падали с неба с отчаянными воплями: есть, есть. Несытно, видать, бывало в гостях. Однажды отец писал на взгорке. Налетел Тилька и схватил из этюдника тюбик охры. И как ни увещевал его отец, он, отлетев на приличное расстояние, расклевал тюбик и охру съел. Что же будет с Тилькой? Как его лечить? А ничего с ним не было. Как ни в чем не бывало.
Но вот к осени (а мы жили там чуть ли не четыре месяца) по степи стали бродить охотники. В поисках перепелок. Сели такие охотники у нас на взгорке есть арбуз. Тилька к ним — попрошайничать. Любил очень арбуз. А тут бах... и не стало Тильки. Не успели отгоревать по Тильке, сходная участь настигла и Нельку. Так и окончилась короткая их жизнь и наша с ними дружба. Мама сочинила о них рассказ, гораздо лучше моего ‹...›
В Джубге вдруг потянуло меня рисовать. И, не спросясь отца, я схватил несколько листов из небогатого его запаса хорошей бумаги, ватмана. И чуть не в один присест, подражая отцу, испачкал их тушью.
Отец не похвалил меня. Правда там же в Джубге были у меня и первые опыты живописи маслом. Присаживаясь рядом с мамой, я, наверное, пытался подражать ей. В Джубгу тоже съехались многие из учеников отца. Опять зажили дружной и веселой компанией, всякий вечер сходясь на берегу. На каменистом и корявом пляже в Джубге вспоминался шелковый песок судакских пляжей. Один из соседей, местный джубгский житель, был охотником. Была у него и гончая по имени Догоняй. А ещё был каким-то образом пойманный олененок. Рыженький, в белых крапинках, совсем ещё маленький (наверное, это был теленочек косули). Олененок совсем меня заворожил. И я стал мечтать о том, чтобы олененок этот стал моим. Стал бы совсем ручным, и я видел его уже у нас в Москве, на девятом этаже. И даже начал обрабатывать потихоньку маму. Странно, но я не помню твердых возражений маминых, что это невозможно, держать оленя в комнате на девятом этаже. Что очень скоро малыш подрастет и станет оленем. А ведь шел 1938 год. Мне было уже тринадцать лет! Такие вот были мечты ‹...› В том году (1938) отец получил заказ на серию литографий «На родине Сталина» и после Джубги поехал в Гори. А мы с мамой перебрались в Анапу. Хотя в Джубге я тосковал по полюбившемуся Судаку, Анапа после Джубги, зеленой и гористой, показалась пыльной пустыней. И знаменитый анапский детский пляж, где можно было чуть не до горизонта уходить в море — и все по колено, наводил тоску после Судака, где можно было нырять с камней, со скал, и плавать вволю. И нырять-то в Анапе нельзя, потому что постоянная на мелководье взвесь песка разъедает глаза. Мама взялась за акварель ‹...›
Я же утешился знакомством с охотником. Осенью, когда поджигали жнивье, из бегущего по стерне огня выпархивали перепелку. Дядя-охотник (не помню, как звали его) — палил, а я вместо собаки искал добычу. Как же трудно разглядеть, увидеть перепелку, даже и не затаившуюся, а убитую.
В Москву отец вернулся с хорошим урожаем рисунков. После Гори он побывал ещё и в Батуми и там впервые увидел тропическую растительность.
Новые яркие впечатления вдохновили его на замечательные батумские литографии.
Отец, как обычно, не любил говорить о неприятностях утеснениях. И лишь позже узнал я, что когда художественное начальство узнало, что он готовит серию «На родине Сталина», в литографскую мастерскую пришел приказ — немедленно счистить камни, уничтожить оттиски. Отег считал, что приказ исходил от Александра Герасимова.
Так, не глядя, уничтожили его работу. Правда, мастер-литограф утаил несколько пробных оттисков и отдал отцу.
Хорошие рисунки — пейзажи Гори, павильон с мемориальным домиком и одиноким охотником около него, интерьер сакли и даже школа, где учился Сталин, с целым классом юных учеников. Почему же уничтожили, не посмотрев даже? Видимо, имя Митурича не должно было возникать вблизи к сталинскому ‹...›
И снова зима, о которой ничего не помнится. Но маме в Джубге работалось хорошо. Джубгская живопись её теперь в астраханской галерее и в Государственном Русском музее. “Расписавшись”, она продолжала писать и в Москве — натюрморт с кольчугой. Пейзаж из нашего московского окна ‹...›
И снова лето в Судаке. Мы живем опять у доброй Христины Антоновны, на этот раз заняв весь дом одни. Почему-то Кономопуло собрался продавать свой дом, и отец размечтался купить его. Но денег не набиралось. Впоследствии этот дом купил Лев Александрович Бруни, и семья Бруни владеет им до сих пор. У меня снова завелась живность — зайчонок Чаки, прозванный так в честь Алчака, его родины. Чаки был счастливее, он благополучно доехал до Москвы и жил там с нами всю зиму. Ручным он стал настолько, что спал со мною в постели. Единственной его проказой была страсть грызть ножки стола. Изгрыз он их так, что непонятно было, как стол ещё стоит ‹...›
Судак так полюбился всем, что в надежде обязательно приехать туда снова отец оставил там этюдник, краски, ещё что-то многое. Я оставил другу Ваське свое любимое ружье ‹...›
Перед войной у отца появилась ещё преподавательская работа — рисунок у архитекторов для повышения квалификации. И появились новые друзья — архитекторы Николай Севастьянович Вальднер и Югенов (забыл, как звали его)...
Брат Вальднера Севастьян Севастьянович оказался крупным инженером-изобретателем. Главным его изобретением был некий “шаропоезд”. Познакомившись, отец стал посвящать Севастьяна Севастьяновича в замыслы своих “волновиков”. Севастьян Севастьянович воспринял отцовские проекты с большим сочувствием. И при его рекомендации и поддержке было принято решение о строительстве лод-ки-волновика в натуральную величину. Даже была составлена смета, но увы — шел 1941 год, и война опрокинула и эти планы. Отец гордился своими авторскими свидетельствами на проекты волновиков, но кроме как в виде самодельных маленьких моделей ни один из них не был реализован ‹...›
И снова школьная зима. Был у меня ещё один дружок — Руслан Загаринский. Когда мы были ещё в четвертом классе, мы с ним построили движущийся трамвай. Трамвай этот, населенный смешными бумажными пассажирами, с жужжанием ездил вперед и назад по недлинным рельсам. Заметка об этом техническом чуде была опубликована в журнале «Пионер» с нашей фотографией около трамвая и схемой. А сам трамвай попал на какую-то выставку, посвященную комсомолу, да там и пропал. Нам с Русланом выдали по диплому с профилем Ленина и по шоколадке в виде премии.
Так вот, мы с Русланом решили собирать в складчину велосипед. Целиком велосипед купить было невозможно, но части продавались — то там, то здесь. И мы в течение всей зимы охотились за ними. И — о, чудо — к весне велосипед собрался. И когда сошел снег. Мы выкатили его во двор. Но дальше вышло так: поскольку Руслан жил на первом этаже, а я на девятом, велосипед хранился у него. И получилось так, что Руслан катался когда хотел, а я мог покататься тоже когда он хотел. Мы хорошо помнили, чья часть — какая, и, разобрав, разделили велосипед. И включились в гонку досборки велосипедов. Не помню, кто победил, но к лету мой велосипед был на ходу, и я не ленился спускать его с девятого этажа и тащить обратно. Поиски велочастей значительно расширили мое знакомство с Москвой ‹...›
В тот год с деньгами у отца стало уже много хуже. О юге уже и не думали. Но все же выехали недалеко от Москвы в деревеньку Спас-Загорье. Хороший лес, река Протва — тоже было неплохо. И как всегда рядом с нами поселились семьи Паши Захарова, Тейсы. Там в деревеньке велосипед доставлял мне много радости. Велосипеды, целых два, были и у дяди Паши.
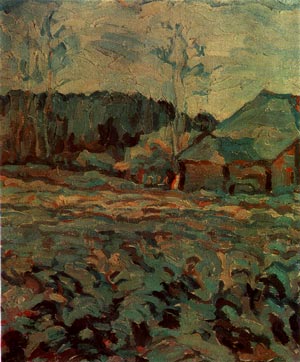 Мама писала полевые цветы, которые теперь в Русском музее, картофельное поле — в астраханской галерее. Писала песчаный карьер, но почему-то оставила в деревне, видимо, чтобы высохла краска. Да так он и пропал. В обрывистом песчаном берегу Протвы, среди норок ласточек-береговушек, были и две-три норки зимородков. Сверкая бирюзой спинок, крыльев, зимородки носились над водой и юркали в свои норки.
Мама писала полевые цветы, которые теперь в Русском музее, картофельное поле — в астраханской галерее. Писала песчаный карьер, но почему-то оставила в деревне, видимо, чтобы высохла краска. Да так он и пропал. В обрывистом песчаном берегу Протвы, среди норок ласточек-береговушек, были и две-три норки зимородков. Сверкая бирюзой спинок, крыльев, зимородки носились над водой и юркали в свои норки.
И я опять-таки размышлял о том, как прекрасно было бы, если бы дома у нас жил зимородок. Я покупал бы или разводил маленьких рыбок, выпускал бы их в таз с водой, а зимородок охотился бы на них, ныряя в таз со шкапа или другого полюбившегося ему возвышения. И мне удалось уговорить Женю Тейса, вместе с нами проводившего лето в Спасе Загорье. Приготовившись, мы с Тейсом дождались возвращения зимородка в норку, домой. Тейс подсадил меня к норке в обрыве, и я, завесив вход в норку сеткой, авоськой, засунул в норку прутик, и выпорхнув, зимородок запутался в авоське. Так же поймали ещё одного. С бьющимся сердцем — а как бились сердечки зимородков! — принес я зимородков домой, и до того, как придумается лучшее для них место, посадил бедняжек под решето. Но пока я размышлял, что делать с ними дальше, один из зимородков, не перенеся потрясения, начал терять признаки жизни. Плох был и другой, и не оставалось иного выхода, как выпустить их на волю.
Такие, совсем детские ещё были затеи. Могла ли мама думать, что через год я уже работал в «Окнах ТАСС», через два — стал солдатом. Но она не дожила до этого.
За некоторыми продуктами, в основном за яйцами, надо было ехать в Малоярославец — около 15 километров. И вот мы, отец, дядя Паша и я, отправились на велосипедах в Малоярославец на базар. Для яиц установили на багажнике у Паши чемодан. Сделав нужные покупки, аккуратно загрузив чемодан яйцами, двинулись домой. Дорога до Малоярославца лихая — то подъемы, то крутые спуски. И колдобин не мало. И вот, не уследил за дядей Пашей отец, и он, Паша, успел таки крепко выпить. И с пьяной смелостью лихо помчался домой. „Майка, Майка, смотри, как я без рук“, — кричал он и, действительно, как бы летел, раскинув руки, бросив руль. Надо сказать, что, несмотря на кураж, он не упал, доехал. Но вслед за вихревым его движением потянулись какие-то блестящие на солнце нити. Это раскоканные яйца сочились сквозь щели в чемодане.
А когда, приехав, открыли чемодан, целых яиц там не оказалось вовсе. А была, кажется, сотня. Так и поделили жижу: тарелку Захаровым, тарелку нам.
Зайчик Чаки тоже приехал с нами. Ещё в Москве мы с мамой сшили для него шлейку из мягкой кожи, и я приучал его к ней, чтобы летом можно было бы гулять с ним по лесу.
Мы водили его на длинной веревке, чтобы он мог погулять. И все было хорошо. Но разок, когда мама пошла с Чаки в лес, я помчался их искать на велосипеде. И нашел. Но мой расхлябанный драндулет, двигаясь по лесным тропкам, производил такой шум, что Чаки испугался, заметался, вырвался из шлейки и убежал. Мама долго звала его. Он появился, вышел из кустов, но в руки не дался и убежал снова и уже насовсем ‹...›
Сохранился небольшой начатый этюд. Всякий, кто имел дело с красками, скажет, что и получаса много для того, чтобы записать такой холст. У Хлебниковой же после двух дней работы холст этот в целом остался белым, лишь в разных местах появились мазки, определяющие ведущие цветовые акценты. Ещё несколько сеансов понадобилось бы ей для завершения этюда, но... снопы увезли... работа прекратилась, зато сохранилось живое свидетельство метода художника, его отношения к живописи ‹...›
Этим летом мама стала ощущать недомогание. Какие-то боли. К концу лета ей становилось хуже и хуже, так что по возвращении в Москву она почти не вставала. Болела и голова, и я менял ей холодное мокрое полотенце. Врач заподозрил плеврит и с таким диагнозом отвезли её в больницу. Наверное, в первый раз тогда воспользовалась она любезностью Менесов пройти через их квартиру, спустилась на лифте. Больница была далеко, в Ростокино. И к стыду своему, я лишь один раз навестил её там, не думая, что это было прощание ‹...›
Отец сказал, что хочет помнить её живой. На похороны не ходил, не пустил и меня. Хоронил её в крематории Павел Григорьевич ‹...›
Так мы остались с отцом одни. Уже оттесненный художественным начальством, отец вовсе потерял волю к сопротивлению, выживанию. Кончились деньги. Начали продавать немногие вещи, книги и так, со дня на день, наскребали на хлеб, картошку и сахар. Друзья-ученики, навещая его, старались принести съестного — картошки, капусты, иногда мяса или масла. Но довольно скоро настал день, когда все, что можно было продать, было продано. В доме оставались лишь те вещи, которые не брала ни одна скупка. Паша носил рисунки отца к бывшим его ученикам, “богатым” Кукрыниксам. Они что-то купили, но мало и скупо. Что-то купил Горяев. Но большую часть рисунков Паша вернул. Отца же не заботил ни сегодняшний, ни тем более завтрашний день.
Целыми днями сидел он, глядя в окно. Молча курил. Молча расхаживал из угла в угол по комнате. И лишь в случае крайней нужды выходил из дома. Но ещё теплилась надежда на гонорар за последний из сделанных им иллюстративных циклов к роману Конан Дойля «Михай Клар»: работа уже находилась в Детиздате. Начало войны перечеркнуло эту надежду.
Но пока, когда совсем уже нечего было есть, — шли к соседям, Менесам. Просить пять рублей — как же много, думал я. Просил три и бежал за хлебом, сахаром. Но Лина Абрамовна, Ленина мать, отзывчивая и добрая, учет деньгам вела строго, и одолженное следовало отдавать и по возможности скорее.
Все больше замыкаясь в оппозиционном неприятии уже не только художественной жизни, но и политического террора, воцарившегося в стране, отец сохранил привычку читать газеты. Денег не было даже на покупку газет, но на улицах были витрины, в которых вывешивались газеты. Вооружившись бритвой, отец спускался, выходил вечером на улицу и крадучись срезал наклеенную газету. Усевшись за рабочим столом, он брал красный карандаш и подчеркивал красным имя Сталина. И вся газета постепенно становилась красной. Сидел он в дедушкином складном, как шезлонг, рванном кресле, в котором дедушка нарисован на известном портрете. Ветхое кресло периодически складывалось под ним, и он грохался на пол, но, связывая проволочками, чинил это кресло.
Все семейные ценности уплыли в Торгсин ещё при маме. Чтобы подкармливать семью, в первую очередь меня, бабушку с дедушкой, она носила в Торгсин серебряные ложки, ещё какие-то мелкие драгоценности.
После смерти дедушки настала очередь его серебряных часов. Торгсин находился где-то около цирка на Цветном бульваре. Я был тогда с мамой и помню, как сидевший за прилавком оценщик открыл часы и молоточком ловко выбил драгоценный для меня механизм в мусорную корзину. Положил серебряные створки футляра на весы и выдал маме бумажки — “боны”. На боны эти мама купила белого хлеба, сливочного масла...
Шел 1941 год. Я перешел в девятый класс. Но перебиваясь со дня на день, мы с отцом и не помышляли о летних каникулах, о поездках куда-либо. И вот утром, направляясь в ближайшую булочную — угловую, у Мясницких, тогда уже Кировских “ворот”, филипповскую, — заметил я группки прохожих, прислушивающихся к установленным на крышах домов громкоговорителям…
Это было сообщение о начавшейся войне. Речь Молотова возвестила об окончании странной дружбы с Германией. Было это 22 июня, а первого июля, нас, восьмиклассников, отправили в Смоленскую область на рытье противотанковых рвов. Так распорядилась судьба нашими летними каникулами. Отец не удерживал меня, наставлял лишь не затеряться. Он-то лучше знал, что такое война! ‹...›
С Белорусского вокзала “теплушки” наши прибыли на некую станцию «Снопоть». И мы, поступив в чье-то распоряжение, двинулись к неведомой (не запомнил её названия) деревушке, где нас разместили по избам. По пять-восемь человек. Какие уж там были постели — хватило бы пола. Но было лето, тепло. От деревушки до места работ было около восьми километров, и уставали мы так, что засыпали на ходу. Хуже то было, что хотя в придачу к рабочему инвентарю — лопатам, появились кое-где и полевые кухни, продуктов не было, даже хлеба. И нас спасли хозяйки — крестьянки. Когда в сумерках уже добредали мы до ночлега, хозяйка вытаскивала чугунок с хлёбовом, нарезала каравай чёрного хлеба с пригоревшими к нижней корке капустными листьями. А утром? Как-то и не помню, перепадало ли нам что-нибудь по утрам. Словом, голодуха. Лишь недели через две полевые кухни задымились наконец, и мы стали получать по плошке горохового супа.
На рытье рвов были мобилизованы и студенты, и местные крестьяне-колхозники. И рвы эти — семь метров шириной и три метра глубиной, уходя за горизонт, терялись по безлесной равнине. Почва была песчаная, легкая для копания, но по мере углубления все труднее было выбрасывать лопаты грунта наверх. Часто, не долетая до верха, выброшенный песок сыпался, сползал обратно в ров.
А в воздухе появились немецкие самолеты. Видимо, разведчики. Они не бомбили, не стреляли. Но все же, при появлении самолетов нам полагалось ложиться. И мы с удовольствием отдыхали, приваливаясь к отлогим стенкам рва. Не получая ни газет, ни писем, питались слухами. Вот кто-то где-то узнал, что на Москву был налет пятисот бомбардировщиков. И Москва представлялась нам лежащей в руинах. Но голодуха возбуждала разговоры о еде. Вспоминали, рассказывали друг другу, кто что любил есть дома, кто что и в каком количестве съест, когда вернется домой. Мечтали о мороженом!
Однажды привезли селедку, и каждому “взводу” досталось почти по мешку. Конечно, съесть столько селедки было трудно, но мы смогли отблагодарить наконец добрых наших хозяек, которым с прожорливостью своей начали порядком досаждать.
Больше месяца минуло со времени нашего отъезда. Спортивные мои тапочки развалились, и я, как уже и многие, остался босиком. Но мы по-прежнему ничего не знали ни о том, что творится на фронте и что дома, в Москве.
И вдруг под вечер нас, школьников, собрали, выдали каждому по 10 рублей — первые заработанные мною деньги, и нестройной колонной куда-то повели. Пронесся слух — домой. Другой слух, передававшийся шепотом, гласил, что немцы высадили десант и мы попали в окружение. Оба слуха впоследствии подтвердились: нас, школьников, успели вывезти, а студенты, ожидая второй очереди, оказались в окружении, из которого пробирались кто как смог.
Протопав до полуночи, мы пришли к какой-то станции, где погрузились в товарные вагоны и, проспав от усталости всю дорогу, оказались на Белорусском вокзале. В Москве!
Доехав на троллейбусе до Сретенских ворот, я шел по бульвару домой. Скоро наш Фролов переулок и дом. А на бульваре — свежие воронки от бомб. С каким же волнением завернул я в переулок, откуда должна была быть видна верхушка нашего дома. Цела! Стучу в дверь, вернее, звякаю подвижной ручкой замка (звонка у нас не было). Дверь открывает незнакомая девушка. От неожиданности я попятился в совершенном смущении. Но девушка спросила: „Вы Май? Входите, входите, Петр Васильевич скоро вернется“.
Познакомились — девушку звали Майя, Майя Левидова, студентка художественного училища имени 1905 года. С отцом познакомил её поклонник, художник Миша Гуревич, пугавший Майю „страшным Митурой“. А тосковавший от одиночества отец заворожил молодую художницу своими парадоксальными суждениями, художественными теориями. Когда я вошел, Майя писала поставленный для нее отцом натюрморт.
Отец Майи — писатель Михаил Левидов, незадолго до войны был арестован и расстрелян. Она жила с матерью... Дома все было как прежде. Только на стенах не видно было рисунков, картин. Исчезновение со стен картин объяснилось так — все работы и снятая с подрамников живопись были отцом упакованы. А у рабочего места на стене была памятка — что спасать:
Чемодан с рукописями Велимира.
Рисунки и живопись (часть) Веры Хлебниковой.
Его собственные работы.
Часть живописи и рисунков для рассредоточения была свезена на хранение к Павлу Григорьевичу Захарову ‹...›
Шел август месяц. В Москве почти ежечасно взвывали сирены воздушной тревоги. И на дома летели не только фугасы, но и зажигательные бомбы. Вне очереди, почти ежедневно в тревогу отец отправлялся на чердак. И однажды спас-таки дом от пожара, с трудом выковыряв зажигательную бомбу, впившуюся в деревянную балку перекрытия.
Всякий раз надевать на дежурство кольчугу оказалось слишком хлопотно, но шлем он надевал, подшив под него мягкую лыжную шапочку.
Училище, где училась Майя, было недалеко, у Сретенских ворот. И во время тревоги вместо бомбоубежища Майя успевала добежать к нам, на девятый этаж. Она даже позировала отцу во время тревоги, на чердаке. За все время бомбежек мы с отцом ни разу не были в бомбоубежище.
На труд-фронте мы мечтали наесться досыта дома, в Москве. Но даже наша с отцом скудная довоенная жизнь казалась сказочным пиром в сравнении с воцарившейся карточной системой.
Из всех талонов с обозначениями мяса, рыбы, круп — реальными были только хлебные. Едва проснувшись, беготня за хлебом. Принесенную пайку черняшки делили, разрезали ровно пополам. Но мой растущий организм проглатывал пайку в один присест. И скоро, снова проголодавшись, я начинал тихонечко отщипывать от остатков отцовской. И снова и снова обшаривал я полки буфета, все места, где могла завалиться корочка, сухарик. Иногда и везло: так в детских своих штанишках в кармане нашел я слипшуюся кучку леденцов...
В семьях, где были хозяйки, говорят, что-то добывали, варили. Мороженную картошку, например. У нас же не было ничего. А о покупке чего-то на рынке не могло быть и речи. И не для таких безденежных, как мы, цены стали запредельно недоступными. Бродя с закадычным другом Аликом по затемненным улицам, мы видели, как из освещенных дверей закрытого распределителя на Лубянке выходили военные с авоськами, полными белого хлеба и бог знает чего еще.
Однажды к отцу явился поэт Альвек. Фамилию эту я помнил как-то в связи с Хлебниковым, как казалось мне, в далеком прошлом. Я не вполне уверен в этом, но от кого то слышал, что Альвек был автором слов популярнейшей песни тех лет: «Утомленное солнце тихо с морем прощалось». Маленький, сгорбленный, выглядел он даже по тем временам особенно запущенным, истощенным. Он как бы искал помощи, но чем могли мы ему помочь? Но оказалось, что могли. В другой раз он явился с электроплиткой. У него перегорела спираль (о новой спирали никто и не мечтал тогда). А починить, связать спираль он не умел. Конечно, отец соединил ему спираль. Но связанная спираль недолговечна. И он приходил со своей плиткой снова и снова. И мы “чинили” ему ее. Потом он внезапно исчез, перестал приходить. До отца каким-то образом дошло, что Альвек покончил с собой ‹...›
На ночных дежурствах отец близко познакомился, подружился с художником Владимиром Львовичем Храковским. И однажды Владимир Львович рассказал об организованной мастерской «Окон ТАСС», по подобию «Окон РОСТА». И вместо девятого класса школы я поступил туда на работу. Трафаретчиком. Мастерская помещалась в залах выставочного зала на Кузнецком-20. Я был определен в “дамское звено” и в обществе очень милых либо художниц, либо жен художников начал свою трудовую деятельность.
Время от времени в роскошных шубах появлялись там маститые авторы — Соколов-Скаля, Кукрыниксы. Чаще всех являлся Денисовский, который был художественным руководителем.
Оригинал плаката поступал в цех, где “раскладывался” на трафареты. Причем, если понимающие специфику трафаретной печати плакатисты рисовали лаконичные оригиналы, которые укладывались в три-пять трафаретов, произведения живописцев вроде Савицкого, Соколова-Скаля требовали тридцать и более трафаретов. Там же у резчиков трафаретов делался и пробный оттиск, который утверждался и служил для нас образцом.
Работа начиналась с подборки, разведения колеров для каждого трафарета и на весь тираж. Хитренькие, как я понял потом. Дамы сразу обнаружили во мне “замечательного колориста”. И я старался, помешивая, подбирая в банках колеры, причем по уши вымазывался в масляной краске.
Единственные мои штаны превратились в клеенку, с которой при сгибе отслаивались высохшие слои колеров. А надо сказать, что перегон метро от станции Кировская до Дзержинской, бывший идеальным транспортом до моего места работы, был закрыт.
Как узналось потом, именно там на большой глубине расположилась ставка или штаб главного командования.
Троллейбусы ходили редко. И как же холодно было морозной зимой 1941 года бежать на работу в моих “клеенчатых” штанах.
Работали мы посменно, в дневную и ночную смену, с полуторачасовым перерывом. И в перерывы эти я тосковал по цеху, не только потому, что подружился с милыми сотрудницами-дамами, но и потому, что в рабочую смену нас подкармливал “коммерческий буфет”, где за доступную цену выдавали бутерброд с колбасой, какое-то сладкое питье. В молочных бидонах привозили “бульон” с мясокомбината. Хозяйственные люди уносили его в банках и бидончиках. Но при разливании “бульон” издавал такой невыносимый трупный запах, что при всей голодухе ни я, ни отец, с которым я советовался, не придумали, что можно с ним сделать.
Зато Женя Тейс научил нас делать “паштет” из гематогена. Гематоген свободно продавался в аптеках. И если удавалось добыть несколько ложек постного масла, его следовало жарить на сковороде, потом есть.
В “окнах” мы тоже не обращали внимания на воздушные тревоги. В убежище не ходили и продолжали отстукивать трафареты, нагоняя сдельные копейки за трафарет. Однажды в ночную смену все здание потряс взрыв, затем другой. Падала штукатурка, воздух заполнился взбаламученной пылью. Бомбы упали во дворе. Ранило женщину и убило лошадь — огромного битюга. Раненую увезла скорая помощь. А лошадь осталась лежать на морозе. И у нас стали бродить мысли — как хорошо было бы оттяпать от лошади кусок мяса. Утром, когда лошадь увозили, оказалось, что какой-то счастливец сумел-таки отрубить лошадиный окорок.
Среди работавших в трафаретном цеху появился некто в необычайной красоты красно-синем свитере, как оказалось, вернувшийся из Парижа художник Климентий Николаевич Редько.
Отец знавал Редько ещё до отъезда в Париж. Во всяком случае, он стал появляться у нас дома, а иногда, в морозы, и ночевал, потому что жил очень далеко, у «Соломенной сторожки». Однажды отец и Редько, собрав какое-то барахлишко, отправились за город, в деревню, менять тряпки на провизию. Не знаю, чего наменял Редько. но отец привез-таки несколько яиц и кулечек отрубей. Эти отруби отец раскатывал в тонкие блины и запекал в духовке. Получались хрустящие пластины, так что наконец-то мы могли чем-то угостить продолжавшую навещать нас Майю. А познакомивший её с отцом Миша Гуревич оказался на фронте и скоро погиб, посмертно став Героем Советского Союза ‹...›
Смутно помнятся упоминания в разговорах родителей о некоей Наташе. Позже я понял, что речь шла о первой жене отца Наталии Константиновне Звенигородской. Развод, разрыв, очевидно, был тяжелым. Наталия Константиновна предпринимала какие-то попытки отстаивать свои права на отца. Отец же, насколько я знаю, однажды приняв решение, не встречался с нею до конца жизни. Но дети — мои сводные брат Василий (старше меня на 10 лет) и сестра Маша — старше на 5 лет, нечасто, но приходили. Навещали отца. Вася приходил и за очередными деньгами, которые выплачивал им отец ‹...›
Наверное, из-за разницы в возрасте Вася не очень-то мною интересовался. Но когда я стал подрастать, Вася восхищал меня фокусами. Он виртуозно манипулировал шариками, любыми другими мелкими предметами. “Глотал” их, тут же вынимал из живота, из ушей — откуда угодно. Лишь после многих показов я научился безошибочно следить за истинными перемещениями шарика. И тогда для меня стало особенно забавно следить за реакцией других, не разгадавших тайны зрителей.
Кажется, Маша любила поиграть со мною. К ней радушно относилась моя мать. Помню даже шли разговоры, чтобы взять Машу с собою в Крым.
После смерти матери Маша (отец звал её Момка) стала чаще навещать отца. Он рисовал ее, усадив позировать в голубом платье для живописи.
Маша работала лаборантом на кондитерской фабрике. Изготовляла какую-то нужную для конфет молочную кислоту. И вот где-то в самый голодный для меня период первого года войны она вдруг позвала меня с собою. Таинственно, ничего не объясняя. Привела меня в какую-то небольшую квартиру. Там оказался сахар, кофе и сушки. Она сварила сладчайший кофе, и я пил и пил его и грыз сушки. Дома у нас кофе никогда не был заведен. Возможно, я пил его впервые. Утолив голод, напившись до отвала крепкого кофе, я целые сутки не мог заснуть. Стучало в висках, бухало сердце. Словом, накушался так, что еле отдышался. Что это за квартира, я так и не спросил.
О Наталии Константиновне, Машиной матери, отец никогда не говорил. Помню лишь один рассказ об её отце. Где именно жил он, я не запомнил, но в сельской местности, наверное, бывшей своей вотчине. Но был он тогда “однодворцем”. Видимо, сам вел какое-то хозяйство. Отец же рассказывал о том, как он, слегка пьяненький, сидел у окошка и переговаривался со всяким проходившим мимо. Крестьяне же низко кланялись ему и величали “князем”. Когда мы получше подружились с Машей, она привела меня к себе домой, и я познакомился с Наталией Константиновной. К тому времени она была довольно грузной, пожилой уже женщиной с суровыми манерами и взглядом. Она преподавала французский язык. А жили они с Машей в маленькой комнате в общей квартире в огромном новом доме на углу Садовой и Коляевской. Они были рачительны и запасливы, и когда после войны понемногу стала налаживаться жизнь, у них завелись и варения, и соления. Наталия Константиновна не была разговорчивой. Но однажды она рассказала о своих предках — князьях Звенигородских, как во время войны 1812 года предок её продал все имения и на вырученные деньги снарядил целый полк солдат, тем самым окончательно подорвал не очень большое состояние семьи.
И ещё об одном — возможно, её отце (или деде?), который, поступив юным поручиком в службу, во время офицерских кутежей поносил Романовых как узурпаторов трона, который должны бы по праву занимать истинные Рюриковичи — Звенигородские. За что и был разжалован и уволен со службы. Жалко, что я не умел, да и не умею выспрашивать. Возможно, Наталия Константиновна могла бы и ещё рассказать о своих предках.
Когда я поступил работать в Окна ТАСС, оказалось (я не знал этого), что там же работает и Вася Митурич. Но он был в другом цехе, там, где вырезали трафареты. Вырезала трафареты и будущая жена Васи Клара Сергеевна Шепотинник. Но у нас, трафаретчиков, и резчиков были разные графики работы, разные помещения, так что виделись мы очень редко, от случая к случаю. Поселился Вася у Клары у Сокола, по тем временам очень далеко, и может быть поэтому реже навещал отца. Жену его Клару отец как-то сразу не полюбил, и на моей памяти была она у нас один лишь раз.
Немцы все ближе подходили к Москве. Большинство знакомых уезжали в эвакуацию. Но отец об эвакуации не помышлял, оставаясь стражем при “грузе №1” — тяжеленном чемодане с рукописями Велимира Хлебникова, №2 — живописью Веры Хлебниковой, и своими работами. Оставить, бросить все это он не мог, но и двигаться с таким скарбом в превратности эвакуации было немыслимо.
И вот наступили дни декабрьской паники, когда все кто как мог бежали из города. Закрылась и наша мастерская, и нас пригласили в ТАСС получить расчет. Там, в священных стенах телеграфного агентства, паника оказалась особенно очевидной. По полу разбросаны бумаги с грифом “совершенно секретно”. Бродившие там люди все что-то тащили — кто пишущую машинку, кто ещё что-то.
Я прихватил противогаз.
В дни этой паники по определенному талону карточек выдавали по пуду (!) муки и по сколько-то сметаны. С мешком для муки я выстаивал длиннейшие очереди, но частые воздушные тревоги разгоняли эти очереди и надо было занимать снова. Но один пуд (или сколько-то) муки я все же получил.
А вслед за памятным разгромом немцев под Москвой жизнь снова вернулась в прежнее русло. Возобновилась и работа в «Окнах ТАСС».
Там, в «Окнах ТАСС», я впервые увидел Виталия Николаевича Горяева, забегавшего навестить красавицу Таисию Борисовну, свою жену, тоже трафаретчицу.
Монотонная работа трафаретчика приводила к тому, что к концу двенадцатичасовой смены начинались ляпы, краска затекала под трафарет, шел брак. А с увеличением тиражей до пятисот иногда экземпляров бумага не выдерживала. Трафареты рвались, приходилось срочно изготовлять новые.
Внезапно покинула нас Майя, к которой мы успели привыкнуть и, кажется, оба с отцом изрядно влюбились в нее. Она же вышла замуж за Николая Васильевича Одноралова. Раз или два я видел его у них. Но брак оказался непрочным. Однако у Майи появился сынок — Миша, и теперь с объявлением воздушной тревоги мы уже не ждали ее. Да и тревоги стали много реже.
Несмотря на все трудности, художественная жизнь ещё теплилась. Отец ходил на рисовальные сеансы в литографскую мастерскую в Козихинском переулке. Иногда туда ходил и я. Предприимчивые завсегдатаи студии, среди которых была некая Анна Филипповна, прямо на улице залавливали военных, красивых девушек и усаживали позировать. И художники и их модели сидели в шубах, в шапках. Но по таинственной закономерности войны о простудах как-то не вспоминали.
Рисовал отец и в городе — гигантские баллоны аэростатов, обложенные мешками с песком фасады домов.
Однажды, вдохновленный сообщением об удачной кавалерийской атаке где-то на северном Кавказе, вспомнив батальную свою школу, нарисовал чёрной и красной тушью великолепный батальный лист со многими десятками, может быть сотнями, мчащихся всадников. Очевидно, лист этот куда-то был куплен. Куда? Жаль, что не знаю его судьбы. Пытался он делать и какие-то литографии для заработка — с летчиками и самолетами, открытки на военные темы, но ничего путного из этого не получалось.
Наверное, в это время затеял он автопортрет, который писал несколько лет, едва ли не до конца войны. Теперь он в Государственном Русском музее. Но главным его занятием все больше становились проекты и модели “волновиков”. Мысль о “волновой” колебательной природе движения всех живых существ побуждала его конструировать аппараты для передвижения по земле, воздуху и воде по принципу птиц, рыб, гусениц, червей, кенгуру...
Как различные проявления одного “волнового принципа”, он пытался вовлечь в него даже естественный рельеф местности, опытным путем пытаясь доказать, что “волновой” с подъемами и спусками путь эффективнее прямолинейно-горизонтального.
А свои представления о “волновом принципе” выводил из философских воззрений Велимира Хлебникова. И когда где-то с середины 1942 года членам Союза художников стали выдавать “литерные” карточки, он, оставив попытки заработка, целиком занялся “волновиками”.
Дело в том, что по такой карточке, кроме увеличенного количества продуктов, полагалась ещё бутылка водки.
Тут же её продав, он получал деньги, достаточные для покупки всего причитающегося ему пайка. И мог существовать до следующей выдачи.
Свидетельством тому, насколько отец был отчужден от официальной художественной жизни, насколько непримирим, служит эпизод, который касался и меня. Заходя к нам, Павел Захаров, преподававший в теперешнем Суриковском институте (как он назывался тогда?), рассказывал об институтских делах. Насколько помню и понял его тогда, дело было в том, что хотя основная часть института была в эвакуации, в Самарканде, какие-то курсы теплились и в Москве. Но многие студенты оказались в армии, и был большой недобор. И Паша сказал, что он мог бы устроить так, что меня возьмут в институт. Я напомнил ему, что окончил лишь восемь классов, но он полагал, что это можно как-то утрясти.
Такой поворот в моей судьбе мне и не снился. Я — студент! Об этом я не начинал ещё и мечтать. Но отец внезапно вспылил и отрезал: „Я прокляну, Паша, и вас, и Майку, если он окажется в этом институте“. К разговору этому больше не возвращались. А через несколько месяцев я вместо института попал в армию, да на целых шесть лет (пять лет и восемь месяцев).
Солдатчину, как неизбежное, отец воспринял спокойно ‹...›
Как я уже говорил, большинство знакомых отца отправились в эвакуацию. В то же время появились и новые знакомства. Так в доме у нас стала появляться Ольга Алексеевна Шпилько. И вот однажды Ольга Алексеевна рассказала о своем знакомом полковнике Рюмине, которому в его часть нужен был художник. И загорелся я романтической идеей поменять изрядно надоевшие «Окна ТАСС» на военную судьбу. Она свела меня с полковником, и он согласился взять меня к себе добровольцем. Так, в ноябре 1942 года в кузове грузовой машины я прибыл на северо-западный фронт в часть, называвшуюся В.А.Д-3 и стоявшую под Валдаем. Фаталистически настроенный отец отпустил меня спокойно, оставшись совсем, совсем один ‹...›
Мне выдали военное обмундирование, выписали удостоверение и определили под начальство лейтенанта Райхеля. В мирное время Райхель был театральным художником, там же выполнял различные поручения по художественному обустройству военной дороги. Мне было поручено изготовление дорожных знаков, в чем очень пригодился мой опыт трафаретчика. Жили не в казарме, а в домишках обезлюдевшей деревеньки Добывалово. “Сухим пайком” получали продукты и по очереди готовили. Шел мне тогда семнадцатый год. Все солдаты, простые деревенские парни, были много старше меня. Как же должен был я, городской мальчишка, не умевший толком растопить печку, удивлять их! Не говорю раздражать, потому что никто из них не сказал мне грубого слова. Лишь повзрослев, получше узнав жизнь, в полной мере оцениваю я доброту, терпение и благожелательность новых моих товарищей.
Когда, к примеру, приходили они после тяжелой работы голодными, замерзшими, а я, “дежурный”, весь в саже ещё не сумел растопить печку!
Выдали и винтовку. Английскую! Я сам научился разбирать её и собирать. Но патронов к ней не было.
А полушубок — белый, теплый, недолго гордился я им. Разбирая, вычищая непослушную чугунную печку, я прижал к животу ребристые колосники, и полушубок мой, впитав сажу, стал полосатым, как шкура зебры.
Деревушка была лесная, рядом замерзшее озеро. Всю эту красоту я описывал в письмах к отцу, рисовал окрестности. И еще, подружился я с Федей Борзовым, тоже москвичом, шофером. И он взялся учить меня водить автомобиль. Подошел он к этой затее очень по-научному. Дал мне учебник, который я должен был выучить чуть ли не наизусть. Часами заставлял тренироваться, переключать скорости в гараже на снятой с машины коробке скоростей. И, наверное, переучил меня. Когда наконец посадил он меня за руль своей полуторки, я весь затрясся от волнения, и, не проехав и десяти метров, угодил в канаву, из которой ташили машину трактором. Пристыженный, я о продолжении учебы и не заикался.
А от отца, которому я успел написать об автомобильных моих успехах, приходили в письмах пожелания научиться ещё и летать на самолете... ‹...›
В начале службы я особенно остро тосковал по отцу, по дому. И как же завидовал я Феде Борзову, который на своей полуторке отправился в командировку в Москву. Но и у Феди в Москве была семья и маленький ребенок, с которым не чаял он свидеться. И все же в короткую эту командировку Федя навестил отца, передал ему накопленный мною, тогда не курящим, махорочный паек. И привез мне не только живой привет от отца, но и бутылку водки Тархун. Это была первая чарка водки, которую я выпил с друзьями, сидя на теплой печке. И было очень хорошо.
Третий В.А.Д. (военно-автомобильная дорога) — был дорогой Москва — Ленинград. Но в 1942-м он доходил до Бологого. Дальше были немцы. И когда по дороге стали двигаться нескончаемые колонны машин и военной техники для прорыва ленинградской блокады, я в числе других солдат стал бензозаправщиком. Колоны шли ночью, в темноте. Заправка происходила из бензовозов ведрами. Автол — прямо из двухсотлитровых железных бочек, которые надо было наклонить и не уронить. И конечно же, бензин, автол проливались на снег, и, несмотря на мороз, стояли лужи бензина. И валенки и полушубки насквозь пропитаны бензином.
В землянке пылала железная печурка, но входить в землянку, где курили, не говоря уж о близости к огню, нам, пропитанным бензином заправщикам, было заказано. Не знаю, как выжили другие, я же поплатился жестоким фурункулезом. Чирии вылезали на самых разных местах... И продолжалось это больше года, наверное.
Тем временем при политуправлении Главного Дорожного Управления решено было собрать “фронтовую бригаду художников”. Туда собирали художников из разных частей. Откомандировали и нас с лейтенантом Райхелем.
Начальником бригады был лейтенант Михаил Маркович Милославский, до войны художник-карикатурист. Кажется, в этой бригаде я был самым молодым и самым зеленым и многому мог учиться у товарищей.
Откомандирование в эту бригаду было счастливым поворотом в моей судьбе ещё и потому, что наша база оказалась в подмосковном Одинцове. И, получив увольнительную, я мог навещать отца. Каким же одиноким застал я его, выбравшись впервые ‹...›
Батареи не работали, и спасаясь от холода, он соорудил из фанерных ширм в промерзлой комнате малюсенький домик с приклеенным бумажным потолком. В домике этом помещался маленький стол, стул, лампочка и источник тепла — электроплитка. Сидя там в зимнем пальто, он писал воспоминания о Велимире, о матери. Но буфет не был таким пустым, как прежде. Разволновавшись от встречи, он стал готовить что-то вкусное. Угощение. Я снабдил его дефицитным куревом. Помню, показал он тогда великолепный лист «Кавалерийская атака в горах», сделанный под впечатлением сводки Совинформ-бюро — чёрная и красная тушь. К сожалению, судьба этого рисунка неизвестна. Как рад был он встрече, мешочку скопленной мною солдатской махорки, как горько было уходить от него, такого бесконечно одинокого тогда ‹...›
Разумеется, были у Митурича и сторонники, друзья. Но война разметала кого на фронт, кого — в эвакуацию. Прервались ленинградские связи. Немногим, кто оставался в Москве, — тоже приходилось туговато, но они поддерживали Петра Васильевича как могли. А более всех Павел Захаров, который помог Петру Васильевичу пережить суровые времена. Тянулась к нему и молодежь, и каждый, кто хоть раз побывал на девятом этаже знаменитого дома Вхутемаса, надолго запоминал эту встречу ‹...›
На одинцовской базе мы заготавливали увеличенные, на трехметровых, иногда и больше холстах, плакаты, портреты маршалов, вождей. В назначенный день за ними приходили обычно два грузовика — в одном стояли бочки с запасом горючего, туда грузили и холсты, всякие вспомогательные материалы. В другой, тоже под брезентовым тентом, усаживались мы и двигались в путь. Это означало, что в ближайшие дни будет одержана ещё одна победа, будет освобожден крупный город. Кроме художников выезжали и плотники, тоже солдаты. И среди дымящихся ещё руин плотники по чертежам наших оформителей сколачивали конструкции, мы, художники, взяв малярные кисти, эти конструкции красили и устанавливали плакаты, портреты маршалов, вождей, великих русских полководцев прошлого, ленты с призывами и лозунгами, флаги и флажки. И люди, жители, выбирались из подвалов, собирались на площади с надеждой на то, что война покинула их края. Когда завершилась сталинградская битва, бригады нашей ещё не было.
Среди наиболее значительных командировок были — Новгородская, Вильнюс-Каунас, Курск-Орел-Обоянь-Белгород — “Курская дуга”. Дважды выезжали в Киев — по взятии его и когда восстановлен, построен был мост через Днепр. Всякое случалось в этих командировках. Но из уважения к памяти тех, кто вынес тяготы войны на передовой, я не чувствую себя вправе много рассуждать о своих впечатлениях.
Да и каким ещё зеленым, глупым мальчишкой был я тогда! В мечтах моих снова и снова возвращался я в Крым, в Судак. И виделся мне грот под Алчаком, где в бирюзовой глубине гуляли лобаны — крупная разновидность кефали. Они лениво кружились, едва не задевая мою наживку. Часами просиживая с удочкой над гротом, я так и не был удостоен внимания лобанов.
И вот, не помню уже где, я подобрал валявшуюся гранату-“лимонку” и сунул её в свой вещмешок. А оказавшись на базе в Одинцове и получив увольнительную, принес эту гранату домой и, не сказав ничего отцу, спрятал её где-то, кажется, между книг. Зачем? Чтобы, когда кончится война, поехать в Судак и гранатой заглушить лобана! И так, может быть, около года граната лежала у нас дома. А если бы обыск... Более того, понятия не имея как с гранатой обращаться, для “безопасности” я развинтил ее, вынул детонатор, спрятал гранату и детонатор в разных местах. Наверное, лишь год спустя, внезапно осознав всю нелепость затеи, изъял гранату из тайника и, вернувшись в часть, утопил её в деревенском нужнике, для безопасности раздельно с детонатором, но вместе с мечтой о лобанах. Была у меня и ещё одна детская тоже мечта — о ручных белочках...
Разумеется, в командировках наших попадали мы и под бомбежки и под обстрелы. Но где тогда не бомбили — разве что в глубоком тылу...
Чтобы попасть в Киев, машины наши двигались через Днепр по понтонной переправе. Ночью, без огней. Кругом чёрная бескрайняя вода Днепра. На переправе пробка — где-то впереди машины заглохли. И тут в небе повисли осветительные ракеты. Совсем близко вздымая столбы воды, начали сыпаться бомбы. Но в нитку переправы им попасть тогда не удалось.
Появившийся начальник приказал столкнуть заглохшие машины в воду, и колонны медленно двинулись к темному берегу.
Бабушка Александра Карловна Митурич умерла в начале войны. О тете Юлии не было никаких известий. И испросив увольнительную, я отправился на поиски тети Юли. Адрес — Миллионная улица возле Печерского базара — я помнил. Нашел домишко, постучал, вошел. И увидел тетю Юлию. Остриженная наголо, с начавшим отрастать седым “ежиком”, она, как-то не очень удивившись моему появлению, стала рассказывать о пережитом. Недвижимая, в своем инвалидном кресле, она благодаря заботам подросших юных её друзей смогла пережить годы оккупации. „Я напишу, я напишу книгу обо всем, что было“, — твердила она. Я принес ей какие-то консервы и косичку лука.
Случилось так, что когда через пару месяцев через Днепр был построен мост, временный, деревянный, нас снова направили в Киев оформить торжественное открытие моста. Улучив момент, я пошел к тете Юлии. Стучу. Открыл дверь незнакомый человек. Тетя Юлия умерла. Я повернулся и ушел, от неожиданности не спросив даже о возможных остатках её имущества — документах, письмах, фотографиях...
В свободное время мы пошли в Софийский собор. Встретивший нас священник рассказывал о храме. И вдруг сказал: „Оденьте, ребята, шапки. Простудитесь. А храм мы после освятим“. Так холодно было даже в Киеве.
На минском направлении у городка Борисова, в котле, в окружении оказалось так много немцев, что не хватало солдат, чтобы охранять, конвоировать их. А немцы все выходили и выходили из лесов, сдавались, просились в плен. В помощь нам для рытья ям для столбов и других простых работ по установке “наглядной агитации” выделили человек пять пленных немцев. На ночь их запирали на засов в землянке.
Пленные покорно выполняли все указания. Но один из них, кажется капрал, видимо сошел с ума. Он постоянно что-то выкрикивал, увидев трофейную немецкую машину, бежал вдогонку.
Пленные эти были тогда, наверное, ещё не учтенные. И хозяин их судеб старшина решил избавиться от беспокойного капрала. Расстрелять его. И почему-то предложил эту работу мне. Я отказался, но видел все. Как покорно немец встал у края воронки. Как несколько раз стрелял старшина в него из пистолета, прежде чем он упал. Как забросал его землей. А вечером другие немцы, соседи по землянке, откопав расстрелянного раздели его, поделив вещи...
То, что довелось мне увидеть: застывшие армады танков на Курской дуге, мое впечатление, — вряд ли может сравниться, добавить что-либо к воспоминаниям участников сражения ‹...›
Утомленный одиночеством отец каким-то путем разыскал в ссылке, в Акмолинске свою знакомую ещё с академических времен, с 1914-15 года, Юлию Николаевну Томилину. В лагере она оказалась как жена врага народа. Её муж, Шапс, был крупным инженером, вместе с Пятаковым выезжал за границу для закупки какого-то оборудования. Вместе был и расстрелян. А Юлия Николаевна отсидела в лагере 7 лет.
Встреча Петра Васильевича и Юлии Николаевны принесла всплеск нежной и пылкой любви. Отбыв срок, Юлия Николаевна освободилась не вполне, и даже выйдя замуж за отца должна была жить за 101-м километром от Москвы. Она поселилась в Александрове. О работе для Юлии Николаевны в Александрове не могло быть и речи. В Александрове, других городах за 101-м километром скапливалось к тому времени большое количество бывших ссыльных с такими же ограничениями. Работы не было, а квартиры, жизнь дорожали.
Но надо сказать, что к этому времени отец не был уже таким нищим, как к началу войны. Во дворе нашего дома была учебная типография Полиграфического института. И Паша Захаров, которого к этому времени удалили из Суриковского института, стал преподавателем Полиграфического. Он хорошо знал технологию, особенно литографию. Даже говорил, что учебник по литографии под авторством Петра Суворова был написан им, Захаровым. Как уж это получилось, не знаю.
Так вот, к концу войны, может быть году в 1944, Павел Григорьевич возглавил печатание «Хроники ТАСС» на английском языке, для союзников. По какому-то условию хроники эти должны были печататься на правах рукописи, на пишущей машинке, а не типографским способом. Павел же Григорьевич придумал печатать на машинке на переводной бумаге — контр-папире. Затем переводить их на литографский камень и уже с камня печатать тираж. Тираж был невелик, но все же несколько сотен.
Отпечатанные листы Павел Григорьевич приносил на девятый этаж, к отцу. А тот брошюровал и с помощью нехитрого приспособления скреплял тетради проволочными скрепками. Нехитрая эта работа приносила приличный по тем временам заработок, так что отец даже мог иногда побаловать нас и себя разными вкусностями из появившихся “коммерческих” магазинов и обеспечивать существование Юлии Николаевны в Александрове. Оставаясь один в Москве, отец почти ежедневно писал в Александров письма. А при первой возможности уезжал туда сам с кошелками всяких продуктов ‹...›
До Шапса у Юлии Николаевны был мужем Роднянский. Он умер своей смертью, от него у нее был сын Шура. Когда Юлию Николаевну арестовали, Шуру взяла на воспитание сестра Юлии Николаевны — Римма Николаевна. Ещё студентом университета Шура проявил себя как гениальный математик. Во всяком случае так считал он сам и, разумеется, Юлия Николаевна. Но уже в студенческие годы он стал систематически пить, а напившись, становился агрессивен. На выпускном акте, напившись, запустил чернильницей в профессора, даже, кажется, академика, и, получив, кажется, с отличием диплом, не попал в обещанную ему аспирантуру. Римма Николаевна, равно как и Юлия Николаевна, не могла влиять на Шурино поведение, и он из-за своих выходок постоянно менял места работы, периодически попадая в психбольницу. Юлия Николаевна разрывалась между александровской ссылкой, отцом и сыном. Несмотря на все заскоки, Шура систематически продолжал работу, которую считал трудом своей жизни. Работу эту, находившуюся на стыке двух областей математики — анализа и топографии, могли прочитать и оценить один или два ученых во всей стране. Трудности с продвижением этой работы приводили к новым срывам. Продвинуть, опубликовать работу Шуре не удалось до конца его дней ‹...›
Минск, Борисов и наконец — Варшава. Сердце ее. В Берлине шли ещё бои, и мы готовились к взятию его в городе Котбусе. Помещались мы в стоявшем отдельно уцелевшем особняке.
И вдруг под вечер началась стрельба, причем со всех сторон, так что лейтенант наш скомандовал заводить машины. „Будем прорываться“. Из оружия у нас был разве что его любимый парабеллум, да пара автоматов, и, пораздумав, начальник направил солдата Стародубцева и меня в соседнюю воинскую часть. На разведку.
Смеркалось, и, пригибаясь от летевших пчелами трассирующих пуль, мы поползли через заросший крапивой пустырь. Война окончена! Германия капитулировала! С такой вестью вернулись мы. А стрельба из всех видов оружия была стихийным салютом! Из своего парабеллума стал палить и наш начальник. Нашлась и кем-то припрятанная выпивка.
Запомнилась такая деталь. У соседнего полуразрушенного дома была грядка ревеня. Проходя мимо, я срывал сочные стебельки и с удовольствием грыз их. Наутро после капитуляции я снова хотел сорвать ревень, но из пустовавшего дома появился хозяин и стал выговаривать мне: „некорошо, это нашо!“ Очень удивил он меня, но в этом было и что-то символическое. Война кончилась.
В Берлине, на Александрплац были установлены портреты маршалов 2×3 метра. В середине Сталин 3x4. Я писал портреты Сталина и Рокоссовского. Но в памяти моей какая-то путаница: я помню, что портреты маршалов устанавливали мы 5-го мая, до конца войны. Видимо, из Котбуса, где была наша база, приехали в Берлин и, установив портреты, вернулись в Котбус, где и застала нас Победа ‹...›
 С мечтами о скорой демобилизации возвращались мы в Россию. Для многих это и вправду сбылось, нам же — солдатам 1925 года рождения, пришлось служить и служить. И никто не объявлял сколько — год, два. Десять?
С мечтами о скорой демобилизации возвращались мы в Россию. Для многих это и вправду сбылось, нам же — солдатам 1925 года рождения, пришлось служить и служить. И никто не объявлял сколько — год, два. Десять?
Последним свершением нашей художественной бригады было создание, оформление постоянной выставки «Дорожные войска в Отечественной войне». В Москве, в Нижних Котлах. Для меня, для москвичей это было счастьем. Можно было по увольнительной попадать домой. Но кому, для чего нужна была эта выставка — не понимаю до сих пор.
Строительные отряды возвели просторный павильон. Отдельно выстроен был кинозал, служебные флигели. А вскоре все, кто постарше, демобилизовались. Вот и Андрей Древин, года на три старше меня — уже студент! Из прежней бригады остался служить я один ‹...›
Редактор, составитель и издатель пятитомного собрания сочинений Велимира Хлебникова Николай Леонидович Степанов, живший до войны в Ленинграде, после эвакуации перебрался в Москву. По-видимому стал сотрудником литературного музея, потому что получил при музее хорошую квартиру. Отец ценил Степанова за его “подвиг” — издание Хлебникова. Степановы же, более благополучные, приглашали отца к обеду, подкармливали его, возможно, выручали и деньгами. Приходил Степанов и на “кальпы”, хотя часть завсегдатаев кальп приходить перестала, опасаясь участия в неординарных сборищах. Нарисовав раз живой портрет Степанова, отец сказал, что рисовал “памятник” ему. Рисунок действительно получился скульптурный, как бы высеченный из камня. Впоследствии, уже после смерти отца, Степанов стал первым покупателем станковой моей работы. Купил акварель из тувинской моей поездки и повесил у себя на даче в Переделкино ‹...›
Война принесла перемены в наш двор. Мой дружок Руслан погиб на фронте, другой, Алик, был в Морском офицерском училище. В корпусе напротив поселился Шостакович, и в войну из пяти подъездов лифт работал только в том подъезде, где он жил. Летом через открытые окна до нас долетали мощные раскаты его импровизаций.
Уехал Фаворский, и в квартире его поселился художник Пиков — тоже музыкант. Наши окна через двор были окно — в окно, и он подолгу наигрывал у окна на флейте.
Еще один дружок мой Леня Менес тоже был в солдатах. От родителей его я узнал, что Ленька как-то проштрафился у себя в части и его отправляют на пересыльный пункт. Это грозило отправкой на японский фронт, где война ещё продолжалась. К этому времени Леня, будучи солдатом, поступил на заочное отделение какого-то электротехнического института. А в нашем на дорожной выставке кинозале не было киномеханика. Я поговорил с начальством, и Леню взяли к нам, в Нижние Котлы. Киномеханик он был самозванный, но я не помню, чтобы кто-нибудь приходил на эту липовую выставку, тем более в кинозал. Теперь в увольнительную мы двигались вместе с Ленькой. Приходя домой, я переодевался в отцовский костюм, и хотя брюки и рукава были сильно коротки, выходил на улицу в нем.
Однажды, делая в магазине какие-то покупки для отца, я обнаружил, что бумажник мой исчез. Украли вместе с карточками и документами, главное — солдатской моей книжкой. Явившись с повинной в часть, получил приказ отправляться под арест, на гауптвахту.
Но тут как раз случился какой-то праздник, и мне надлежало сделать “сухой кистью” портреты членов политбюро. Портреты были повешены на глухой, без окон стене кинозала, и об аресте моем забыли. И вот, возвращаясь из увольнительной, рассеянно глядя на знакомую усадьбу выставки, я вдруг заметил, что у портретов моих нет голов! Только шеи и френчи, а и крыши, стены кинозала тоже не было! Оказалось, что ночью был пожар. И верхняя половина портретов вместе со стеной и крышей сгорела. Сгорел и соседний дом, где с семьей жил подполковник — начальник. И он с детьми сидел на узлах во дворе.
Самозванный киномеханик чуть было опять не угодил на пересылку по причине пожара, но виновника точно установить не удалось и с Леней обошлось испугом. А через несколько дней на домашний адрес пришло толстое письмо. В конверте оказалась и моя солдатская книжка, и удостоверения на медали с припиской посылавшего, где он сообщал, что нашел бумаги „в районе одной уборной“, а также, что „часть бумаг вмерзлась в кал“ и он не мог их прислать. Там осталось и мое удостоверение на медаль «За взятие Берлина». Взяв карточки, какие-то деньги, воришки выбросили документы. Я благодарен анонимному автору.
А вскоре чуть было не проштрафился опять. Отца не было, наверное, он был в Александрове.
Я ночевал дома один и сквозь сон услышал какой-то шум, стук. А утром обнаружил, что все пальто, в том числе и моя шинель, исчезли с вешалки. Кто-то открыл нехитрый замок нашей двери...
Я не мог не явиться в часть, с этим было строго. Но как добираться? Была зима. Что-то поддев под гимнастерку, отправился на службу, и какой-то голос шепнул мне заглянуть под лестницу. Там в грязи валялась моя шинель — видимо, не понравилась воришке.
При возможности я встречался с бывшими сослуживцами-москвичами, ныне вольными людьми. Однажды я встретился с бывшим начальником своим, лейтенантом Райхилем. Он возвратился к театральным своим делам. И предложил мне работу. По эскизу надо было написать задник для эстрады, для Райкина. Я с радостью согласился, получил белое полотнище, эскиз и побежал домой работать. Отец был в отъезде в Александрове. Для работы надо было освободить пол, и я начал двигать шкафы, столы, пока не удалось кое-как расстелить полотнище. На заднике, на белом фоне должна была быть изображена богиня правосудия Фемида, с завязанными глазами и весами в простертой длани. Изображение было простым, графическим, и я выполнил его легко и, как казалось мне, — весьма удачно. И свалился спать, потому что к шести утра надо было являться в часть. Сквозь крепкий сон я услышал хлюпанье воды. Насторожившись, вскочив с постели, оказался чуть ли не по щиколотку в холодной воде. Мой задник, колыхаясь плавал в мутноватой пучине. Дело в том, что на наш девятый этаж вода поступала с перебоями. Открутив кран, убедившись, что воды нет, я не закрутил его. А ночью вода пошла, а раковина была засорена. Я подвесил мокрый задник к торчавшему в потолке крюку и стал собирать воду с пола в таз. Едва собрав разлившуюся воду, помчался в часть. Вечером, снова выпросив увольнительную, явился доделывать. Задник высох, но был в подтеках, и я стал “освежать” его белилами. Почти не спав прежнюю ночь, завел будильник и свалился спать. И надо же такому случиться — все повторилось опять. Опять ночью пошла вода, а кран оказался открытым. По-прежнему засорена была раковина.
Повесив полотнище и собрав воду, помчался на службу. А когда снова пришел домой, убедился, что живопись моя поплыла основательно.
Подправив, заштукатурив белилами грязь и подтеки, я отнес-таки задник Райхелю, но больше никаких заказов не получал.
Леня как-то исхитрился подделать документы, прибавить себе два года и был демобилизован. Совсем захирела и дорожная выставка. И меня откомандировали в ЦУКАС — центральное управление капитального аэродромного строительства. Я должен был находиться в части на Чкаловской, но к тому времени навострился покупать себе свободу, изготовляя для начальства “копии” шишкинских мишек и перовских охотников. Спрос был так велик, что пришлось сделать трафареты для основных пятен. Из ЦУКАСа меня, как говорили, за канистру спирта уступили Главной военной прокуратуре. Это было б и вовсе хорошо — прокуратура находилась на одной улице с отчим домом. Но годы шли, война закончилась два года назад, а мой год все служил и служил.
И никто не знал, как долго будет это продолжаться. Для клуба прокуратуры нужны были большие картины — «26 бакинских комиссаров», «Незабываемая встреча» и другие. И по-прежнему “мишки” и “охотники” для начальства. Вход в прокуратуру был строго по пропускам. Солдаты с примкнутыми штыками охраняли вход. Но по работе в клубе я обнаружил за портьерой дверь, заткнутую поленом. Открыв дверь, вышел во двор, а скоро и на улицу. Теперь, приходя к назначенному часу, я мог приходить и уходить, гулять где хотел и возвращаться, когда хотел.
В 1947 году опять же Павел Захаров посоветовал мне поступить на заочное отделение полиграфического института. Отец не возражал. И вот неплохо, на четверки, сдав экзамены, я стал студентом, правда, заочником ‹...›
Лишь в апреле 1948 года вышел указ Верховного Совета, и нас, рожденных в 1925 году, отпустили в “бессрочный отпуск”. С ноября 1942 по апрель 1948 я прослужил 5 лет и 8 месяцев. Оставаясь простым солдатом, даже не ефрейтором, не сержантом.
Тем временем адресованная бывшим союзникам «Хроника ТАСС» закончила свое существование. Работала комиссия, выяснявшая причины больших заработков создателей “хроник”. И Павел Григорьевич, уже имевший тюремный опыт, очень боялся новой посадки...
А отец потерял заработок, спасавший его и Юлию Николаевну от нищеты. Отец писал заявления, ходил на прием к Швернику, от которого, как считал он зависело разрешение для Юлии Николаевны на жительство в Москве. По каким-то причинам Ю.Н. перебралась из Александрова в Малоярославец. Но и Малоярославец также забит был ссыльными. Та же безработица и дефицит жилья. Стало нечем платить за квартиру, за дрова и прочее. О помощи со стороны сына Шуры не могло быть и речи. Все небольшое его жалованье обязательно уходило на алкоголь.
И теперь нужда становилась ещё острее, чем тогда, когда вдвоем с отцом мы могли, перехватив трешку-пятерку, продержаться парочку дней. А дальше — глядишь, ещё что-нибудь перепадет.
Освободившись от армии, я принялся искать работу, заработок. Но армейские мои навыки в Москве применения не находили. После многих неудачных попыток я случайно встретил бывшего сослуживца Всеволода Горева. Матерый оформитель, Горев взял меня к себе в “бригаду”, которая состояла из старичка, лысенького Николая Васильевича Фокина (когда-то заслужившего грамоту лучшего шофера СССР), теперь вот меня и — бригадира. Громогласный шутник и балагур, Горев был генератором проектов и планов. Он постоянно вел переговоры с заказчиками, в результате которых мы должны были получить грандиозные заказы вроде оформления Всесоюзной спартакиады и сказочно разбогатеть. Пока же, выполняя работенки вроде росписи каких-то школьных буфетов и досок почета, мы едва-едва зарабатывали на пропитание.
Обстановка в “бригаде” была такой, что я как-то инстинктивно скрыл, что учусь на заочном отделении, предвидя упреки, что вот-де занятия мешают работе.
При поступлении в институт писарь военной прокуратуры выправил мне липовую справку о том, что документы мои, в том числе аттестат, пропали где-то во время бомбежки.
Солдатам сочувствовали и смотрели на формальности сквозь пальцы. Но демобилизовавшись, я почувствовал шаткость своего студенческого положения с этой справкой. И с осени поступил в школу рабочей молодежи, минуя девятый, сразу в десятый класс и, ведомый той же интуицией, не говорил в “бригаде” и о занятиях в школе. Чтобы как-то выкручиваться, я старался брать в “бригаде” ту часть работы, которую можно было делать дома.
Незабываемый это был год. В институте я учился на втором курсе, не говоря, разумеется, о том, что учусь ещё и в 10-м классе. Разумеется, и в школе не говорил, что учусь на втором курсе. А в “бригаде” скрывал и школу, и институт. Самой трудной, трудоемкой — была школа. Занятия были три (кажется) раза в неделю, по утрам. Но в этой школе рабочей молодежи оказались очень хорошие, но и очень строгие учителя. Отметки бывали справедливыми, но весьма суровыми. Так, по математике тройка считалась большим счастьем, а о четверках не приходилось и мечтать. Три раза в неделю по вечерам проходили занятия и в заочном институте — рисунок, живопись, лекции. Но там можно было и прогулять.
Притаскивая работу домой, я пытался вовлечь в помощники отца. Но он оказался практически непригодным к оформительской работе. Дал ему задание — нарисовать серп и молот, прихожу, смотрю — что-то не так. Он нарисовал его в другую сторону, зеркально.
Заказов у Горева становилось все меньше. Убывала и его строгость. И я мог готовиться к экзаменам. Я понимал, что больше такой чудовищной загрузки не выдержу, и поэтому особенно старался в школе, чтобы уж наверняка получить аттестат.
Когда наступило время экзаменов, экзамены в институте и в школе совпали — утром в школе, вечером в институте.
Совпадали и некоторые предметы — к примеру, история СССР была и в школе, и в институте, и тогда, готовый к суровым школьным требованиям, в институте я просто блистал. Я так боялся осечки, что мог бы получить аттестат с отличием, если бы не пробелы в отметках за девятый класс. Пробелы, причину которых знал я один.
В этот для меня незабываемый период отец как бы не замечал моих трудностей. Он поглощен был своими “волновиками” и, обобщая свои о них размышления, подошел к открытию “закона”, который должен был потеснить ньютоновский четвертый закон механики. Он постоянно писал в различные научные учреждения, институты, добиваясь встреч с учеными авторитетами, в надежде на “признание”. Но признание не приходило, и получив очередной отрицательный отзыв, он огорчался чуть не до слез. Называл ученых олухами. Вскакивал среди ночи, чтобы дополнить, сделать убедительнее свои формулировки. И снова добивался приема, шел к очередному авторитету.
Для доказательства своей правоты отец построил прибор “опыт сравнения скоростей”. По двум параллельным бороздкам-путям катились два круглых стальных шара. Один по “прямолинейному”, другой по “волновому” руслу. И действительно, по “волновому” руслу шар всегда прикатывался раза в полтора скорее, чем по прямому. Когда отец направлялся со своим прибором в институт механики Академии наук, я был с ним в качестве ассистента.
Когда, установив прибор, мы пустили шары, ученый-эксперт пришел в некое замешательство. Он менял шары местами, сомневаясь в их одинаковости, щупал пальцами дорожки, видимо, подозревая, что они не одинаковы. Словом, при нас ни объяснить, ни опровергнуть показания опыта он не мог. А показания действительно входили в противоречие с законом Ньютона! Хотя мне не удавалось до конца вникнуть в теоретические выкладки и формулы отца, растерянность ученого обнадеживала. Но когда пришел письменный отзыв, о сомнениях в не-зыблимости законов механики не было и речи. Чаще всего, эффект отцовских шариков объясняли неким известным эффектом Бершли.
Так или иначе, но когда, взывая о сочувствии, я начинал конючить, жаловаться на свою сверхзанятость, отец брезгливо фыркал и говорил: „да брось ты свой институт, школу. Они-таки признают мой закон, и мы все поедем на Цейлон“. Не очень знаю, каким образом признание закона связывалось с поездкой на Цейлон. Разве что тем, что Цейлон, остров вечной весны, был, как и “волновики”, заветной мечтой отца. Были и стычки другого рода: застав меня за заучиванием поэмы Маяковского, отец не на шутку разгневался. „Как смеют они заставлять тебя выучивать Маяковского! Скажи им, что ты Хлебников!“ Поиходилось зубрить Маяковского втихую ‹...›
Загнанный в угол, отец все больше замыкался в фантастическом своем мире, и лишь заботы о Юлии Николаевне связывали его с действительностью. Отец отлично, яснее многих сознавал и оценивал все происходящее. И если прежде критическая его полемика обращена была к искусству, он сохранял веру в то, что где-то “наверху” смогут его понять, исправить чудовищную, на его взгляд, художественную политику, писал письма Молотову, Сталину с просьбой принять его для беседы об искусстве и, разумеется, о Велимире Хлебникове, то теперь, разговорившись, он говорил о “разбойничках”, захвативших власть, что было ещё опаснее. Иногда ко мне заходили студенты-однокурсники. И радуясь новым слушателям, отец, начиная с изложения художественных своих взглядов, скоро переходил на “разбойничков”.
Я всячески старался отвлечь, перевести разговор на безопасную тему. Но это бывало не просто. По уходе визитеров делал ему суровый выговор. Но он как бы не понимал крамольности своих речей. „А что, что такого я говорил?“ — оправдывался он. И был неисправим. Как он, как мы уцелели! Спасибо и приходившим ребятам, которые, может быть, не до конца вникая в его речи, не ужаснулись и не донесли ‹...›
К концу второго курса в институте появилась у нас новая деканша. Наводя порядок в кафедральных делах, она вызвала меня по поводу отсутствия аттестата, липовой моей справки. Но я шел к ней без страха. Меньше месяца оставалось до получения моего аттестата зрелости. А то, что он получен будет студентом уже третьего курса — никого как-то не смущало ‹...›
Минули экзамены. С несказанным облегчением сдал я в деканат новенький аттестат. Такое же несказанное облегчение наступило и в распорядке моей жизни. Окончена школа, в институте каникулы. Работа? Несмотря на скудные заработки, и бригадир наш Горев, и Николай Васильевич, любитель выпить, не слишком утомлялись работой, и оставшись без учебных нагрузок, выполнять свою долю работы мне было легко.
А между тем так, сначала с увеличения по клеточкам официальных портретов, плакатов в армейской бригаде, затем освоения оформительских премудростей, начиналось освоение практических навыков. С малых лет “подкованный” теориями отца, я осваивал все с ними связанные технические, ремесленные приемы. Так, под портреты и плакаты мы сами грунтовали огромные холсты, а часто вместо холста мешковину. Мешковина в натянутом виде похожа была на решето, и, чтобы заполнить грунтом дырявость, грунтовать приходилось много раз. Писал не “сухой кистью”, растушевкой, а “корпусно”. Увеличивая плакаты, чтобы не скучать, старались интерпретировать их на свой лад. И порою получались интересные, на мой взгляд, много превосходившие оригинал версии, многие из которых вполне могли бы подойти под опасное в то время понятие “формализма”. Но на фронтовых дорогах досмотра за нами не было. Оформительские дела также приходилось осваивать с азов — учиться ровно, без складок обтягивать планшеты бумагой. Покрывать их ровным, без затеков и пятен гуашевым фоном. Сочинять и выполнять картуши, ленты — всяческую бутафорию, принятую тогда для досок почета и прочих оформительских затей.
Выполняя очередной заказ, мы с Николаем Васильевичем должны были выклеить довольно пространные тексты золотыми буквами по полированным под красное дерево щитам. Мы знали, что на полированной поверхности столярный клей не держится. Но как-то получилось, что кроме столярного никакого другого более годного клея у нас не оказалось. И на авось стали клеить. Авось, продержатся буквы до сдачи работы. Но буквы верхних строк стали отскакивать, падать раньше, чем мы доклеили нижние. Мы снова пытались прилепить их на место, но, подсохнув, отпадали снова. “Авось” не прошел, и по утру пришлось искать нужный клей. А свежая полировка порядком оказалась загаженной.
Исполнительской работой Горев не утруждался. Его сферой были нередко проходившие в ресторанах переговоры с заказчиками и генерирование идей в маленьких эскизах. Мы же с Николаем Васильевичем — двое самоучек, измышляли способы воплощения высочайших волеизъявлений. Нередко Горев устраивал нам уничтожительный разнос. Заставлял все переделать.
Оформительская судьба занесла нас в музей пограничных войск. Уже плохо помню, что делали именно там. Какие-то стенды для передвижных фотовыставок.
Среди сотрудников музея оказался симпатичный майор (НКВД!), любитель-художник. И как-то так получилось, что Горев пригласил к себе на обед этого майора, ещё одного офицера и нас. Я же, на грех, привел с собою отца. Выпили по рюмке, по другой и, завладев вниманием гостей, отец разразился филиппиками, сначала в адрес Александра Герасимова и К о , обласканных властью художников, а затем соскользнул на “красный террор”. От ужаса все примолкли.
И опять же спасибо офицерам: из уважения ли к его сединам, по душевной ли их доброте — и этот случай остался без неминуемых, казалось бы, последствий ‹...›
Послевоенное наведение порядка, “закручивание гаек” коснулось и оформительского промысла. Если раньше Горев под выпивку договаривался с заказчиками, под выпивку и сдавал заказчику готовую работу, то теперь некий “безлюдный фонд” учреждений и предприятий был ликвидирован, с тем чтобы все деньги выплачивались перечислением через ДОК — декоративно-оформительский комбинат. Комбинат этот забирал добрую половину денег заказчика, в том числе и на содержание художественного совета, вольного принять, либо забраковать любую работу.
На худсовете утверждались и эскизы. Бравый наш Горев как-то сник, и бригада наша стала глохнуть, распадаться. Впоследствии Горев снова возник, но уже на административных должностях. Возвысившись до кресла директора комбината, стал разъезжать в служебной машине. Но к тому времени мы виделись с ним разве что случайно. Меня же выручил, подобрал в свой “бизнес” тоже бывший сослуживец-солдат — Витя Рожков. Архитектор по образованию, Витя приладился делать плакаты-пособия по технике безопасности. Обзавелся постоянными могучими заказчиками вроде завода «Калибр». Я до сих пор пользуюсь подаренной мне на «Калибре» метровой стальной линейкой, правда, кривой, потому что подарки делались из брака.
Работы было много, и можно было бы жить припеваючи, если бы не комбинатский художественный совет. В те годы никакие условности не допускались, и фигуры рабочих в заданных позах у заданного оборудования следовало изображать “реалистически”. А это нам с Витей не всегда удавалось. И именитый худсовет брезгливо браковал наши старания, иногда снисходя до назиданий о мыщелках, ключицах и других анатомических факторах.
Мы с Витей обращались за помощью к нашему домашнему “академисту” — к отцу. Позировали ему в нужных позах, но он, видимо, сильно порастерял свою академическую выучку и тоже не всегда справлялся. Так или иначе, но у отца, кроме “академической” пенсии с “хлебной надбавкой”, составлявшей 27 рублей, заработков не было вовсе. Плакаты эти кормили нашу семью до окончания мною института ‹...›
С институтскими заданиями я справлялся легко. Был на хорошем счету у милейшего нашего преподавателя Ивана Ивановича Захарова. Но надо было очень постараться, чтобы получить у Ивана Ивановича тройку, не говоря уж о двойке. Наш староста курса Толя Серебряков, ещё будучи студентом, каким-то образом сделался главным художником издательства «Стройиздат». И однокурсники потянулись к нему за работой. Попросил работу и я. И получил заказ на обложку «Расчеты конструкций сельских зданий».
Запомнилась мне эта работенка. Как всякий неофит, я пытался сделать из этой обложки некий художественный шедевр. Заваливал Толю яркими и ярчайшими эскизами. А он тоже, видимо, по неопытности, не мог втолковать мне, что нужен просто четкий шрифт, к чему в конце концов и пришли, ограничившись старательным, но неумелым шрифтом и фрагментом строительного чертежа. Больше Толя не звал меня, а я к нему не просился ‹...›
Юлия Николаевна жила ужасом отцовского ареста. Но — смотрели работы Петра Васильевича, очевидно, его превосходную графику военных и послевоенных лет, восторгались. Он писал Юлии Николаевне: „Была Лунина с Ваней Бруни. Восхищались работами. Ещё хотят прийти смотреть живопись. Он похож на мать и внешностью, и темпераментом. Возможно, что и способный парень“ ‹...›
Изредка появлялась у нас растившая сынка Майя. И как-то узналось, что теперь она “изменила” нам с Фальком, на многие годы став его подругой. Через Майю я познакомился с Фальком, встречал его на Арбате у Майи, бывал с нею в чердачной мастерской Фалька. Отец недолюбливал Фалька. „Дураком уехал, дураком вернулся“, — комментировал он по возвращении Фалька из Парижа после его выставки. Видимо, зная об отношении отца, Фальк все же приходил к нему, смотрел живопись матери, его работы. Но приглашения Фалька смотреть его работы отец не принял, и дружбы не получилось, хотя оба они были в сходном положении — изгоев-формалистов. Впрочем, положение Фалька было несколько лучше благодаря светским знакомствам. Стало модным брать у него частные уроки живописи. И среди его учеников были и Рихтер, и, кажется, Алпатов.
Может быть, поклонники и покупали у него живопись. Но скупо. Во всяком случае, Майя говорила, что давний, ещё по Парижу, друг Фалька Эренбург охотно принимал картины в подарок, но ни одной картины не купил.
Иногда отец предпринимал попытки вырваться из своей изоляции. Так, решился он пригласить к себе Эренбурга в надежде, что он проникнется плачевной судьбой поэзии Хлебникова и живописи Веры Хлебниковой. Надеялся он, кажется, что Эренбург закажет ему свой портрет и будет заработок. Наивно, конечно. Но свидание состоялось. Я встречал Эренбургов во дворе. Он был с женой Любовью Михайловной. Провел их на наш девятый этаж. Отец показывал живопись мамы, много говорил о Хлебникове, показал и свои работы, даже рассказал и о своих “волновиках”. Сказал даже, чтобы показал и я. И я. смущаясь, вытащил какие-то картинки. Реакция Эренбурга была сдержанной, и за визитом этим ничего не последовало. Отец же разочаровался и в Эренбурге ‹...›
Не вполне осознавая трудности положения отца, я раздражался порою пассивностью его перед постоянно нависавшей угрозой крайней нищеты. Как грустно вспоминать мне о нем, загнанном в безвыходный угол теперь! При всякой возможности отец уезжал в Малоярославец к Юлии Николаевне, и оставаясь один, я стал подумывать о женитьбе.
Время от времени появлялись милые моему сердцу девицы. Но стоило мне заикнуться о каких-то намерениях, отец так сердито и категорично фыркал, что я тут же и умолкал. Я мог ворчать, капризничать, но выйти из его воли не мог никогда. И вдруг, когда по каким-то учебным делам зашла ко мне однокурсница Эра Либерман, отец отнесся к ней одобрительно.
Тихонькая Эра мне нравилась, и я быстренько решил жениться, пока отец, чего доброго, не раздумал. Вскоре мы расписались, почему-то тайно от однокурсников, и Эра поселилась у нас.
Она не была москвичкой, отец ее, Ефим Григорьевич, отставной подполковник, поселился в Махач-Кале. До окончания института оставалось около года, и родители Эры присылали нам по 50 рублей в месяц, что стало ощутимым подспорьем.
Эрин дядюшка — Григорий Захарович Росин был директором махачкалинского музея. Каким-то образом он устроил нас в этнографическую экспедицию художниками, и я, впервые за много лет, отправился на летние каникулы в путешествие.
В экспедицию, в горы, я отправился с восторгом. Правда, экспедиционное начальство сильно загружало обязательными заданиями, и я, рисуя утварь, посуду, украшения, одежды, мало что успевал рисовать для себя. Но само путешествие было незабываемым. Обильные урожаи объектов мы не успевали зарисовывать, и основная группа экспедиции уходила вперед. Наметив дальнейший маршрут, оставляли нас с Эрой вдвоем. Местные жители были приветливы, делились скудными своими припасами, но к трапезе приглашали меня одного. Лишь когда мы, мужики, наедались, хозяева говорили: „иди, зови свой женщина“.
Передвигались мы от аула к аулу по тропам, пешком. Я брел, нагруженный папками, рюкзаком. Обгонявшие нас согбенные старухи не могли вынести зрелища нагруженного мужчины. Почти силой они отнимали мою ношу и убегали вперед. Вещи свои мы находили на дороге, при входе в аул.
Горные пейзажи манили и восхищали. Порою, я улучал время для своей работы, но чувствовал себя не готовым ещё к самостоятельной работе. Если в оформительских и простых прикладных делах я волен был делать то, что заблагорассудится, то над станковыми опытами нависала тень недостижимо высоких критериев, требований отца. Теперь, думая о судьбе отца, я отмечаю, что установка его на сверхзадачу сковывала и его самого. Не очень-то плодовитый, сколько рисунков, живописи уничтожил он в угоду своим теориям!
Среди обязательных для зарисовки предметов было много серебряных украшений — пряжек, подвесок, браслетов, цепей. Владельцы охотно их продавали, ценили низко. Но денег у нас не было вовсе. Хватило лишь на балхашский горшок. Тогда всех кустарей, умельцев объединили в артели. Давали задания. Кубачинские злато-кузнецы делали прочищалки для примусов. Молодежь отделялась, уходила в города. В аулах оставались согбенные старцы и малые дети. Рушились, иссякая, вековые устои.
Старики молча позировали мне для портретов и молча уходили, не интересуясь взглянуть, что получилось. Мы уезжали, а на вершинах уже белел снег, который заметает тропы до весны. Согбенные старухи собирали прутики, сучья скудной растительности, запасая топливо на долгую зиму ‹...›
Двум наиболее успешным дипломникам курса институт давал деньги на воспроизведение дипломной книги в типографии. В число двоих попал и я. Придя в деканат за назначенными мне деньгами на печатание диплома, я был смущен каким-то странным ко мне равнодушием. Все сидели, повесив носы, шептались между собой и не обращали на меня никакого внимания. И я был немало смущен, пока не узнал причину обшей растерянности. Умер Сталин! Деньги на типографские работы я все же получил, и после многих хождений по разным типографиям диплом мой был набран и отпечатан и даже с цветными офсетными репродукциями. Тогда многое в типографиях я делал сам и кое-чему научился. Понял многие процессы. Разумеется, диплом я, так же как и Эра, защитил, и должна была начаться новая жизнь ‹...›
Я забыл раньше рассказать о том, что студентам-полиграфистам полагалась преддипломная практика в издательстве. Я попал в «Госкультпросветиздат». В издательстве нас, практикантов, не очень обременяли. Но время от времени можно было улучить заказик на обложку. Первой моей обложкой там была книжонка «Праздник урожая». Ростислав Георгиевич Алеев, тогда главный художник, заставил меня делать и переделывать около десяти вариантов эскизов. И в конце остановился на одном из первых. Были и другие обложки — к примеру, «Есть ли жизнь на других планетах». Но были в издательстве и “детские” темы. И я получил заказ — рукопись стихов Сергея Баруздина. Заказ этот кончился печально, потому что когда я сделал всю работу, почему-то издание отменилось, как говорили, не из-за меня, а была не одобрена рукопись, стихи. И кажется, мне немного заплатили за принятые, но оказавшиеся ненужными рисунки ‹...›
А в жизни нашей наконец-то наметилась сытая полоса. Мой однокурсник Ваня Светиков неожиданно сделался главным художником издательства министерства сельского хозяйства и предложил мне работу. Заказ я успешно выполнил и вскоре сделался в этом издательстве одним из самых желанных художников, был завален работой.
Это были годы хрущевского подъема сельского хозяйства. Издательство выпускало миллионными тиражами пропагандистские плакаты, буклеты, листовки по кукурузе, по целинным землям, по новой технике. Заказы были срочными, так что нередко, проработав ночь, утром я сдавал работу присланному ко мне на дом курьеру — девочке, прозванной за прическу Максимкой (был такой кинофильм по рассказу Станюковича о негритенке «Максимка»).
Говоря о художественном моем будущем, отец считал, что для становления мне нужно „два года студийной работы“ под его руководством. И я зарабатывал так много, что начал откладывать деньги на „студийную работу“. Пытался я и отца вовлечь в эту безудержную гонку за заработком. Иногда он действительно выручал меня, выполнял отдельные картинки. Но увлечен он был по-прежнему волновиками — „птицей“. Построив небольшую модель с пружинным эксцентриком, он начал строить модель большего размера с маленьким бензиновым моторчиком. Но моторчик этот давал огромное число оборотов, ему же была нужна такая передача, чтобы эти резвые обороты трансформировать в сравнительно редкие колебательные импульсы. И вот именно механизм трансмиссии никак не налаживался.
К работе подключился отец моего друга и соседа Лени — Исаак Самойлович, врач-протезист. На своих бормашинах он подтачивал. Вытягивал нужные детальки. Но механизм налаживался многие месяцы. И месяцы эти были трудноватые.
Под утро, когда зачирикают воробьи, я сваливался после ночной работы в сон. И, как казалось, тут же взревал моторчик, комната заполнялась угаром выхлопных газов. Это выспавшийся отец принимался за свою птицу. Но к его досаде и моему облегчению передача снова срывалась, и моторчик умолкал. В безветренную погоду выходил он с „птицей“ и на двор, но увы — с тем же результатом. Жаль — эта „птица“ так и не взлетела.
Отец и Исаак Самойлович увлекались шахматами.
Обычно Исаак Самойлович звал отца поиграть к себе. Они располагались в малюсенькой комнатке, вытеснив жену — Лину Абрамовну на кухню, и сражались, оба изрядно куря притом. Вытерпев какое-то время, Лина Абрамовна начинала уговаривать их кончить турнир. Тогда оба они перекочевывали к нам и сражались до 2-3-х ночи.
Шахматные силы их были, видимо, равны, и сражались они с азартом. Временами даже вели учет выигрышей и проигрышей — крестиками на стене ‹...›
Лихорадочная работа в издательстве министерства сельского хозяйства меня увлекала. Конечно, и заработок был ох как нужен, но интересны были и результаты — полиграфические. Помню, как огорчился, когда вышел из печати первый мой цветной офсетный буклетик. Потери в цвете казались ужасными.
С опытом удавалось и приспосабливаться к капризам печати, и спокойнее относиться к неизбежным потерям. В издательстве не было художественного совета. Главный художник, мой однокашник Иван Светиков очень был мною доволен, завалил заказами. Но на каждом буклете, плакате нужно было собрать около восьми подписей специалистов- агрономов, механиков по машинам и т.д. Эскизы они смотрели рассеяно. А вот когда готов был оригинал, начинались замечания. Помнится плакат со сложным комбайном новой конструкции (для уборки подсолнечника). Специалист разглядывает оригинал. Все хорошо, даже очень хорошо. Но! Нужно повернуть этот комбайн немного, так, чтобы виден был какой-то там важный болт или колесо! Специалист не понимает, что „немного повернуть“ — значит всю работу делать наново. И так бывало очень даже часто ‹...›
За год-полтора этой гонки я сделал около сотни плакатов, буклетов, других изданий, которые печатались порою полумиллионными тиражами.
Тем временем в Махач-Кале родилась моя дочка Верочка, 28 апреля 1954 года. Я выбрался в Махач-Калу познакомиться с нею в конце года. Тогда Верочке было уже восемь месяцев. Глазастое миленькое существо это уже усердно ползало по дивану. Очень хотелось подружиться с нею, и я стал готовиться к лету, постепенно склоняя отца к тому, чтобы уехать куда-нибудь на пленер всем вместе: мы с отцом и Эра с Верочкой. (Юлия Николаевна поехать с нами не могла — у нее совсем сложно было с сыном Шурой и она теперь жила при нем. Разрешение на жизнь в Москве после смерти Сталина она получила очень скоро) ‹...›
Стали вспоминать и об отце. Приходили даже “обследовать” наше жилище и обещали настоящую квартиру. Получил отец и заказ — Гончаров, ставший главным художником «Гослита», заказал ему портрет Пастернака, кажется, для издания «Доктора Живаго». Отец созванивался с Пастернаком, собирался ехать рисовать портрет в Переделкино. Но так и не собрался до разразившегося с Пастернаком скандала. Ни издания, ни портрета не состоялось ‹...›
Подружился там я с местным дедом Кретом. Дед Крет охотно мне позировал. А я приносил ему четвертинки водки. И мы распивали с ним из его единственного, невероятно грязного стакана. Дед был бобылем. Пустующий его сарай, бывший коровник, оказался замечательной мастерской: соломенная крыша провалилась и сквозь дыры сарай заливал ровный верхний свет.
Через сорок лет, отправляясь в Японию, я взял с собою одну из акулининских акварелей. И акварель эта не только была куплена, но меня просили скопировать её ещё для одного покупателя!
Жизнь в Акулинино была тихая, без событий, и я мало помню подробности тамошнего бытия. Разве что день, когда Эра за чем-то уехала, кажется в Москву, а наша Верочка закатила такой многочасовой рев, что мы с отцом не знали, что и делать. Изрядно она нас напугала, да и умучила.
После “семейной” жизни летом в Акулинино Эра снова уехала с малышкой в Махач-Калу. Жить у нас, на девятом этаже, было слишком сложно.
Отправляясь в Акулинино, я с трудом “обрубал концы”, завершая начатое и отказываясь от новых соблазнительных заказов от Ивана Светикова. А по возвращении в Москву решил круто поменять работу. Отказавшись от обильной сельскохозяйственной “жатвы”, решил искать заказы на иллюстрации для детей. Но приходя в незнакомые издательства, кроме своего желания я мало что мог показать конкретно: кроме не очень-то “детского” дипломного «Тиля Уленшпигеля» и нескольких случайных картинок к «Коньку-Горбунку» показать мне было нечего.
В «Детгиз» с таким багажом обращаться я не решился. Куда же податься?
В то же время отец, довольный летними моими успехами, решил, что пора мне вступить в МОСХ. Нужны были три рекомендации, и первую, очень теплую, написал мне отец. (Когда сдавал документы, в МОСХе мне сказали, что от отца неудобно. Пришлось её заменить. И жалко — она не сохранилась.)
За другой рекомендацией отец отправил меня к Михаилу Семеновичу Родионову. Михаил Семенович тоже дал мне хорошую рекомендацию. И более того, разговорившись, узнав о моей мечте о детской иллюстрации, он направил меня в издательство, которое тогда называлось «Росгизместпром», будущий «Детский мир», а затем «Малыш». Редактором там была его дочь Софья Михайловна Родионова. Издательство это выпускало в основном не книжки, а наклеенные на картон “ширмочки”, “раскладушки” для самых маленьких. От Софьи Михайловны я получил первый “детский” заказ. Сказочка называлась «Кролик и обезьяна». Взволнованный вернулся домой. Засел за работу и к ночи нарисовал всю “ширмочку”. Да так, что уже и не знал, что делать с нею дальше. С трудом преодолевая нетерпение, выждал несколько дней, чтобы не пугать быстротой Софью Михайловну, и понес работу в издательство. Не помню, были ли замечания, но в основном работа была принята, одобрена.
Окрыленный успехом, я обежал с этими рисунками другие издательства — «Госкультпросветиздат» (будущую «Советскую Россию») и даже Гослитиздат.
Зацепкой для похода в Гослитиздат было знакомство мое с Константином Михайловичем Буровым. До «Гослита» Буров был главным художником «Главиздата» или чего-то в этом роде. Словом, главным художником всех издательств! И в то же время у него не было высшего образования. И чтобы сохранить высокую должность, он должен был поступить в заочный «Полиграф». Там мы и познакомились.
Также студентом-заочником был и важный главный художник Алеев.
Перейдя потом в «Гослит», Буров принял меня и заказал мне переплет к томику рассказов И. Бунина. Тоже нелегко шла работа, но томик все же вышел с моим переплетом. (Кажется, это было первое после долгого забвения издание Бунина.) Но в «Гослите» я не удержался. Было ещё задание — конкурсное, на переплет Собрания сочинений Достоевского. Но я сдался, почувствовав, что оформительская, шрифтовая в основном, работа не для меня.
Оформление книги в институте вел милейший Виктор Васильевич Пахомов, который был художественным редактором в «Детгизе». (Как я узнал потом, у него тоже были сложности: практик издательского дела, он не закончил даже гимназии. Поэтому не мог поступить и в наш заочный «Полиграф», где прекрасно преподавал.) Это была ещё зацепка. И я отважился прийти к Виктору Васильевичу в «Детгиз». Он, Виктор Васильевич, представил меня Дехтереву [Главному художнику]. Но Дехтерев посмотрел моего «Уленшпигеля» довольно-таки брезгливо, ничего не пообещав.
Но Виктор Васильевич все же заказал мне довольно солидную работу — целый раздел в сборнике китайских сказок «Золотой фонарик». Кроме меня в работе этой участвовали Кочергин, Колтунов и Молоканов. Сборник должен был быть чёрно-белым.
К этому времени я уже закрепился в «Детском мире» и сделал несколько “раскладушек-ширмочек” ‹...›
Вызвали меня и на прием в МОСХ, но приняли лишь в “кандидаты”. В те годы, по каким-то причинам, процедуры приемов проходили очень редко. И перевод мой в члены состоялся только через пять лет, в 1961 году‹...›
В 1956 году мы снова стали мечтать о лете. На этот раз Вася — брат, соблазнил поехать в знакомые ему места, в деревню Студенец в Ярославской области. Ехали опять грузовиком, со скарбом. На этот раз запаслись даже масляными красками. Деревенька была из нескольких жилых домов. Название же Студенец происходило от многочисленных ключей, то тут, то там бивших из земли и образовывавших ручьи.
Там же, через улицу, поселился и Вася с женой и сыном Сережей, которому было тогда лет восемь. Жители Студенца жили почти натуральным хозяйством. У них не было денег и на самые простые вещи. Один из жителей вел долгую тяжбу с лесхозом. Он просил меня помочь ему в составлении прошений, суть которых была в том, что зимой он работал на лесозаготовках со своей пилой. У пилы сломалось три или четыре зуба. И он требовал от лесхоза возмещения этого убытка. Тайком, в лесу мужики гнали самогон и, познакомившись, звали меня отведать “первача”, ещё горяченького.
Но это лето не было для меня свободным для станковой работы. К определенному сроку, назначенному в начале августа, я должен был сделать много рисунков для «Золотого фонарика».
Отец же, напротив, хорошо разрисовался, сделал много рисунков тушью и даже брался за масло ‹...›
Картинки к «Золотому фонарику» я делал уже не так спонтанно, как когда-то первую свою “ширмочку” — «Кролика и обезьяну». Тщательно компоновал, помногу раз переделывал, добиваясь свободы и напряженности линии. Делал кистью, тушью. И теперь очевидно, что тогда складывались основные черты моего стиля.
Возможно, работая в Москве, я был бы более зависим от каких-то китайских образцов, но в Студенце, в деревне приходилось опираться на память и интуицию, что тоже было полезно ‹...›
Хозяйкой дома была веселая быстрая старушка. Верочка, которая уже твердо встала на ножки, взяла какую-то палочку и сделала “паф”, как бы из ружья. Бабушка вскрикнула „Ой-яй-яй“ и грохнулась на пол — “подстреленная”. Бабушка корила своего хозяина — „опять нажрался, бык рогатый“, угадывая, что он побывал на лесной самогонке. Огрызаясь, старик замахнулся на бабку. Тут вскочил отец и страстно отчитал его. Как смеет он поднимать руку на святую женщину! ‹...›
В конце августа подходил назначенный мне срок сдачи рисунков к «Золотому фонарику». И хотя вскоре, в сентябре, мы все собирались в Москву, я решил ехать в Москву, сдавать работу в срок.
Выбираться из Студенца было не просто. По разбитым тяжелыми лесовозами дорогам с трудом передвигались только грузовики. Но случилась оказия — колхоз зачем-то отправлял грузовик свой в Москву. Тщательно упаковав рисунки, завернув их в клеенку — от дождя, я забрался в кузов, там сидело ещё человек 7-8 колхозников. Поехали. Когда в пути сделали остановку около какой-то столовой, шофер наш, молодой парень, вырвавшийся в “дальний рейс”, выпил водки. Я не был с ним рядом, но, видимо, выпил он изрядно, судя по тому, как бесшабашно стал он гнать по шоссе машину. Когда сделали остановку, чтобы размяться, у меня мелькнула мысль, что лучше бы поголосовать, поймать другую машину. Но инерция уже начатого пути притормозила мои опасения. Вечерело, и в открытом кузове я изрядно замерз. Колхозники были одеты теплее, в ватниках. И меня посадили в кабину, где уже сидел мальчик, кажется, сын председателя колхоза. Помчались дальше, угревшись с сидевшим у меня на коленях мальчиком, я, видимо, задремал. Помню визг тормозов, я распластан на спине, на земле. Вижу машину, лежащую на боку. Отмечаю, что колеса ещё крутятся, по инерции. Значит, я не был без сознания. Боли не чувствую, только тяжесть. Ощупываю себя и не нахожу правую ногу. Оказывается, нога моя оказалась под головой! (Не оторвалась, но сломанная в бедре завернулась под спину.) Другие пассажиры, разбросанные из кузова. Тоже стонут. Я же думаю о папке своей с рисунками. Прошу найти ее. Кто-то из уцелевших услышал меня. Нашел папку и принес её мне. Остановили попутный грузовик, погрузили в кузов всех пострадавших. Поехали. Раненые сбились в стонущий клубок, перекатывавшийся на ухабах. Я лежал, стараясь руками защитить сломанные ноги и в то же время не упустить папку с рисунками.
Ближайшая больница оказалась в Загорске, в Лавре, куда добрались уже ночью. Как оказалось, я был самым тяжелым. Сидевшие в кузове отделались переломами ключиц, ребер. Я же в тот момент, когда грузовик начал кувыркаться по уклону обочины, выпал через открывшуюся дверь, и грузовик перекатился через меня, сломав обе ноги и повредив тазовую кость. Сидевший со мной мальчик сломал челюсть. Шофер, видимо, уцепившийся за баранку, — уцелел.
Оказавшись на операционном столе, я видел белые кости с висевшими на них клочками мяса. Боли не чувствовал и помню, удивился тому, что хирург собирает, подшивает эти клочки, вынимая из них соломинки и прочий мусор, налипший со дна кузова грузовика, в котором доставили нас в больницу. Не помню, делали ли мне анестезию, но боли не чувствовал совсем. Только безмерную тяжесть.
Открытым, с содранным мясом был перелом левой голени. Перелом правого бедра был закрытым. Большая палата — сводчатый зал, где было коек сорок или пятьдесят (кажется, помещение монастырской богадельни). Ногу мою загипсовали, как помнится, называлось “кокситная повязка”. Так что загипсован был и таз, и нога полностью обездвижена. Сломанное бедро просверлили дрелью около колена, и, прицепив за вставленный штырь, скобу к скобе на веревке, через блоки, подвешен груз — вытяжение.
А чтобы вытяжение не утягивало меня, койка моя установлена с уклоном. Лежу на спине, сильно вниз головой. В рваной ране сильное нагноение. Делают уколы антибиотиков. Первые дни, недели (?) в забытьи, в полубреду. В Студенец до отца, до Эры дошли вести о случившемся: „Москвич (это я) кусок мяса, весь в лепешку!“ Видимо, проездом в Москву (как-то, не знаю, как они добирались) появился отец. Увидев меня, заплакал: „Распятый Христосик“ — вырвалось у него. Но я слабо реагировал. Но не забыл о рисунках! Просил взять их и отнести в издательство. Так давалась первая, казавшаяся солидной работа.
Нагноение остановилось, на месте перелома правой ноги начала образовываться шишка — “мозоль”, прощупывавшаяся как яблоко. Эра почти каждый день проделывала путь от Москвы в Загорск. Привозила бульоны, записки от отца, вести. Издевательской вестью оказалось то, что издание «Золотого фонарика» откладывается чуть ли не на год, потому что чёрно-белую книжку решили сделать цветной. И хотя я и впредь старался быть аккуратным в соблюдении издательских сроков, веру в их незыблемость потерял навсегда.
Лежал я далеко от окна, и только колокольный звон Троице-Сергиевой Лавры доносился с воли. Обходы врачей были редкими и небрежными. „Доктор, ну как мои дела?“ — спрашивал я. „Заживает — как на собаке“, — ответствовал врач, не взглянув на мои травмы. Раза два носили меня на рентген старушки-санитарки по крутой лестнице, куда-то вниз. Вот-вот уронят. Но не уронили ‹...›
Паша Захаров по просьбе отца хлопотал о переводе меня в московскую больницу. И вот после почти полутора месяцев загорского лежания меня перевезли в Москву. В больницу где-то на Госпитальной улице.
Оказавшись в автомобиле, я испытал ужас, особенно при звуках торможения, в мозгу моем возникала картина кувыркания и финала. При выписке из Загорска спросили о рентгеновских снимках. Их не оказалось. То ли потеряли, то ли носили на рентген для проформы, не затрачивая дефицитную пленку. В новой больнице выяснилось, что правая нога срослась на семь сантиметров короче — осколки сместились и зашли один за другой. Предложили ломать и сращивать снова. Очень уж не хотелось. Казалось, ну что же, бывают же хромые — и как-то ходят. Вспоминались такие специальные ботинки. Советовался с отцом. Он тоже был в нерешительности. Но вот все же решился. Под общим наркозом сломали ногу вновь и от шейки бедра через все бедро вставили стальной стержень — “гвоздь”. Обломки кости не могли сместиться. (Укорочение все же получилось, но не на 7, а на полтора сантиметра.) ‹...›
Потихоньку научился ходить на костылях. По настоянию врачей через силу делал приседания — разрабатывал коленки. Настал день выписки из больницы. За мною приехал Паша Захаров и, присев около моей койки, с трудом выговорил весть о смерти отца.
Весть эта обрушилась страшным горем. Как же так! Умер! Нередко сопротивляясь жестковатой его воле, я не умел, не знал как жить вне ее. Горе, отчаяние изливалось слезами.
В доме показалось как-то особенно чисто, просторно, даже пустынно. Всюду следы отца — его рабочее место, дедушкино ещё кресло, в котором сидел он, глядя в окно. Часами следил за полетом стрижей. (А куда делись московские стрижи? Сегодня, глядя в окно, не вижу ни одного.)
На одной из ширм висели большие мои летние темперные картины — фикус у окна и курица с цыплятами. Их повесил отец. Значит, они ему нравились. На рисунке, сделанном Пашей Захаровым с покойного отца, картинки эти оказались фоном.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 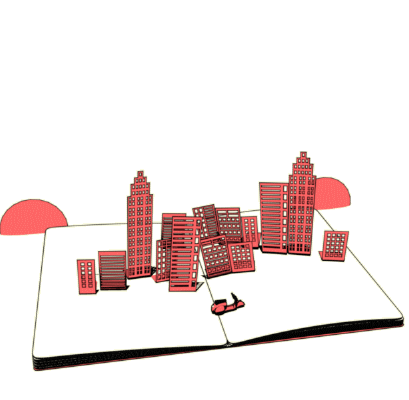 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||