

Любопытно, однако, насколько редко упоминается в этой связи Андрей Платонов, который своеобразием своих идеологических пристрастий, стиля (особенно в конце 20-х годов) и склонностью к сюрреализму сближался именно с Хлебниковым. Обратимся к тому немногому, что было написано по этому поводу.
Л. Геллер останавливается на стилевом своеобразии, присущем им обоим и достигаемом близкими средствами. Он указывает на необычную лексику, намеренные плеоназмы, синтаксические стяжения и другие сознательные “неправильности”, которыми отличается язык Хлебникова и Платонова [Heller 1984: 355–357]. Геллер усматривает и другую параллель — склонность обоих писателей к тропам (в особенности к персонификации и прозопопее), берущую начало, по-видимому, в общем для них „глубоко анимистическом видении“ мира [там же: 356].
Другие проявления сходства, в особенности обусловленные близостью философских взглядов или идеологических установок, удостоились исследовательского внимания в минимальной степени. Так, Е. Толстая-Сегал, вкратце касаясь возможных реминисценций из Хлебникова в ранних произведениях Платонова, указывает на отождествление “ego” и мира в «Маркуне» [Толстая-Сегал 1981/1994: 51] и отмечает его стремление к реализации футуристических лингвистических теорий. М. Геллер обращает внимание на сходство между мечтами жителей Чевенгура и хлебниковской утопией в «Ладомире» [1982: 217; см. также Seifrid 1992: 122]. Е. Яблоков, в свою очередь, обнаруживает хлебниковскую тенденцию в «Ювенильном море», имея в виду прежде всего образ зоотехника Високовского с его мечтой о новом мире, в котором животные будут наслаждаться плодами демократии [1994: 197]. “Философскому диалогу” между Хлебниковым и Платоновым посвящена статья Н.В. Корниенко (1990), которая указывает на общий федоровский фон у обоих писателей и созвучность “жизнестроительных произведений” поэта раннему творчеству прозаика, где „главенствует воссоздание идеальной программы бытия“ (80). Обращаясь к произведениям второй половины 20-х годов, Корниенко усматривает явную полемику с Хлебниковым в очерке «ЧЕ-ЧЕ-О», где Платонов, по мнению автора, пародирует хлебниковский очерк «Радио будущего» [Корниенко 1990: 81].
Каждый из названных исследователей, за исключением Корниенко, говорит скорее о сходстве, чем о непосредственном влиянии Хлебникова на Платонова. Подобная осторожность связана, по всей видимости, со скудостью внетекстовых свидетельств, указывающих на обращение Платонова к творчеству поэта, и с более общей проблемой “влияния”, его проявлениями в данном десятилетии. Столь многие писатели и мыслители этого времени размышляли над вопросами, волновавшими Платонова, что прежде всего следует определить, имеем ли мы дело с “влиянием” или здесь проявляется общий дух эпохи. Это допущение особенно справедливо применительно к утопизму — комплексу идей, одинаково близких и Хлебникову и Платонову. Так, Л. Геллер замечает. „Tout en cherchant les origines des grandes idées, en suivant les lignes de leur développment, il est important de voir qu’il s’agissait de préoccupations communes et que, dans ce cas, la question des influences directes perd quelque peu, sinon de sa portée, du moins de sa simplicité” [Heller 1984: 361–362].
Однако есть исключения из этого правила, к которым относятся и примеры, приведенные нами выше. Так, Геллер и Яблоков отсылают читателя к строкам из «Ладомира»: Я вижу конские свободы / И равноправие коров [Хлебников 1986: 289], — усматривая в них выражение той „зоологической утопии“ [Seifrid 1992: 123], которая является почвой для сближения Хлебникова и Платонова. Существует немалая вероятность того, что Платонов знал эту поэму, а возможно, и писал о ней. В 1924 году он опубликовал обстоятельный обзор первых номеров «Лефа», посвященный преимущественно его теоретической платформе. Статья заканчивалась обещанием еще одного обзора, на сей раз анализирующего художественный раздел журнала [Платонов 1924: 501-503]. Читатели так никогда и не увидели обещанной Платоновым статьи, но с большой долей уверенности можно предположить, что, явись она в свет, среди произведений, разобранных на ее страницах, нашел бы место «Ладомир», опубликованный во втором номере «Лефа» (1923).
Один из своеобразнейших комплексов идей Платонова — об эросе и любви и о их месте в новом революционном миропорядке — выдает и иное заимствование из Хлебникова, причем, возможно, даже более существенное, чем цитированный отрывок из «Ладомира». Речь пойдет о романе «Чевенгур». Тема эроса исследуется здесь на примере нескольких любовных связей, среди которых отношения Александра Дванова с двумя женщинами: с соседкой Софьей Александровной Мандровой и с крестьянкой, названной просто Фекла Степановна. И в разработке этой темы Платоновым распознается хлебниковский “пратекст”.
Софья Александровна впервые появляется в романе по возвращении Дванова к своему приемному отцу, Захару Петровичу, после взятия Новохоперска. Школьница в момент возвращения Дванова, она влюбляется в него, он в нее; проявления их взаимного чувства столь очевидны, что Захар Петрович начинает конструировать качели для ожидаемого внука. Соня рассказывает Дванову о своих планах стать учительницей, но, когда подходит время ее распределения в сельскую школу, она признается Дванову, что предпочла бы работать в цветочном магазине в родном городе. Он же, к ее огорчению, отвечает, что цветы меньше нуждаются в любви, чем дети, и следовательно, она должна посвятить себя детскому образованию.
Преданность Дванова социалистическим идеалам приводит в конце концов к тому, что он оставляет Соню. Когда предгубисполкома Шумилин просит его „искать коммунизм среди самодеятельности населения” [Платонов 1991: 95], Дванов, не раздумывая, соглашается и прощается с Соней. В ходе экспедиции на Дванова нападают анархисты, он получает ранение, но Степан Копенкин спасает его и отвозит домой. Однако через несколько дней, ни слова не говоря ни Соне, ни Захару Петровичу, ни товарищам, он уезжает вновь. Во время своего второго похода Дванов забредает в деревню Средние Болтаи, где останавливается у крестьянской вдовы Феклы Степановны и соблазняет ее (или она соблазняет его). Копенкин разыскивает его здесь и передает просьбу Сони вернуться к ней, но Дванов отказывается. В следующий раз, когда Копенкин приносит от Сони его „нательное добро”, он снова говорит, что останется с Феклой Степановной, но потом неожиданно меняет свое решение и присоединяется к Копенкину.
Роль Сони и Феклы в тексте романа определяется не столько их функциями самостоятельных персонажей, сколько их отношениями с Двановым, благодаря чему возникает противопоставление этих двух женских образов. Они воплощают собой две ипостаси единого женского начала, которые часто встречаются в творчестве Платонова [см. Семенова 1994: 81] Одна из них — “вечная женственность”: женщина как воплощение силы, вдохновляющей мужчину на завоевание мира и изменение его. Другая — “мать-земля”, втягивающая мужчину в извечный круговорот рождения, совокупления, размножения и смерти.
Из этих двух женских образов, притягательных для Дванова, Соня вызвала наибольший интерес критики, и не только потому, что ее присутствие в романе более ощутимо, но и по той причине, что роль, которую она в нем играет, легче поддается истолкованию в контексте авторской идеологии. Само ее имя, как полагает Толстая-Сегал, уже нагружено символическим смыслом: „Имя София ассоциируется с софийными идеями Владимира Соловьева и с культом Софии в ранней поэзии Блока и Белого” [Толстая-Сегал 1980: 194; см. также Геллер 1982: 236 и Малыгина 1994: 168–169]. Обращение к софиологии здесь особенно значимо, так как объясняет, почему любовь Дванова к Софье по сути своей асексуальна, а также — почему он противится устроению с ней в буржуазной семейной жизни, несовместимой с его устремлением к осуществлению коммунистической утопии. Образ Софии как источника вдохновения (а не эротического объекта) вписывается в богатую традицию утопизма, связанную с именами Соловьева и Федорова и утверждающую идею не-сексуального, или вернее, анти-сексуального, будущего и “товарищества” как высшей ценности по сравнению с гетеросексуальной любовью. Всего однажды Соня представляется Дванову как объект эротического желания: когда он ранен и близок к смерти („Шло предсмертное время — и в наваждении Дванов глубоко возобладал Соней” — 1991: 104), — исключение, лишь сгущающее негативную ауру, окружающую тему пола в романе.
Фекла Степановна во многих отношениях — противоположность Софьи Александровны. Она — крестьянка, немолода, вдова. Неудивительно, что в восприятии Дванова она поначалу сближается со смутным образом сестры его матери, которую он не помнит, так как она умерла вскоре после его рождения. Уступив желанию Феклы, Дванов не только предает Соню, свою “духовную любовь”, но и символически совершает и более тяжкий проступок: удовлетворяет физическую потребность, которая должна была бы сублимироваться в интересах революции и нарождающегося социализма. Собственно говоря, предательство по отношению к Соне и есть не что иное как предательство этих интересов. „Дванов знал, — сообщает рассказчик — что не будь этого человека [Феклы Степановны — Р.В], он бы сразу убежал к Соне, либо искать поскорее социализм вдалеке” [1991: 123].
Однако четкое, казалось бы, противопоставление Софии и Феклы в дальнейшем дискредитируется эпизодом из недолгой связи Дванова и Феклы: Дванов в постели с Феклой, он начинает ласкать ее, но вдруг застывает в неподвижности („Наконец руки его замерли в испуге и удивлении” — 1991: 124). Рассказчик поясняет его несколько неожиданное поведение следующими словами:
Е. Яблоков, в поисках софиологического подтекста, обнаруживает в этих строках цитату из поэмы Белого «Первое свидание», в которой читаем:
Хотя имя Софии и присутствует здесь, вычитываемый подтекст не согласуется с реалиями романа уже потому, что поэт обращается к трем сестрам и их матери Софии, а не к двум “сестрам”, которые при сравнении могли бы соответствовать двум женщинам в жизни Дванова.1![]()
Более вероятный источник заимствования — со сходной расстановкой персонажей — находим в поэме Хлебникова «Поэт», впервые напечатанной в 1928 году.2![]()
В заключение он клянется быть их вожатым в этом изгнании и дарит каждой из них по цветку в залог своего обета.
Эпизод из «Чевенгура» ближе к этой сцене из хлебниковского «Поэта» в гораздо большей степени, чем к поэме Белого. И у Хлебникова и у Платонова два, а не четыре женских образа. И у Хлебникова и у Платонова две женщины предстают как противоположности (одна олицетворяет языческий мир фольклора, другая — мир веры), и их родство — не более, чем плод воображения главного протагониста. Естественно сближение между Софией Платонова и Непорочной Девой Хлебникова, восходящее к традиционному отождествлению Премудрости Божией с Богородицей, “Невестой неневестной” [см. Малыгина 1994: 168-169]. Сопоставление же Феклы с русалкой рождается из также традиционной ассоциации последней с сексуальностью и обольщением. Дванов, в свою очередь, обретает двойника в поэте, который обращается к двум женщинам как к сестрам и стремится их утешить. Одним словом, расстановка трех персонажей в «Чевенгуре» зеркально отражает их соотношение в «Поэте».
Наличие хлебниковского подтекста выдвигает на первый план вопросы, касающиеся характера и роли этих двух женщин и ipso facto взглядов Платонова в целом на проблему пола и революции. Важнее всего, пожалуй, понять, почему Дванов неожиданно видит сестер в двух противостоящих друг другу женских персонажах, в чем источник их сходства. Если мы зададимся этим же вопросом по отношению к поэме Хлебникова, ответ будет очевиден: и Богородица и русалка — изгои в мире, в котором ценится только интеллект и точное знание, в мире, пренебрегающем всем тем, что лежит за пределами разума: верой, красотой, инстинктом, воображением, любовью. Русалка объясняет:
Противоречие между разумом и чувством или инстинктом, — одно из наиболее резко выраженных в творчестве Платонова.3![]()
Дванов в особенности живет в постоянном противоречии между разумом и чувством, у него „ум с сердцем не в ладу”. Рассказчик сообщает нам, что Дванов склонен, по натуре своей, больше прислушиваться к голосу чувств, нежели разума, но его преданность идеалам нового социального и политического устройства вынуждает его сублимировать свои чувства и сексуальные желания [см. среди прочего с. 65, 66, 158; ср. Naiman 1988]. Это же относится и к Чепурному. В отрывке, который воспроизводит в общих чертах схему хлебниковской поэмы, Платонов изображает сочувственное отношение Чепурного к прошлому, миру религии и любви:
Соня и Фекла, как, впрочем, и большинство женских персонажей в «Чевенгуре», представляют один и тот же мир — мир чувства и инстинкта. Соня, например, не в состоянии понять доводы Дванова, убеждающего ее не отступать от намерения стать учительницей, ведь „она была еще полна ощущений жизни, мешавших ей правильно думать” [1991: 94]. Преобладание инстинктов в душевной жизни Феклы сказывается в ее матерински-оберегающем отношении к Дванову: „Фекла Степановна защитила Дванова тем, что приучила его к своей простоте женщины...” [1991: 123]. Такова и нищенка Агапка, одна из немногих женщин, изначально жившая в Чевенгуре. Вот как она убеждает Карпия взять ее в жены: „Я б тебе и рожала, я б тебе и стирала, я б тебе и щи варила. Хоть и чудно, а хорошо быть бабой — жить себе в заботах, как в орепьях, и горюшка будет мало, сама себе станешь незаметной!” [1991: 319]. Иными словами, женщины в романе олицетворяют собой искушение покинуть идеалистический мир “товарищества” и вернуться назад, в прежний мир сексуальности и буржуазного быта.4![]()
Признание Сони и Феклы сестрами и желание Дванова „делать благо” (непосредственно для Феклы и через нее, косвенно, для Софьи) свидетельствуют о его готовности отдаться той силе, которую обе они символизируют, и укрыться в мире материнского покровительства и сексуального самозабвения. Необыкновенная власть, которую имеет над ним эта сила, подтверждается его решением остаться с Феклой навсегда.
Этот жест и признание Сони и Феклы сестрами воспроизводят действия хлебниковского поэта, который обещает русалке и Богородице не покидать их, а повести по путям судьбы суровым [1986: 71]. Однако последующие события в романе выявляют контраст между Двановым и поэтом. Когда Копенкин уезжает, Дванов следит за его удаляющейся на лошади фигурой, и ему видится воин, „убогий, далекий и счастливый” [1991: 125]. Этот романтический образ напоминает ему о том, что он посвятил себя тем же идеалам, которые вдохновляют Копенкина, и он немедля покидает Феклу. Поступая таким образом, он подтверждает свою преданность делу революции (как уже было однажды, когда он оставил Соню) и одновременно обрекает себя на жизнь в пустоте и в конце концов на смерть: у него есть дело, во имя которого он живет, но нет человека, для которого он мог бы жить.
Много раз отмечалось, что Дванов — типичный пример тех странников и скитальцев, которые населяют художественный мир Платонова. Выступая в таком амплуа, он вписывается в традицию, восходящую по крайне мере к Лескову. Рассмотренное в этом контексте его сходство с узником созвучий, хлебниковским поэтом, простирается гораздо дальше сходства двух протагонистов, объединешплх одинаковым отношением к героиням. Дванов, подобно поэту, мечтатель, поглощенный поиском истины, а также утопии, которая могла бы ее воплотить, меланхолический скиталец в раздоре с весельем и жертвенник дум [Хлебников 1986: 267]. Одним из наиболее поразительных признаков сходства между ними является присущая им обоим способность полностью впитывать утопические проекты своего времени. О Дванове мы читаем: „Им владели внешние видения, как владеют свежие страны путешественником” [1991: 66]. И о поэте: Из жизни он бежал, каким-то светом привлеченный, / Какой-то грезой удивленный [1986: 268]. „Отчужденность от тела”, которую ощущает Дванов, характерна и для хлебниковского alter ego:
Фигура поэта у Хлебникова явно имеет автобиографический характер [Lönnqvist 1979: 103–108]. Этот факт заставляет предположить, что не просто литературный персонаж, а сам Хлебников мог быть реальным прототипом Дванова и, вероятно, других эксцентричных скитальцев у Платонова. В 1920-е годы одной из наиболее привлекательных легенд, во многом основанной на реальности, была легенда об “очарованном поэте”, пересекающем Россию вдоль и поперек, пишущем стихи и трактаты о законах времени и составляющем причудливые утопические проекты. Легенда эта стала распространяться приверженцами Хлебникова сразу после его смерти в 1922 году, причем на страницах того самого «Лефа», который рецензировал Платонов [см., например, Петровский 1923]. Появившиеся в годы созревания Платонова-прозаика весьма романтизированные “зарисовки” из жизни поэта и сами его произведения, породившие легенду («Зангези», «Отрывки из досок судьбы» и т.д.), послужили посредниками при передаче некоторых наиболее радикальных лингвистических и утопических идей своего времени. Их влияние на творчество Платонова настоятельно требует дальнейшего изучения.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 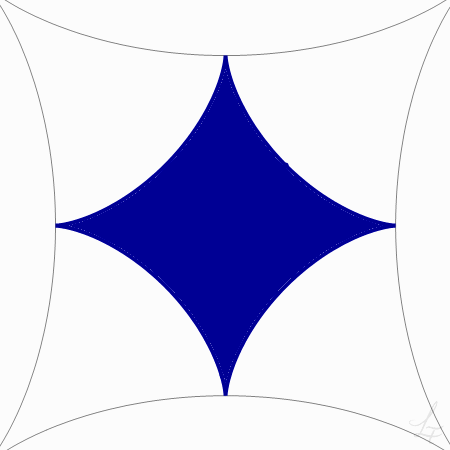 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||