

При этом центр (ядро) в функциях языка, высказываниях и творчестве как целом уступает свое место периферии, асимметрический дуализм эстетического словесного знака с его “приращениями смысла” на глубине и эвристическими преобразованиями — монизму дизайна, если не масскульта, Игра — милой, но ни к чему не обязывающей игре, прагматике без Телеологии. И вот они — новое, элитарное “воскрешение слова” (заявляют, уже „не нужного как такового”!), “второе пришествие” слабостей раннего “формализма” (в пику дурному “содержанизму” времен застоя?), пир духа Кручёных, его “второго рождения” в роли властителя дум. Порадуемся и за “иезуита слова”, но куда сильней глобальная тревога в связи со всем этим: «Что делать?» (Т. Кибиров). Парадигма Блока — та попросту “сдается в архив”. А Хлебников? Это имя на устах у многих апологетов формы как “фактуры”, все же — “велимиролюбы”. Но на деле-то: мир его праху и забвение словам поэта-Будетлянина о том, что Кручёных опасен (см.: [Язык и искусство 2002] — прежде всего статью Н.А. Фатеевой в этом сборнике — и [Григорьев 2000, 2004 б]). Ср. “эвристику”: „Кручёных? = Хлебникову” (К. Кедров).
Если к нынешней, лишь чуть утрированной здесь ситуации применить сильное слово декаданс, оно должно будет напомнить не только о “той еще” ситуации на стыке двух прежних веков, но и о путях выхода из нее к Авангарду, о его уроках расширения, а не сужения пространства языка как в литературе, так и в науке. Уроки эти выявляются с трудом, но они злободневны для поэзии, актуальны и для филологии.
_____
“В трехмерном пространстве языка” иным контекстам, которые могут и должны войти в «Словарь избранных экспрессем» (работа над ним начата группой сотрудников ИРЯз РАН в 2002 г.), оказалось тесно (см.: [Степанов 1985; Григорьев 2003 б]). На пути от особого рода расширенного конкорданса, предлагаемого филологам в «Словаре языка русской поэзии ХХ века» [Словарь I, 2001; II, 2003] и условно носящего имя «Поэтический Даль» [Григорьев 1994 а, б и др.], к новому типу словаря, условному подобию «Поэтического Ожегова», сразу же встал важный вопрос о критериях отбора из всего круга экспрессем — особо сильных (называемых “парадигмальными”). Это те статьи-экспрессемы, в которых отмечен хотя бы один-единственный особо “сильный” контекст. Обсуждение кандидатов в систему критериев для такого отбора привело к выводу о безусловном доминировании в ней того, что, пренебрегая вульгаризациями застойных времен, можно обозначить как “идейно-эстетические” качества контекстов, значимых в своей очевидной или выявляемой новизне [Григорьев 2003 б:19]. По сути, это и имелось в виду, когда в последние годы, часто задаваясь вопросом “Что зa языком?” и размышляя о “лингвоэстетике” в связи с гносеологической функцией языка, приходилось подчеркнуто, но неточно и нестрого называть “заязыковым” нечто прежде всего новое и глубоко идейное, а в художественной речи — и эстетическое, но вместе с тем, конечно, достаточно ярко языковое, хотя, что важно, не узко и не только языковое (в каком-то смысле, скажем, при переводе идей в науке, даже не столько) [Григорьев 1966, 2000, по указат.; Самовитое слово 1998:19; Словарь 2001, I:11; и др.].
В этой ситуации до поры до времени некоторым оправданием пристрастия к идеям “заязыкового” служили разные моменты. Здесь были полусофистические ссылки на глубокую строчку Хлебникова И то не ложь, и это истина, мысль о знаковой для его словотворчества приставке за-; попытки сопоставить структуре “языковой личности” динамический пласт “языка как творчества”, “внеязыковых” (когнитивных) категорий, предполагающий у такой личности наличие потенций нетривиального сознания и познания, чуткого к “духовным приращениям смысла”, а тем самым требующий от лингвиста ее оценки как “личности заязыковой”; не казались лишними и рассуждения о том, что серьезный взгляд на заумный язык (в широком смысле, включающем и звездный) подсказывает и почти игровую, комбинаторную идею “заязыкового ума” (“заязыковой мысли”), и др. Но за всем этим стояла Телеология хлебниковских осад.
Телеология творчества в 10-е годы занимала и Бодуэна (как ученого и оппонента футуризма), и Блока: „Зачем?”, — пытал он звавших его в очередной “зауряд-альманах” без осмысленно высокого целеполагания. Известна также “критика слева” его позиции (в сравнении с Гёте) и ранней поэзии, уверенной в том, что она — “не поэзия только” (ср.: „Поэт в России больше чем поэт”), но не желающей искать дна “мудрых глубин” символизма [Белый А. 1990 (1932): 358, 366, 380–381] (см. также статью В.В. Фещенко-Таковича в сб. [Язык и искусство 2002]). В этом ряду особенно показательны обещание юного Хлебникова найти закон времени (в связи с гибелью на войне броненосца «Петропавловск»; см.: [Григорьев 1998: 134 и др.]), его статья 1904 г. «Пусть на могильной плите прочтут...» и выдвинутая им четкая программа трех беспримерных осад. Вместе с их стратегией, “принципами”, найденными в итоге “законностями” и “уравнениями” эти осады без особых натяжек сопоставимы с известной практикой эвристического моделирования в кибернетике или/и математической физике.
В 70-е годы значительную роль для самосознания лингвистической поэтики (отчасти и эстетики) сыграла статья с многообещающим названием: «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма» [Левин и др. 1974]. Исследования всего многообразия реальных и потенциальных “культурных парадигм” и после нее еще долгое время будут затруднены внешними обстоятельствами “застоя”, несмотря на “идеологическую реабилитацию” кибернетики, развитие поля структурных методов в изучении языка и литературы, многое другое, памятное старшим поколениям ученых.
Филологией и всеми “общественными науками” недооценивается у Хлебникова важный “принцип единой левизны”. Не обращают внимания на то, что “левизна” здесь представляет именно “новизну”, а в “левом по слову”, без которого невозможно “левое по мысли”, надо признать простейшую синекдоху “левого по языку”. Если же мы, имея в виду прежде всего лингвосемиотический план, обратимся к семам-созначениям в “идейно-эстетическом” и “квазизаязыковом”, то сегодня, в свете указанного принципа, речь могла и должна бы идти, без иллюзий и преувеличений, об уверенно назревавшем концептуальном сдвиге к новой парадигме не только в словесном искусстве, но и в лингвистике и филологии — о полноправном признании необходимого всей культуре (ее практикам и теориям) четвертого, так сказать, всеохватывающего и всепроникающего, эстетико-эвристического измерения языка. Ради небесполезной симметрии с тремя общепринятыми ипостасными “-тиками” — семантикой, синтактикой и прагматикой — прибегнем теперь к термину, кажется, более подходящему как название этого измерения, чем нечто “заязыковое”, актуализируя не новое и для филологии слово эвристика. Добавочная нагрузка на это понятие, широко используемое в науке, едва ли может привести к недоразумениям и конфликтам. До обсуждения других возможных здесь номинаций кандидатура эвристики представляется оптимальной.
Идея такой эвристики вызревала исподволь, с начала 60-х годов. Ее не осознанное до последнего времени становление было бы небесполезно проследить прежде всего по “трем источникам”, питавшим новорожденную. Первый — это трудное, с годами боев, развитие идей лингвистической поэтики и интеридиостилистики и появление понятия “экспрессема”, синтезирующего смыслы слова и контекста в художественной речи [Григорьев 1965, 1979 а, 1993; Григорьев, Брейдо, Колодяжная 1997]. Второй живо связан с опытом работы ряда исследовательских коллективов над новыми проектами в области “поэтической лексикографии” (иначе: “авторской”): по-разному, но многих занимали “эстетика слова”, “идеологически заостренные эстетические значения” [Поцепня 1995] (ср. также пути подступов к ним в работах [Поэт и слово 1973, Григорьев 1987, 1994 а, в, 2000: 635–700 и др.]). Третьим по счету источником, но первоначальным и важнейшим по энергии импульсов стал Хлебников — “безумие” его творчества, преодоление им суровых “эстетических шлагбаумов”, реальное взятие Перемышля / Пушкинианской красоты [Фарино 1988, Григорьев 2000:612–633], судьба его парадигмы, идей, осад, сплава “неклассической поэзии и неклассической науки” (ср.: [Жукова 2000:171–174]), “воображаемой филологии”, средства его языка, поэтики, полей интертекстов и т.д., отчетливо подчиненные задачам нового мировидения.
Конечно же, был и четвертый источник — самый фундаментальный, но также не во всех руслах общий для структурной филологии наших дней: ОПОЯЗ и МЛК, тезисы Тынянова–Якобсона, А. Белый с его словарными прозрениями и страстью к “логически невыразимому”, даже концепция Кроче и так называемый “эстетический идеализм в языкознании” (с оппозицией Шпитцер / Блумфилд и др.). Невозможно переоценить при этом роль Бодуэна (борца с парадигмой младограмматиков) и успехов семиотики, внимания к МФШ и школе Лотмана, непониманию Маяковским его “друга-соратника” Хлебникова, догадкам верного диалогу с ним “полубудетлянина” Мандельштама о “плотности” слова, к идеям Шпета, Бахтина (в частности, об “аббревиации”), Друскина и Лихачёва (их мыслям об “эстетической гносеологии”), “идеосемантике” Абаева, стиховедению Гаспарова, трудам велимироведов и других гуманитариев разных школ; позициям Сахарова и Солженицына; “элите классиков” — от “всего” Пушкина, “этосферы” Чехова и “отпадения от церкви” Л. Толстого (кстати, остается ли в лоне РПЦ “православный Хлебников”?) вплоть до клубов “классиков постмодернизма”; от Эйнштейна, Бора, Чижевского до Куна и Пригожина, от Соссюра до Вежбицкой и т.д. В их уроках даже “спорные поля” (ср. Этику как часть Эстетики [Витгенштейн 1989 (1965):100]) знаменует вектор “От поверхностных структур — к глубинным смыслам”, а после Чехова, авангарда, Тынянова и Колмогорова единство науки и искусства кажется почти трюизмом. См. и ср. также: [Язык и искусство 2002 (статью Ю.С. Степанова и др.), Степанов 1985, Григорьев 1966, 1979 а, 1994 б, 2000, Новиков 1994, Кусков 1987].
Особой строкой автор должен выделить благожелательные отклики на некоторые из его идей и работ — подступов к выдвигаемой в настоящей статье концепции. В 60-е годы это были, например, отклики В.В. Виноградова, Р.О. Якобсона, П.Г. Антокольского, Вяч.Вс. Иванова и В.Г. Костомарова (подробнее об этом см.: [Поэт и слово 1973:35–50, Григорьев 1994 а:71]), детальные разборы [Pszczoіowska 1966, Pйter 1968]; ? 70-е — 90-е — поддержки-оценки Р. Р. Гельгардта, Ю.М. Лотмана, М.Л. Гаспарова, Ю.Н. Караулова, серии бесед с Д.Н. Шмелёвым и С.Т. Золяном. Здесь же отклики коллег-оппонентов во время спецкурсов по лингвистической поэтике и велимироведению, в частности, в Минске, Харькове, Тарту, Красноярске, или в ходе конференций у нас и за рубежом.
Заметим, что в эвристическом пространстве языка главенствуют не привычные нам структуры — фонемы, морфемы, слова, сочетания слов или предложения как таковые, а преобразуемые творчеством их аналоги-“клоны”, двойники, “квазиомонимы” (в рамках высказываний). Они охватываются понятием “экспрессема” как упорядоченным множеством контекстов. А художественный контекст принадлежит художественному тексту (ср. “затекст”). Сложности пути от “лингвистики текста” к “лингвоэстетике текста” [Григорьев 1979 б] понятны. Современный учебник «Художественный текст» уже создан [Лукин 1999]. Трудности же экспликации понятия “(художественный) контекст” (её лишь начинал Е.Л. Гинзбург; недавняя кончина оборвала его поиски) во всей их глубине, кажется, не осознаны. От проекта «Текст — Контекст», если он войдет в план исследования отношений внутри четырехмерного пространства языка, эвристика может ожидать немало полезного. Пока важно наметить первые вехи для ориентации в этом пространстве, тип связей эвристики с семантикой, синтактикой и прагматикой.
Красива аналогия с физическим пространством-временем, правдоподобна образная близость представлений об эвристике языка топологической парадигме (см.: [Том 2002 (1972)]). Недостаточная компетентность в специальных вопросах затрудняет получение содержательных выводов из таких аналогий. Следует, видимо, отбросить, с первых же шагов, лишь “одномерное распределение эвристики” по тем трем -тикам, которые она охватывает. Так, не следует считать, что с семантикой ее связывает исключительно “идейное”, с синтактикой — лишь комбинаторика эстетических знаков, а с прагматикой — только и только некая “сверхмаксима новизны”. Категории “идейно-эстетического” и “нового” здесь связаны в некоторой целостности как друг с другом, так и с другими “отцами-основателями конституции эвристики” — статусной системой ее критериев (см. ниже п.5). Любая из -тик “завязана”, к примеру, на участие в (кон) тексте любых средств расширения поэтического языка, да и на их оценку, будь это неопознанный объект из сферы специфического «Контекста» в функциональной модели Якобсона или нарушения пресуппозиций и прямые ошибки в художественной речи, антиэмфаза или факт скорнения, ритмические или/и интонационные новации, авторские находки в полях иронии, стилистической синонимии, пейоративов или эвфемизмов, диалектики запретов и допущений, даже простая видимость отхода от статистических норм в связях между единицами языка, в определенной частотности и т.д., и т.п.
Этот модельный перечень сознательно не упорядочен, чтобы одновременно можно было дать и получить представление о хаотичности того многообразного исходного материала, в котором заключено и растворено “эвристическое”, о неожиданности, но и обманчивой случайности его появления перед исследователем в очередных словарных порциях (кон) текстов, поступающих к нему и попадающих в светлое поле его сознания. Практически каждый контекст из «Поэтического Даля», требуя от составителей и редакторов «Поэтического Ожегова» согласованного применения “калибровочных эвристемных сит” (ср.: [Григорьев 2003 б:15]), побуждает вместе с тем к рефлексии по поводу “силы” вот этих контекстов и мотивов отвержения “ситами” относительно “слабых” тех. Правда, для уверенных обобщений наш опыт пока маловат. Попробуем лишь предварительно очертить круг ответов на два взаимосвязанных вопроса.
Что может мешать “торжеству эвристики” у поэта? Интровертность и монологизм (как враг Диалога). Не доказывающая ума, по верным словам Пушкина, тонкость — в противопоставлении неизбежной грубоватости моделей мира. Космический размах такой амбициозной “модели”, но без надлежащей амуниции. Неосознаваемый отход от “принципа единой левизны”. Ослепление одним “большим стилем” (не только “по предписанию извне”) или инерцией достижений в рамках собственного идиостиля (в ущерб своему же идЕостилю). Пристрастие к нагромождению эффектов и деталей, не помогающих основному “делу” (ср. не совсем праздное предисловие Л.Б. Каменева в кн.: [Белый А. 1990]). “Культурная невменяемость”: подмена Игры “клоунадами”, ёрничеством, “дела культуры” — перформансами. Бравада-отказ от наработанных ранее ценностей культуры, с изоляцией ее от духовности, средств от Целей, искусства от науки, языка от Логоса даже в искусстве слова (нет же “визуального логоедства” у Эрика Булатова). Религия назвала бы подобное утратой “стержня духовности”.
Не отвлекаясь на общедоступные иллюстрации, продолжим ещё немного этот перечень лишь для одной сферы — ограничений “пространства замахов (осад)”. Прежде всего их характеризует “внешняя ангажированность”: широко понимаемая “трактирная стойка” и сведeние поисков истины к тому или иному “вину” — “квас” это, шабли или аи, “бесовство” (как ни трудно добиться общественного согласия в представлениях о нем) или “дионисийство”, притворство-“лицедейство” или “постоянная ясность”, “имаж”, “имидж” или антропософия, египетские пирамиды или скифы, Запад или Восток, Африка или/и мистика, охота или сад (а не “вся Природа”), старообрядчество или католичество, или РПЦ (как “самая хорошенькая”?), пятилетки или голый антибольшевизм (ср.: комуняки, жириняки, единяки...), почвенничество или потеря “памяти о родстве”, “безмерность”, но не “мера” (с пренебрежением к Мере); Данте, но не Лейбниц, Рублёв, но не Татлин или Фаворский; Равенна, Коктебель, Нотр-дам, Венеция и/или Васильевский остров (и даже весь Петербург), но не “весь Мир”; Блок или Анненский, или Цветаева, но не и Хлебников или и NN (ср. сожаления Пастернака о недооценке им ряда поэтов); дисбаланс и дисгармония между лирикой и эпосом; „инерция стиля” (Н. Коржавин) вплоть до метрики-ритмики, даже „теснота строфы” (Ф. Искандер). Забвение „закона обратного величия малого” (и малости “величия”)...
Типологию таких “диалектических помех”, пополнение и критику (“аудит”) их перечня, здесь так же сознательно оставляемого в полухаотическом состоянии, будет важно проецировать на эвристику, если мысль о её значении, главная в этой статье, не покажется отдающей “дюрингианством”, найдет оппонента, согласного с “принципом сочувствия” С.В. Мейена [Шрейдер 1994, Григорьев 2000, по указат.], начнет Диалог.
Что — должно помогать? Излишний здесь перечень установок из круга общих мест настоящая статья и стремится всем своим содержанием как-то конкретизировать и освежить. Так, полускомпрометированное понятие “больших стилей”, с двойным дном их “прелести”, можно свести к обычному, хотя не всегда и не во всём благотворному влиянию “сильных идиостилей” (Анненского на акмеистов и Кушнера; Маяковского на Асеева или Кульчицкого; Цветаевой на Бродского и т.п.). В идее “больших стилей” хотелось бы даже усмотреть зародыши этих представлений о “сильных идиостилях”, но а-лингвистические поэтики абортировали таких зародышей. Приложения к статье и направлены на службу “позитиву”, выход из ступора “декаданса-постмодернизма”, на возрождение Авангарда как профильного, а не “дежурного” понятия в исследованиях Серебряного века (см. наши статьи: «Ответ В.В. Полонскому», «Велимир Хлебников у входа в контекстную элиту русской поэзии ХХ века» и «В поисках сущности поэмы «Синие оковы» (материалы к комментарию)» [Творчество 2003, I]).
Лидерству Маяковского в «Словаре современных цитат» К.В. Душенко помогает и особый статус „горлана” в течение десятилетий [Григорьев 2003 б:16]. Часть цитат из его творчества, закономерно ветшая, уходит из употребления, и это не одни только цитаты пафосного, сомнительного или апокрифического характера (типа „ударных заводов”, „облития керосином” или „Лобачевского поэзии”), но также ряд “якающих” (типа „я — бесценных слов мот и транжир”; здесь нет угрозы всему классу “цитат с яканьем”, но эвристика-то, кажется, реагирует и на категорию лица). Маяковского и Горького процессы ветшания затрагивают сильнее, чем других, однако по-разному. Первого поддерживает дальнобойная эвристика незаурядного остроумия, а ее и его, даже при резонном “фэ” со стороны “хорошего вкуса”, просторечие всегда будет готово оценивать как новое и “сильное”. Второй — в этом аспекте — из “отстающих”.
Самому автору материалы указанных Приложений, как и статистика, касающаяся отбора “сильных” контекстов, которая тоже приводится здесь ниже, помогли и в том отношении, что, вместе с идеей четвертого измерения языка, потребовали пересмотра и круга номинаций вокруг понятия “экспрессема”. Былой экспрессоид совершенно не прижился, и признаться в формальном отказе от него нетрудно. Но суть дела сложнее.
Актуализация понятия “эвристика” не может не найти отражения и в судьбе термина экспрессема. Как единица поэтического языка (в предельно широком смысле; см.: [Григорьев 1979 а:60–101, 134–153]) это понятие кажется по-прежнему необходимым. Однако в новых условиях, при расширенных рамках четырехмерного пространства языка, стоит воспользоваться терминологическим предложением Л.А. Новикова. Еще в конце 70-х гг. он считал, что “экспрессему” было бы удобнее именовать креатемой — словом с более прозрачной и адекватной внутренней формой, чем экспрессема, этимон которого — лат. expressio “выражение” — может вызывать иллюзию акцентирования в этом термине сем из такой широчайшей сферы общего (литературного) языка, как “экспрессивно-эмоциональное”, не говоря уж об иных семах основы экспресс–.
По-видимому, будет полезно, сохранив в основном тот же самый план содержания у понятия “экспрессема”, прибегнуть к новационной бифуркации. И тогда «Поэтический Даль», ничего не меняя в самoм наборе и существе своих экспрессем, станет словарем креатем, а “сильные” экспрессемы, избираемые для «Поэтического Ожегова», в параллель к эвристике, — эвристемами (ср. семантема, синтаксема). Хорошо бы прагматика сама, без дополнительной “наводки”, озаботилась поисками подходящих наименований для своих единиц (ср. в общем малую востребованность прагмемы).
Понятия “эвристика” и “эвристема” в том или ином виде, вероятно, окажутся небесполезными также при разработке основ словаря особого рода — “толкового словаря творчества писателя” (— писателей; идея Л.Л. Шестаковой).
2. В процессе определения, “избрания” и отбора, получения статистики упомянутых “сильных” контекстов (ну, так и тянет называть их эвристоидами) бросились в глаза “обратные”, в сравнении с ожидаемыми, “места” Блока и Хлебникова среди “лидеров”, “середняков” и “отстающих” в кругу десяти поэтов — источников работы [Словарь 2001–2003–]. Отсюда и такая задача этой статьи: вынести на более широкое обсуждение имеющиеся, пусть самые предварительные, результаты. А с ними и вопрос: что может стоять за контрастами в эстетике-эвристике языка у поэтов — контрастами, пока ограниченными небольшим фрагментом конкорданса, но как будто не мнимыми?
Что-то вообще не сополагали “досье” “нашей пары” поэтов. Обратимся к самым кратким их “досье” (полноты здесь не достичь без охвата и уроков А. Белого).
Один — Блок — дворянин, “столичная штучка”, домолюб, филолог с интересом и к “мудрым глубинам” символизма, так занимавшим Белого, быстро признанный поэт, творивший „трудно и празднично”, но сломленный „ужасом лживой жизни этой”. Жертва „Страшного мира” и „неслыханных перемен”, свидетель нераздельных и неслиянных „злоб” — чёрной и святой, он оставил завет-символ: „Товарищ! Гляди / В оба!”, — не понятый и не услышанный. Но судьба его поэзии была счастливой: стихи разошлись на цитаты, ими наслаждались и наслаждаются в школе, их изучали в Тарту (ср. учебник Поляк-Тагера и «Блоковские сборники»). Лишь к 60-м годам “язык Блока” начал заметно сдавать как средство охвата новых „невиданных мятежей”: поэты уже покидали и “полублоковскую вьюгу” (А. Межиров; курсив мой; хило и неблагодарно было отмечено 80-тилетие замечательного поэта; ср. несоразмерный „пиар Пригова”).
Поиски “нового языка” затянулись, и понятно, почему: “новому мышлению”, упорно не поддающемуся элитариям (ни от новой власти, ни от поэзии), парадигма Блока — ментальный, гносеологический и духовный символ, — живая в ее прелести и неясных потенциях, говорит о себе как о стратегии, в фундаменте которой что-то обветшало (или заметно ветшает?). Новых “бумных парадигм” с установкой на „шумиху и успех” (здесь прошу прощения за невольный “сдвиг” — к метарадости отпрыскам Кручёных; у Пастернака не шумиха, не успех серьезны) авангардисты (и –истики) новорусского призыва напредлагали “под завязку”, но всему сонму “второго авангарда” — далеко до настоящей Парадигмы. Почему? „Игровая деятельность, предоставленная себе самой, не замедлит создать бессмысленные отвлеченные структуры, семантические модели, которые реализуются только в виде своих собственных комбинаций. Таким образом, она не замедлит погрязнуть в незначительности” [Том 2002:233–234].
Полагая в 1913 г., что Хлебников „значителен”, Блок и позднее не увидел в нем достойного Оппонента и “преемника”. Совсем не ясно, разрешатся ли хоть к 2013 г. парадигмальные напряжения и “разнобойный плюрализм” наших дней (и если да, то как). Любопытно, что уже выстраивался спорный ряд “преемств” в виде Пушкин — Хлебников — Платонов — Бродский [Библер 1993], но откликов и альтернативных предположений, внимательных и к Блоку, и к поколению Межирова, и к нараставшим волнам масскульта, не последовало (см., впрочем: [Григорьев 2000, по указат.]).
Другой — Хлебников — „даже не разночинец”, провинциал, стойко бедствующий “странник”, не окончивший курсов, но еще студентом сопоставивший привычному симбиозу образ глубоко научно-художественно переосмысленного метабиоза (смены). “Поэт-самодел”, творянин, увлеченный осадой времени еще сильнее, чем осадой слова, и открыватель “странной парадигмы” с синтезом “воображаемой филологии”, лучших свистов птиц и мировой совести. Эстеты гнали его, “заумника”, новаторы — “пиарили”, “совки” сочли “поэтом для эстетов”. В школьном учебнике (1940) те же Поляк-Тагер могли дать портрет Будетлянина лишь благодаря Маяковскому: это он лет 50 “держал на плаву” одного из своих “учителей” (не в мышлении, не в эвристике). Чуть интерес к Хлебникову возрос — его “разоблачили” вслед за Ахматовой и Зощенко: видно, был он и в 1948 г. угрозой чему-то “идейно-эстетическому”, “заязыковому”.
И сегодня он — не Веха, уже не изгой, но “чудак” и одинокий лицедей. Чтo в нём, когда-то никем не видимом, видит современное Общество, хотя надо бы видеть куда больше и смотреть куда дальше? Бобэоби и Смехачей, Кузнечика и Зверинец, Собакевну..., строку Свобода приходит нагая (отметим ее препохвальное участие в «Намедни» у Л. Парфёнова 28.09.03; но “купятся” ли на это увлеченные словесными шоу просвещенцы канала «Культура»?)... Бренд «Ладомир»...
В лучшем случае — ещё два-три текста (например, «Ручей с холодною водой...»). Почему так неизвинительно мало? В мировой культурологии рейтинг и статус великого поэта-мыслителя, при всех уже имеющихся переводах, по-прежнему близки к нулю. В конце статьи у нас будет случай напомнить о том, как бездумно-добровольно отлучали Будетлянина от “чести русской поэзии”. Некогда очень точно было сказано: „Упуская Хлебникова, мы лишаем себя целой перспективы” [Седакова 1985:29]. Со временем, увы, ее лишила себя и О.А. Седакова (см. спор с нею: [Григорьев 2001]).
Три парадигмы привлекают здесь наше внимание: Пушкин, Блок, Хлебников (кроме того, А. Белый и Маяковский). Очевидны различия в “приятии” их идиостилей, стилей мышления, “идЕостилей” (см.: [Григорьев 2000:29 и др.; с.607: читать не Чехов, а Пушкин]). Иных парадигм ХХ века много — серьезных и не очень: были Вяч. Иванов, Набоков, обэриуты, Бродский, есть и Пригов... Пушкин — это очевидная точка отсчета в оценках литературы, поэтому здесь его имя оставим в подтексте. Суть связки Блок — Пушкин при внимании к сходствам и различиям в мировидении, к парадигмам и эвристике, вероятно, скажет о себе кое-что новое. Для связки Пушкин — Хлебников см.: [Григорьев 2000:612–633; Григорьев, Колодяжная, Шестакова 1999]. Дискриминация иных парадигм и “хоть-подпарадигм” как объектов исследования неправомерна, но выбор в этой статье именно парадигм Блока и Хлебникова принципиален.
Стоит подчеркнуть важность самих диалогических (в широком смысле) отношений между деятелями культуры и их парадигмами. Отсутствие хотя бы косвенного диалога между ними, выходящего за пределы незначительных интертекстуальных перекличек (уж не говоря об удручающей моде новой эпохи на поиски их мнимостей, обычно и с педалированием квазианаграмм), заставляет вспомнить о словах Мандельштама в его статье «О собеседнике» (1913): „Нет ничего более страшного для человека, чем другой человек, которому нет до него никакого дела”, — и сожалеть о невосполнимых потерях из-за (практически) “минус-диалогов” класса Белый — Хлебников или недовнимания (?) былых “гилейцев” к “скифству” первого и «Скифам» Блока, а “скифов” — к поэме «Ночь в окопе» и «Стихам» 1923 г. или “зангезийству” (о котором они почти не могли знать, как и о малотиражных изданиях с текстами 1918–1922 гг., не говоря о рукописях, что были закрыты и для них; см. ниже). Отметим одну частность из «Арабесок» (1911): у игры слов чай — чаять (1906; см.: [Белый А. 1990:323]) есть параллель в заготовках к поэме «Передо мной варился вар...» (1909; через “башню” Вяч. Иванова?) [Хлебников 1940:422]. Ср. тоже раннюю их перекличку в симфониях и позднюю — в звуколюдях.
Для Хлебникова “проглядевшая” его и молчащая о нем, будто на допросе, “элита” куда “страшнее” былых недалеких “разоблачителей”. Критиканов и травлю сменили элитарии-нехотяи и небрежение к урокам: возможных доводов А.Ф. Лосева, например, против основного закона времени и Рока в мышеловке мы лишились уже навсегда, уравнения судьбы обошел Вяч. Иванов, а за ним выдающиеся филологи, историки, физики, математики, философы (обойдет и В.Л. Гинзбург?). Вот Мандельштам — тот отважился на парадигмальный диалог в своих четырехмерных «Восьмистишиях» (см.: [Колодяжная, Шестакова 2004, Григорьев 2003 а, 2004 в]). У “диалога” Белый — Хлебников, возможно, многое впереди. Так, если оппозицию стих/проза оспорит новая парадигма, требуя от эвристики поверки “дробей” ритм/метр и тема/рема (ср. “дроби” в п.4), понятий “сверхсвободный стих”, “авторская интонация” [Творчество 2003:60] и др., тогда-то “пособеседуют” всласть концепции “ритма” первого и “ритмов” второго.
3. Для Маяковского Блок — это „лучший из старописательской среды, приявший революцию” (1923), но его поэтика и вся “дорога” почти целиком отвергаются (1921) [Маяковский 4:220, 12:21–22]: символизм неприемлем идейно — прощай и его язык, его парадигма. Блок как живой и “дополняющий” оппонент не был нужен ни ЛЕФу, ни Маяковскому: марксистская истина всем “ясна”, так что “метафизику” Блоку — место в паноптикуме. В этом своего рода “кларистском” мире, по духу сравнимом с будущим «Кратким курсом», Хлебников вслед за символизмом тоже получил щелчок как автор „огромнейших фантастико-исторических работ”: „в основе своей — это поэзия”, — такой значимой проговоркой, безапелляционной и довольно двусмысленной по отношению к “поэзии” оценкой Маяковский [12:26] отделил себя в 1922 г. от дела жизни “друга”. Да, в этом же некрологе он называл Хлебникова и „Колумбом новых поэтических материков”, и „честнейшим рыцарем” и т.д., обращался и к „правильной литературной перспективе” [12:23, 28], но вместе с тем обнаружил, как мало ценил в “учителе” дух поэта-Пржевальского, его задачи-осады, его маршруты, а в „материках” — огромные идейно-эстетические пространства, которые “Колумб” успел-таки собственноручно “возделать” и оставить нам именно как эвристические ресурсы. “Друг”-оппонент тоже оказался ненужным лидеру той лефовской парадигмы, которая “осваивала” на деле свои, существенно по-иному “завоеванные” и осмысляемые “материки”.
Отношение Хлебникова к “материкам” Блока иное, прошедшее школу символизма, контакты с Вяч. Ивановым, Кузминым, Ремизовым, болевой разрыв с «Аполлоном» etc., обогащенное и раздумчивой “критикой марксизма”. Еще в «Песни Мирязя» и даже после «Ошибки Смерти» мотивы-мифы отмечены у него влиянием Блока (но иронией остранялась уже вселеннохвостая кошка, как позднее Карл и Маркс в квадрате). И для него был значим опыт Вл. Соловьёва, но вне “культа” этого мыслителя [Киктев 1992], а “панзнаковость” и эзотерику символизма Хлебников поверил трезвостью настоящего ученого. Сохраняя символ в своей поэтике, он “заземлил” его в духе критики, развитой Мандельштамом, “пройдя” таким образом и через акмеизм. В 10-е годы Блок для него менее важен, чем Пушкин. Но поэма «Ночной обыск» (1921), где злоба убийц святых (речь “героя”!) звучала резче, чем в «Двенадцати», выводит на первый план по-иному принципиальную, парадигмальную полемику с Блоком. Пока ее обходят, подчеркивая в этих поэмах лишь внешние, бросающиеся в глаза сюжетные сходства [Глинин 1995].
Близкая “клюквенному соку” клюква смерти (1916, [Хлебников 1986:105; ср. 498–504]) уже драматизировала нашумевшую “пародию” Блока. А вот острый спор моряков вокруг крови в «Ночном обыске»: Довольно крови! — Крови? Сегодня крови нет! / Есть жижа, жижа и жижа. / От скотного двора людей. / Видишь, темнеет лужа? / Это ейного брата / Или мужа (до Орвелла было еще далеко). Христу с кровавым флагом — символу парадигмы Блока — соположены мера “сверхверы” и основной закон времени Хлебникова. Это они, расширяя и значимые для него язык, поэтику, прежде всего эпос Блока, преобразуют блоковскую эвристику — “эстетическую идеологию”, идЕостиль. “Принцип единой левизны” и всегда сопровождавший Главздрасмысла девиз Хоти невозможного близки радости Блока от „самой малой новизны”, строчке „И невозможное возможно”. Но у одного это — афоризмы для более-менее известного — другой движим “странными императивами”, раздвигая рамки даже научных парадигм. После Единой книги и основного закона времени (1920) образ Христа в «Ночном обыске» закономерно, и сим-, и метабиотически, приобретает также черты Числобога. Богохул Старшой называет Христа девушкой с бородой — и гибнет. В стих. «Если я обращу человечество в часы...» (1922) эту перифразу автор-поэт уже открыто относит к себе. Оказываясь почти рядом в словарных статьях БОРОДА и ДЕВУШКА [Словарь I, 2001:256, II, 2003:395] упомянутые контексты отчетливо демонстрируют свою парадигмальность (в проекции на «Двенадцать»; ср. не идущих к делу „бородатых Венер” В. Розанова в комментариях к новому изданию [Хлебников 2001, 2 : 584]).
Мало того. Старшoму «Ночного обыска» противостоят не только Христос и автор этой поэмы, но и Стaрший из «Взлома Вселенной». Вот его первые слова в этом чудесавле (мистерии): Всё — волны. Мы не на гребне, / А в упадке. Там общими усилиями герои приносят “спасенье народу”, но лишь “умом и только мыслью”, явно опираясь на основной закон времени, проверенный, как считал Хлебников, шурфами различной глубины на разных формах движения духа и материи — от космического пространства до событий современности, фактов истории, отношений в музыке, химии, жизни выдающихся людей... В “трехмерном пространстве языка” тесно Будетлянину — творянину и исследователю, и его героям, и всей его парадигме — они живут в четырехмерном пространстве-времени языка, вместе с “волновой функцией”, разными подъязыками естественных наук и искусства. В духе “принципа единой левизны” уже происходит постепенный, пусть всё еще скорее виртуальный, чем реальный, сдвиг к парадигме его автора — Хлебникова. По существу, это и есть переход к четвертому, всеохватывающе всепроникающему, эстетико-эвристическому измерению языка.
4. “Парадигмальной” представляется и прикидочная статистика отбора “сильных” экспрессем и контекстов (по [Григорьев 2003 б, 2004 б и др.]) в 182 статьи «Словаря избранных экспрессем» (т.е. эвристем). Представим ее в самом сжатом виде и в принятых шифрах поэтов. [Словарь I, 2001] на этом отрезке статей, -Б — БЕДНЯЖКА, содержит 404 экспрессемы-креатемы с 2247 контекстами. Распределение по авторам контекстов/креатем: Анн 89/47, Ахм 122/50, АБ 241/64, Ес 130/57, Куз 143/63, ОМ 160/82, М 239/106, П 303/138, Хл 275/91, Цв 545/156. А вот контексты/эвристемы “на выходе”: Хл 124/64, Цв 103/53, М 69/45, ОМ 52/36, АБ 46/32, П 44/36, Ахм 34/24, Ес 25/21, Куз 24/18, Анн 24/17. Доля контекстов, сохраняемых в эвристемах: Хл (124<275) 0.45, ОМ 0.32, М 0.29, Ахм 0.28, Анн 0.27, АБ 0.19, Цв 0.19, Ес 0.19, Куз 0.17, П 0.14.
Хл “приватизировал” 31 эвристему (т.е. только его контексты и определили “силу” этих словарных статей), П 16, Цв 13, М 12, ОМ 10, Ахм 7, Куз 6, АБ 5, Ес 4, Анн 2. Общая (средняя) “стойкость” исходного материала при отборе (545/182 <2247/404): контексты (прошу прощения: эвристоиды < креатоиды) 0.24, эвристемы < креатемы 0.45. Ср. данные о доле “приватизированных” эвристем в кругу всех “своих” эвристем (т.е. тех, в которые вошли контексты и этого поэта, или только его; и здесь обратите внимание на изменение порядка следования поэтов и устойчивое “лидерство” одного имени): Хл 0.48, П 0.44, Куз 0.33, Ахм 0.29, ОМ 0.28, М 0.27, Цв 0.24, Ес 0.19, АБ 0.16, Анн 0.12. Все цифры и “рейтинги” (не только по Блоку и Хлебникову), разумеется, ждут более надежной статистики, а также замечаний “аудиторов”.
Выбор-отбор эвристем был начат со всех статей «Поэтического Даля» на букву А. Тогда-то и обнаружились упоминавшиеся статистические контрасты. Они были тем более неожиданными, что среди слов на А много “западных”, для Хлебникова, почти как правило, запретных, а чтобы свести к минимуму субъективные пристрастия именно к нему (сознавая, что “кому-то” от них будет очень нелегко освободиться), требования к “силе” его контекстов чуть ли не нарочито завышались. И вот, тем не менее, чтo мы получили в итоге (сопоставляем эти цифры по всем до одной статьям на букву А с цифрами лишь для отрезка статей на Б, отчасти приведенными выше).
[Словарь I, 2001] содержал контекстов/креатем:
А — 2981/802. Б№ — 2247/404.
Контексты “на входе” (авторы располагаются в алфавите фамилий, а не шифров! Для А в скобках указано, сколько, в том числе, контекстов с пометой ib.; для Б№ этих цифр пока нет; вопрос объединения контекстов при этой помете обсуждается):
А — Анн 83 (5), Ахм 191 (2), АБ 255 (24), Ес 108 (8), Куз 310 (35),
ОМ 242 (11), М 539 (22), П 410 (12), Хл 176 (27), Цв 667 (97).
Б№ — Анн 89, Ахм 122, АБ 241, Ес 130, Куз 143,
ОМ 160, М 239, П 303, Хл 275, Цв 545.
Контексты/эвристемы “на выходе” (работа на отрезке Б№ была соотнесена с А не по входным контекстам или креатемам, а по выходу эвристем, но не контекстов! Изменения в картинах “лидерства” от выбора иных способов соотнесения данных в альтернативных статистиках едва ли могут стать принципиальными. Но кто знает?):
А — 354/182. Б№ — 545/182.
Распределение этих контекстов/эвристем (в скобках: цифра “приватизированных” эвристем; авторы указаны в порядке убывания числа “сильных” контекстов):
А — ОМ 58/37 (23), Цв 57/41 (18), Хл 50/41 (29), М 38/36 (22), П 36/32 (12),
Ахм 34/26 (9), АБ 32/26 (8), Куз 24/18 (4), Анн 13/12 (3), Ес 12/12 (4).
Б№ — ?л 124/64 (31), Цв 103/53 (13), М 69/45 (12), ОМ 52/36 (10), АБ 46/32 (5),
П 44/36 (16), Ахм 34/24 (7), Ес 25/21 (4), Куз 24/18 (6), Анн 24/17 (2).
“Вход” > “выход” (контексты/статьи, т.е. в знаменателях — креатемы > эвристемы):
А — Хл 176/97 > 50/41, ОМ 242/156> 58/37, Ахм 191/94 > 34/26,
Анн 83/54 > 13/12, АБ 255/89 > 32/26, Ес 108/61 > 12/12, Куз 310/148 >
24/18, П 410/219 > 36/32, Цв 667/228 > 57/41, М — 539/214 > 38/36.
Б№ — ?л 275/91 > 124/64, Цв 545/156 > 103/53, М 239/106 > 69/45, ОМ 160/82 >
52/36, АБ 241/64 > 46/32, П 303/138 > 44/36, Ахм 122/50 > 34/24,
Ес 130/57 > 25/21, Анн 89/47 > 24/17, Куз 143/63 > 24/18.
Средние доли сохранения в эвристемах:
А — 0.12 (354 < 2981) по контекстам, 0.23 (182 < 802) по креатемам.
Б№ — 0.24 (545 < 2247) по контекстам, 0.45 (182 < 404) по креатемам.
(С чем надо связать такие различия по буквам в степени компрессии, пока неясно. Возможно, и с чрезмерной жесткостью отбора на первых порах, как и с либерализмом на отрезке Б№. ?е исключено, что и со спецификой самих слов на А; ср. союз а.)
Суммарная общая доля сохранения (мера компрессии в «Поэтическом Ожегове»):
А †Б№ ((354 †545) < (2981 †2247)=899 < 5228)=0.17 (по контекстам),
((182 †182) < (802 †404)=364 < 1206)=0.3 (по креатемам).
Распределение долей сохранения по авторам:
1) контексты: А — Хл (50<176) 0.28, ОМ 0.24, Ахм 0.18, Анн 0.16,
АБ 0.12, Ес 0.11, Куз 0.08, П 0.08, Цв 0.08, М 0.07.
Б№ — Хл (124<275) 0.45, ОМ 0.32, М 0.29, Ахм 0.28, Анн 0.27,
АБ 0.19, Цв 0.19, Ес 0.19, Куз 0.17, П 0.14.
2) креатемы: А — Хл (41<97) 0.42, АБ 0.29, Ахм 0.28, ОМ 0.24, Анн 0.22,
Ес 0.20, Цв 0.18, М 0.17, П 0.15, Куз 0.12.
Б№ — ?л (64<91) 0.7, АБ 0.5, Ахм 0.48, ОМ 0.44, М 0.42,
Ес 0.37, Анн 0.36, Цв 0.34, Куз 0.29, П 0.26.
Суммарные авторские доли сохранения (А †Б№):
1) контексты: Хл (174 < 451) 0.38, ОМ 0.27, Ахм 0.22, Анн 0.21, АБ 0.16,
Ес 0.15, М 0.15, Цв 0.13, П 0.11, Куз 0.11.
2) креатемы: Хл 0.56, АБ 0.38, Ахм 0.34, ОМ 0.3, Анн 0.29, Ес 0.28,
М 0.25, Цв 0.24, П 0.19, Куз 0.17.
Суммарные коэффициенты отбора:
А — контекстный 0.12, креатем в эвристемы 0.23.
Б№ — ?контекстный 0.24, креатем в эвристемы 0.45.
Средние коэффициенты “стойкости” по всему материалу А и Б№:
контекстный 0.17, креатемный 0.3.
5. Автору представляются более чем любопытными полученные таким опытным, но, конечно, лишь относительно независимым от “возмущений” и “шумов” путем общие показатели по всем 10 поэтам — нашим источникам. Предварительность этих данных настойчиво подчеркнем. Их обсуждение, на которое мы рассчитываем, позволило бы в той или иной мере уточнить полученную здесь картину и углубить ряд представлений филологии об эстетике слова в ХХ веке. Более строгие, чем использованные, подходы и подсчеты несомненно уточнят также смысл статистических распределений. Поэтому не станем торопиться с адекватной, многомерной интерпретацией приведенных данных и тем более — с легковесно однозначной (вроде „Хл — безусловный “лидер”, АБ — “середняк”!”). Снова обратимся к вопросам, связанным и с “измерениями языка”.
Имя пространства, в котором, пробуя проложить маршрут и намечая ориентиры, мы располагаем лишь схемой координат, хотелось бы прочно связать с Хлебниковым. Оно, однако, могло бы отзываться и на разные легитимные “отчества”, так как в нем заметно также кое-что “гумбольдтовское” (“энергийное”), “лобачевское”, “потебнианское”, “постсоссюровское” и то, чем оно обязано в своем выявлении ряду других упомянутых выше вех ХХ века на основе главного — эвристической природы самогo языка.
Инерция игровых, т.е. развлекательных, подпарадигм постмодернизма и масскульта (а-эвристических, чтобы не сказать некорректно: “одномерных”) не должна помешать развивающей и многообещающей Игре со смыслами иерархий, которые представлены выше перечнями цифровых показателей. Условно принимая их за “истинные”, полезно продумать разные следствия предлагаемых ими “истин” для характеристик творчества каждого из поэтов, причины стойкости и переменчивости “местничества”, возможные пере– и недооценки реальных ролей/мест и тенденций в современных аксиологиях. Ясно, что к истинности без кавычек не пробиться без многомерных оценок качества “сильных” контекстов, отобранных в Приложения. Отсюда — пожелания: “индексации качества” как задачи для экспертов; номинации “Контекст года” — для всего Общества.
В такой Игре литературоведам и лингвистам пришлось бы искать единый (мета) язык обсуждений, а для этого лишний (или первый) раз заглянуть в «Зангези», плоскость мысли IX, чтобы, через эстетику звездного языка, представить себе всю гамму видов разума, необходимых для успеха: Выум и Ноум, Гоум и Лаум, и др. из большого списка (см. их определения: [Хлебников 1986:483]), особенно Раум — не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум, — а также в статью «Литературная Москва» Мандельштама (1922), настаивавшего, что „изобретенье и воспоминание идут в поэзии рука об руку”. В серьезной Игре они, память (слoва и контекста) и “эвристический выдум”, должны действовать так же неразделимо. Заметим, что в контекстах из наших Приложений спонтанно заявила о себе как активная и основа игр-.
Другие вопросы. Например, о том, насколько различными могут оказаться цифры, полученные участниками работы на соседних отрезках «Поэтического Даля» (после взаимной коррекции отобранного); подтвердятся ли значительные расхождения в цифрах по Блоку и Хлебникову; подкрепят ли они, и если да, то в какой мере, самоё идею парадигмального противостояния этих двух эвристик; как всё же изменится картина статистических распределений, если порции “входного” материала начать выравнивать по числу контекстов или креатем, а не исходя от числа эвристем; наконец, как скажется на “природе эвристем” понятийная и этическая роль в жизни общества той или иной креатемы (ср. комментарий к статьям ГРЕХ, ДЕНЬ и ДЕНЬГИ в работе [Григорьев 2003 б:19–23]; ее статистику мы уточнили, но главные идеи потребуют развития и проверок). Этот последний вопрос об особого рода идеографии креатем и эвристем перерастает в головоломную проблему “идеографической силы” стоящих за ними денотатов (в некоем “пятимерном пространстве-времени”?!).
Уже здесь и сейчас нельзя абстрагироваться от значительных различий между поэтами в отношении суммарных объемов тех авторских источников — текстовых материалов, на которых [Словарь 2001–] выстроил свою единую базу данных, как и от пестроты текстологических уровней ее источников. Так же ясно, что наши начальные грубоватые “глазомерные съемки” в 4-х мерном пространстве поэзии и ее языка в дальнейшем должны будут учитывать у поэтов и детали хронотопа, дифференцируя контексты: важно, какая именно их часть относится к “поэзии третьего тома” у АБ, к “до 1921 г.” у Хл, “до 1930 г.” у П, к “после России” у Цв, к “первому тому” у М и т.п.
Ранее, почти “на глазок”, мы предполагали, что общая мера задуманной компрессии для контекстов будет близка к десятикратной, а словник экспрессем сократится при этом существенно менее чем в 10 раз [Григорьев 2003 б:23]. Первые опыты говорят о том, что (хотя бы на отдельных волнах материала) мера контекстной компрессии примерно такова, а набор экспрессем (теперь уже креатем при их трансформации в эвристемы) сохраняется даже более чем в четвертой-пятой части ...
Основные задачи этой публикации могли бы считаться выполненными. Внимание филологов ещё раз привлечено к понятию экспрессемы как единицы поэтического языка, которая, полуподобно падежной или словообразовательной “малой парадигме”, упорядочивает разные трансформы художественной, в данном случае — стихотворной, речи. Вместе с тем выдвинуты “трансформы” понятия “экспрессема” — идея 4-ого измерения языка и термины эвристика, креатема и эвристема. На суд велимироведам (и не только им!) ниже предлагается начальная, но вполне ответственная выборка “сильных” контекстов Хлебникова на всем множестве его стихотворных строк и строф, вошедшем в [Словарь 2001], но пока лишь по материалам статей на букву А (зато и в соположении с Блоком, и в эвристемной полноте). Особая желательность обсуждения нашей выборки и статистики связана также с тем, что, отсеивая относительно “слабые” контексты, мы следовали принципу равенства контекстов перед системой применяемых критериев отбора (это — очевидная или впервые обнаруженная/утверждаемая идейно-эстетическая значимость конкретного контекста; его известность, resp. цитируемость; (прото) афористичность; возможная трансформируемость; слово в контексте заглавия, особо яркого образа; этические моменты — ср. помету Хм. и т.д.; подробности — опять же в работе [Григорьев 2003 б]). Как-то всё это выглядит при взгляде со стороны?..
Вместе с тем и упомянутая помета Хм., и пересечения эвристики с этикой (ср. “принцип интеллигентности” Чехова [Григорьев 2000, по указат.] с Этикой как частью Эстетики у Витгенштейна; см. п.1), и внимание к ещё одной вершине в треугольнике отношений Блок — Хлебников — Маяковский заставляют снова обратиться к парадигме Маяковского. Тоже не исчерпанную, но долгое время выступавшую в роли былой екатерининской „картошки” (Пастернак), ее обрекли (как и самогo ее застрельщика) на затянувшуюся “вторую смерть”. Приходится сказать, что „горлан-главарь” не познал (пока?) “второго рождения” в кругу, возможно, достойных восприемников, а не тех, кто десятилетиями бездумно “писaл под Маяковского”. Его эвристика, очищенная от претенциозных наслоений, наросших на ней под флагом “большого стиля”, и вся “сила контекстов”, живых и сейчас, заслуживает отдельного нелегкого идиостилевого, но не в изоляции от идЕостиля и интеридиостилистики, исследования.
Дело в том, что трудности здесь обусловлены и рядом этических моментов, в том числе продолжающимися спекуляциями на драме Хлебникова. На исходе 1921-ого, необыкновенного “болдинского года” (таким был у него и 1920-ый) он возвращается в Москву и проводит свою последнюю, великую и печальную “болдинскую весну” в постоянных контактах с Маяковским. Рукописи, оставленные последнему почти три года назад, но так и не изданные, к автору не вернулись. Кто бы конкретно ни был в этом виноват, Хлебникова оттолкнуло полнейшее равнодушие друга к их судьбе, очевидной своей потребности в них и к усилиям других людей напечатать никому тогда не известные «Зангези» и «Доски судьбы». В этой связи в 1922 г. и годы спустя было сказано немало “сильных” несправедливых слов. Но уже давно ни один ученый не обвиняет Маяковского в “краже”, “укрывательстве” или “сокрытии” рукописей (как когда-то не только сам Хлебников и преданный ему П.В. Митурич), в “варварстве” или “лицемерии”. Обсуждается же нечто совсем иное: оправдывает ли современный “суд чести” имевшее место “полупилатство”; если угодно, пренебрежение обязанностями, долгом друга, неоказание другу той помощи, в которой он прежде всего нуждался; если угодно, измена такой многолетней дружбе и надеждам друга на нее?
Поэтому попытки снять с Маяковского как “друга” всякую его моральную вину в этом “деле” затасканными ссылками на узко юридические “свидетельства-показания” (Винокура и Якобсона 1924 г. в записной книжке поэта), даже на 4 млн. руб. помощи умирающему (другие помогали и суммами, и делами; кстати, если в 4 млн. нет и тени “отступного”, много ли в них нынешних рублей, евро или $?) — эти попытки просто не идут к делу. А швырки из тонированного такими подтасовками стеклянного дома, возведенного на песке, негодующих камушков в Сеть () и оппонентов вовсе не “ставят точку” в проблеме “оправдания”. Смысл этой “точки” иной: нравственная глухота монологиста, отводящего нам глаза от того в поведении “подзащитного”, чтo до боли отдавало “умыванием рук”, уводит из столкновения парадигм и эвристик великих поэтов именно этический компонент, а это он в конце-то концов и развел их человечески и эстетически [Григорьев 2002:232–242]. При том, что “неузнаваемый”, “смущавшийся” в конце апреля 1922 г. Маяковский, видимо, сам осознавал что-то вроде “вины за развод” (ср. [Андриевский 1985:241]; в Сети это свидетельство, разумеется, обойдено; “сокрыто”?), публично он так и не раскаялся.
Что касается “лицемерия”, за ним полезно обратиться к Шкловскому. Панегирист на словах в отношении к Хлебникову, он всё-то просил прощения за недостаток ученого внимания к поэту (и свой недосуг), поминал его по разным поводам. А кончил тем, что мерзейшим образом „остран(н)ил” Будетлянина на своих страницах, отложенных до и дождавшихся 100-летия “себя, любимого”, указав желающим, как пляшут на чужой (и своей) могиле (см.: [Григорьев 2000:21]). Дикость, варварство и цивилизация нередко и сегодня предстают в одной упаковке. Вот так “раскаялся” Шкловский.
О парадигме Хлебникова еще будет сказано далее, в абзацах, заключающих статью. Пока же предлагаем читателю “контекстную элиту” Блока и Хлебникова по букве А, сначала как таковую, затем во всей полноте эвристемного круга. В словаре эвристемы способны говорить достаточно красноречиво сами за себя, кое-где нуждаясь лишь в комментаторской поддержке лексикографа. Но это — пока. Да и сейчас, конечно, такой поддержки уже недостает (ср. перспективную идею Л.Л. Шестаковой; см. выше в конце п.1). Правда, каждый читатель — и сам по себе потенциальный комментатор едва ли не для любого из предпочтенных (а также для “излишних” и почему-либо недооцененных составителем) контекстов. Надо настойчиво повторить: наш коллектив чрезвычайно заинтересован во внимании таких комментаторов-оппонентов-немонологистов.
Графика Приложений упрощена (ср. [Словарь 2001–]). Загл. (и ряд Посв.) рассматривались как “сильные”. РП — речь персонажа, НАР — несобственно-авторская речь.
Слова Блока „Сегодня я гений” общеизвестны. Если спросить, к чему относятся слова Хлебникова о сопоставимом взлете в его творчестве — Всё-таки добился своего, разбойник, — мало кто, и уж не министр культуры и не держатель «Фонда культуры», ответит на это “с трех раз”. Здесь малого “эвристического прорыва” ждешь скорее от “стихии случайностей”. Вдруг редакторы кроссвордов в «Известиях» головоломному вопросу о части суток (ответ: вечер) предпочтут “Название цикла стихов о Блоке” (ответ: «Ветер» Б. Пастернака), — глядишь, и полюбят “загадки” вроде “Председатель Земного шара”, „Говорят, своими стихами он набивал наволочку”, „Футуристов он именовал будетлянами”, „Маяковский назвал его великолепнейшим и честнейшим рыцарем”. Для “эвристического просвещения” общества. А там, на досуге “кого-то” из бо-ольших элитариев, вдруг “подбросят” кроссворд и ему, VIPу: попотей, небога!..
Едва ли Достоевскому Хлебников обязан больше, чем Гауссу. Они оба как единый символ художественного и научного познания вместе с “рабочими символами” разных эпох попеременно и сообща давали Будетлянину всё необходимое для его творчества с девизом „Единство — тебе поклонюсь”. Ровесник Бора (на месяц моложе), он в 1908 г., за два года до своего же метабиоза, в стих. «Времыши-камыши...» строчками: На береге озера и На озере берега — как бы предсказал “принцип дополнительности”. Патриотам это, понятно, не по их Кауму. Но Культуре-то, казалось, как проглядеть, что Будетлянин — “отчим” Бора? Более того — он переполнен и “синергетическим”. «Диалог с И. Пригожиным» [Князева, Курдюмов 1992] пренебрег постулатом Харитона, не озаботившись “Диалогом с В. Хлебниковым”. Эвристемам «Поэтического Ожегова» нужна проекция на весь “гипертекст” мировой культуры ([Самовитое слово 1998:19, Словарь 2001, I:11]; ср. будущее Сети), нужны Бергсон и Вернадский, Корчак и Сахаров, Лао-цзы и мать Тереза... — мысль и для Раум-ников из РАН, РГГУ и СМИ.
Соберутся ли наши “просвещенцы” под знаком любого “совета по русскому языку” хотя бы к 2008 г., чтобы подумать о том, в программу для вне– или внутриклассного чтения 5-ти или 6-тиклашкам (ладно — в 10-ом или 11-ом классе) ввести хотя бы фрагмент стих. «Времыши-камыши...»? С 1913 г. Блоку оно могло быть известно, а Маяковский знал о нём (его?) несомненно. Между тем, хорошо бы предложить прямо сейчас продвинутому студенту-филологу такую тему: “Блок и Хлебников: контекст некрологов прощавшегося с ними Маяковского”. А тему сопоставления идЕостилевых парадигм — незауряд-диссертанту (даже исповедуй он модный “гендеризм”).
“Второе рождение” Хлебникова, по гамбургскому счету, уже не за горами. Конечно, найдутся вчерахари, тухлоумцы или доумцы — указуи “необыкновенного фашизма”, всегда готовые задушить младенца в колыбели. Но Зангези жив. Иродам девушка с бородой страшна новым словом. Никто, ни один поэт, ни один ученый, не работал с языком и метаязыком так, как Хлебников, в таком их единстве, с таким сознательным погружением в четвертое измерение языка. «Трубу марсиан» (1916) начинали, по всей видимости, очень обидные, азартные, но глубокие пассажи-обращения-обещания:
Люди!
Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси места)!
Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, как пахари,
этому щенку четвертую ногу, именно — ось времени.
Хромой щенок! Ты больше не будешь истязать слух нам своим скверным лаем.
В 1920–1922 годах Хлебников обещание выполнил, предложив людям ряд скреп (= формул) основного закона времени и круг приближенных решений уравнений судьбы, заметив, что это — лишь первые крики младенца. Подсистемы неологизмов, часто компрессивных, как энтимемы (ср. компрессию в самой поэзии или в научных работах), и сети уравнений и уравнений он строил как четкие эвристические модели для природы языка, для всего мироздания, обустройства мира толп, государства времени (ср. наимал, равнебен, предземшары). У этого “темпомира” был “странный аттрактор”, определявший непредсказуемость путей поэта и ученого в одном лице (по Маяковскому, их (пути) „нельзя было понять” [12:27]) — “первоумнейшины”, ставшего первооткрывателем 4-хмерного пространства-времени языка. Сканировав его умный череп (см. «Взлом Вселенной»), он понял всё значение “воображаемой филологии” и “принципа единой левизны” не только для своего творчества, но творчества вообще.
И по сие время поэт-мыслитель не дождался от нас (“трехногих” нехотяев?) проверочных процедур и Диалога на равных. Вольно цветикам журналистики в лице А. Архангельского и ягодке стихотворства Дм. Быкову амикошонствовать с Досками судьбы... “Позитив” убеждает: и фамильяры, и критики-беллетристы, побивавшие “тузом” Блока („спасителя чести русской поэзии”) неведомые им “карты” Хлебникова, якобы звавшего “стиховое слово” на путь, опасный для чести и поэзии, и самогo слова (застоялся этот тезис И.Б. Роднянской; см.: [Григорьев 2000:446 и др.]), проигрались в дым. За большим Игорным столом, объединяющим искусство и науку, не остается мест для „скорострельных интуитивистов” (Б.И. Ярхо). Требуются вникание в Хлебникова и ответственные исследовательские сопоставления. Креатемы и эвристемы — отпрыски матери-лексикографии — готовы послужить и этому общему делу.
P.S. Автор посвящает свою работу памяти Татьяны Юрьевны Строгановой — жены и друга-филолога. Уже тяжело больной, ей было интересно всё пространство языка. Вот кусочек ее автоироничной “домашней эвристики”: — Вить! И я зовусь Татьяной, / И муж в сраженьях изувечен. / Ну почему нас не ласкает двор?..
P.P.S. За благожелательное обсуждение проблематики этой статьи автор глубоко признателен А.Г. Свешникову, М.Л. Гаспарову, В.В. Фещенко-Таковичу и Е.Р. Арензону.
| персональная страница В.П. Григорьева | ||
| карта сайта | 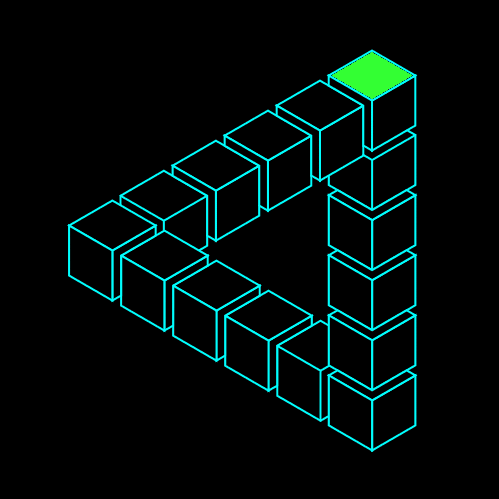 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||