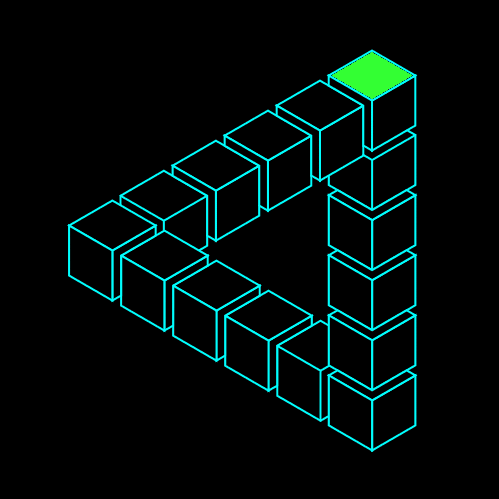Григорьев В.П.
К поэтике и эстетике авангарда
1.
Рукописи, как избы, горят и “горят” — проблемы, а иногда и идеи остаются. Спасаясь от полного квазиидеологического разгрома в издательстве «Наука», один из кусков большой работы, открывавшей погубленный в 1977 г. “черным рецензентом” сборник «Проблемы лингвистической поэтики» (ПЛП), все-таки увидел свет. Под заглавием «Лингвистика. Поэтика. Эстетика (О разных подходах к поэтическому языку)» он нашел приют в малотиражном саранском сборнике.1 Причиной погрома были симпатии авторов и редактора ПЛП к “лингвопоэтическому авангарду”.2
Причиной погрома были симпатии авторов и редактора ПЛП к “лингвопоэтическому авангарду”.2 Этот эпизод3
Этот эпизод3 вспоминается прежде всего потому, что (1) и сегодня, обращаясь к поэтике авангарда (А. ), мы оказываемся, в частности, перед старой проблемой самовитого слова Хлебникова (Хл), т.е. асимметрическим отношением между уже преобразованной в поэтическом языке единицей лингвистической поэтики (ЛП) и “той же самой” экспрессемой как фактом эстетики с ее аксиологическим измерением; (2) сохраняется давний соблазн “перескока” (метафора М.М. Бахтина) через современную лингвистику, ЛП и поэтику слова к ветхозаветному “первичному слову”, А.Ф. Лосеву, антилингвисту В.В. Кожинову или тому же Бахтину, но как бы изъятому из критики его концепций (Р.В. Дуганов; Н.И. Толстой; B.C. Библер); (3) снова на первый план выходят проблемы поэтической лексикографии. В ПЛП они затрагивались попутно с опорой на разработки 60–70-х гг. — в 90-е возникли новые задачи.
вспоминается прежде всего потому, что (1) и сегодня, обращаясь к поэтике авангарда (А. ), мы оказываемся, в частности, перед старой проблемой самовитого слова Хлебникова (Хл), т.е. асимметрическим отношением между уже преобразованной в поэтическом языке единицей лингвистической поэтики (ЛП) и “той же самой” экспрессемой как фактом эстетики с ее аксиологическим измерением; (2) сохраняется давний соблазн “перескока” (метафора М.М. Бахтина) через современную лингвистику, ЛП и поэтику слова к ветхозаветному “первичному слову”, А.Ф. Лосеву, антилингвисту В.В. Кожинову или тому же Бахтину, но как бы изъятому из критики его концепций (Р.В. Дуганов; Н.И. Толстой; B.C. Библер); (3) снова на первый план выходят проблемы поэтической лексикографии. В ПЛП они затрагивались попутно с опорой на разработки 60–70-х гг. — в 90-е возникли новые задачи.
2.
Отношение как то, чем может разниться единое, Хл возвел в ранг фундаментальной философской категории как будто лишь в своей гносеологии.4 На самом деле философия, поэтика и эстетика Хл образуют тесное единство. Заслуживают внимания такие два факта. (1) С открытием основного закона времени новый стимул получила и “воображаемая филология” Хл. Двоек и троек священные рощи вошли в противоречие с Д-словами и Т-словами звездного языка, который тем самым оказался недостаточным.5
На самом деле философия, поэтика и эстетика Хл образуют тесное единство. Заслуживают внимания такие два факта. (1) С открытием основного закона времени новый стимул получила и “воображаемая филология” Хл. Двоек и троек священные рощи вошли в противоречие с Д-словами и Т-словами звездного языка, который тем самым оказался недостаточным.5 Возникает новая оппозиция слов на Д, олицетворяющих дух, добро, движение — жизнь, и слов на Т, за которыми трение, тупик, труп — смерть: свой структурализм Хл уже скорректировал своеобразной “теорией фюсей”. (2) В начале 10-х годов, обосновывая “воображаемую логику”, Н.А. Васильев попутно ссылается на утопию — “воображаемую социологию” и на “воображаемую историю — Uchronie” Ш.-Б. Ренувье.6
Возникает новая оппозиция слов на Д, олицетворяющих дух, добро, движение — жизнь, и слов на Т, за которыми трение, тупик, труп — смерть: свой структурализм Хл уже скорректировал своеобразной “теорией фюсей”. (2) В начале 10-х годов, обосновывая “воображаемую логику”, Н.А. Васильев попутно ссылается на утопию — “воображаемую социологию” и на “воображаемую историю — Uchronie” Ш.-Б. Ренувье.6 В недавно переизданной работе 1926 г. “евразийца” отца Георгия Флоровского также упоминается это имя, правда, в иной связи.7
В недавно переизданной работе 1926 г. “евразийца” отца Георгия Флоровского также упоминается это имя, правда, в иной связи.7 Существенно, что задолго до Хл в основе философии Ренувье лежала именно категория Отношения.
Существенно, что задолго до Хл в основе философии Ренувье лежала именно категория Отношения.
З. Без Хл восприятие поэтики и эстетики А., его духа, сути, смысла и границ самого понятия особенно неадекватно. Усилим этот тезис: без Хл неадекватно осмысление культуры XX века в целом, ее итогов и перспектив. Но как личность и образ Хл все еще в значительной мере мистифицирован. Б. Гройс возлагает на него ответственность за весь русский футуризм (будетлянство), доходя до обвинений в расизме (!). С. Аверинцев то видит в Хл дохристианское язычество, пагубное юродство или парарелигиозность, то подводит его под якобы “общий знаменатель” А. — “дух утопии”, отлучая Хл от Мандельштама и Ахматовой, вопреки их взаимным притяжениям.8 В каком-то фантасмагорическом “заединстве” выступают работы Г. Гачева, душу которого Хл, „конечно не кормит”, “метаэстетика” В. Лена с ее ‹единой, не различающей А. и а.› „крученых-хлебниковской просодией”, аксеновский „кот Велимир”, глава о Хл в «Эстетике русского модернизма» В.А. Сарычева и глава «Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие)» в «Блуждающих снах» А.К. Жолковского, который надеется, что в Хл „отныне будет слышаться скандирующий гигант от графомании”.9
В каком-то фантасмагорическом “заединстве” выступают работы Г. Гачева, душу которого Хл, „конечно не кормит”, “метаэстетика” В. Лена с ее ‹единой, не различающей А. и а.› „крученых-хлебниковской просодией”, аксеновский „кот Велимир”, глава о Хл в «Эстетике русского модернизма» В.А. Сарычева и глава «Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие)» в «Блуждающих снах» А.К. Жолковского, который надеется, что в Хл „отныне будет слышаться скандирующий гигант от графомании”.9 Очевидна неполнота представлений об А. без исследования тем “Хл и Мандельштам”, “Хл и Цветаева”, “Хл и Платонов”, без последовательного “и Хл” в комментариях к новым изданиям “заумников”, “чинарей” и обэриутов — нам как бы всерьез предлагают смотреть на мир „через фильтр постмодернизма” (Вяч. Курицын). Легенде о Н. Федорове как “учителе” Хл спешит на смену сверхмерная вера в близость Хл и Малевича. Еще не сопоставлены „гносеологические поэтики” (Я. Друскин) Кандинского, с его „принципом внутренней необходимости”, и Хл, с его „принципом единой левизны”; увы, искусствоведы не откроют филологам глаза на сущность самовитого слова.
Очевидна неполнота представлений об А. без исследования тем “Хл и Мандельштам”, “Хл и Цветаева”, “Хл и Платонов”, без последовательного “и Хл” в комментариях к новым изданиям “заумников”, “чинарей” и обэриутов — нам как бы всерьез предлагают смотреть на мир „через фильтр постмодернизма” (Вяч. Курицын). Легенде о Н. Федорове как “учителе” Хл спешит на смену сверхмерная вера в близость Хл и Малевича. Еще не сопоставлены „гносеологические поэтики” (Я. Друскин) Кандинского, с его „принципом внутренней необходимости”, и Хл, с его „принципом единой левизны”; увы, искусствоведы не откроют филологам глаза на сущность самовитого слова.
4. Словарные формы представления поэтики и эстетики А. могут быть различными: идеографические тезаурусы, словари неологизмов, образов, тропов, образных парадигм и т.п., вплоть до Codex’a poeticarum (Е.Д. Поливанов). Как правило, это — работы, адресуемые филологам. Их реализация связана с „возмущающей ролью исследователя” как при отборе источников и контекстов, так и при выборе языка описания. Коллизии же между поэтикой и эстетикой слова очевидны на примере представления читателю ограниченного множества „наиболее ярких, удачных, эстетически значимых” из многих тысяч неологизмов Хл.10
Обозначим идею Словаря языка русской поэзии XX века, опирающуюся на понятия самовитого слова (и экспрессемы) как „чудовищно уплотненной реальности” (Мандельштам) и „аббревиатуры высказываний” (Бахтин). Будет ли это (по объему) “Поэтический Ожегов” или сразу “Поэтический Даль”, зависит от спонсоров. (Возможен и «Опыт» в виде статей на одну только букву, скажем, В). Но “по идее” это один из тех “заделов”, который мог бы укрепить “процесс включения” (Е.П. Челышев) фундаментальной науки в практику, отвечая культурным ожиданиям “рядовых” обладателей нормативного ожеговского словаря. Условимся для начала о работе по конкордансам к десяти поэтам: Анненскому, Ахматовой, Блоку, Есенину, Кузмину, Мандельштаму, Маяковскому, Пастернаку, Хлебникову, Цветаевой. Споры о первоочередных персоналиях решаются простым предоставлением конкордансов к Брюсову, Гумилеву, Вяч. Иванову, Клюеву, Ходасевичу и другим достойным поэтам. Целесообразно в дальнейшем включение и единичных контекстов, демонстрирующих и “этическое измерение” языка, ту или иную „совесть слова” (Аверинцев) и/или чисто игровые находки типа: А ты бы, ты бы, ты бы, ты бы барыней была, Нежнее красной рыбы бы, как банный пар бела — в статью БЫ. Опасение, что в таком словаре „исчезнут идиостили” (Ю.Д. Апресян), снимается паспортизацией (и датировкой) любого из отбираемых для Словаря контекстов и тем соображением, что идиостили как стили мышления будут „торчать в разные стороны” из каждой леммы (или отсутствовать как знаки слабой или „минус-рефлексии” над ней). Истолкование контекстов следует по возможности свести к экономной и общепонятной системе помет. Эстетика слова должна говорить сама за себя без набора характеристик, разъясняющих лишь сложность поэтического преобразования слова. (Ср. [Поэт и слово 1973]).
Система таких последовательно совершенствуемых словарей для национальных поэзии XX века сделала бы разрешимой задачу сопоставительной эстетики А. в узком смысле (и в лексикологическом аспекте). Хронотоп А. в широком смысле, надеюсь, тем временем станет более определенным.
P.S. А эта работа была напечатана в 1993 г. в Тамбове, иждивением прежде всего В.Г. Руделёва и С.Е. Бирюкова. Для автора она знаменовала и продолжение внимания к теме “Хл и ОМ”, и поворот к новому представлению об авангарде, и возобновление попыток охватить авангард лексикографически, на этот раз словарем «Самовитое слово» [ВГ 1993 б, 1994 а, 1994 д]. Отсюда и тема «Будетлянство и кубофутуризм» [ВГ 1999 б]; см. в наст. изд.
————————
Примечания 1
1 См.: Стилистика художественной речи. Межвузовский тематический сб. ‹...›
Саранск, 1979. С. 4–19. другой кусок см. в сб.: Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов.
Калинин, 1979. С. 57– 68.
 2
2 Понятие “авангард” используем в широком смысле. См.:
Григорьев В.П. Хлебников и авангард (печатается в материалах конференции «Искусство авангарда: язык мирового общения» — Уфа, декабрь 1992 г.).
 3
3 Подробности см. в книге автора «Из прошлого лингвистической поэтики и интерлингвистики» (1993; в печати).
 4
4 Ср. мысль Мандельштама в те же годы о науке, построенной „на принципе связи, а не причинности” (ст. «О природе слова»).
 5
5 Он был недостаточным (или — нейтральным) и в отношении словотворческих оппозиций типа
творяне / дворяне еще до открытия
основного закона. См. к этому:
Григорьев В. Заумец и Главздрасмысел // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под ред. Л. Магаротто. М. Марцадури, Д. Рицци.
Bern etc., 1991. С. 9–20.
 6 Васильев Н.А.
6 Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды.
М., 1989. С. 68.
 7 Флоровский Г.В.
7 Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма // Вопросы философии, 1990, №10. С. 88.
 8
8 Ср.: „‹...› тот, кто слышит глубинный смысл поэтической мысли, будет жить либо в мире Хлебникова, либо в мире Мандельштама” (Н.Я. Мандельштам). Вспомним, кстати, что Мандельштам описывал Данта как “авангардиста”.
 9
9 Оппозицию Ж / Г Хл в опытах
звездного языка как будто не заострял. И вот сама жизнь так неожиданно и откровенно подбросила ему “рифму” между Жолковским и... Галковским.
 10
10 См. перечень “236 избранных неологизмов Хлебникова” в кн.:
Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта.
М., 1986. С.235–237. Ср. также С. 165–174
Воспроизведено по:
Григорьев В.П. Будетлянин.
М.: Языки русской культуры. 2000. С. 737–740
Изображение заимствовано:
Bill Woodrow (b. in 1948 near Henley, Oxfordshire, UK. Lives and works in London).
Endeavour (cannon dredged from the first wreck of the Ship of Fools).
1994. Bronze. 208×445×174 cm.
Exhibited at The Hat Hill Sculpture Foundation, Goodwood, Chichester, West Sussex, England.
www.flickr.com/photos/tednsteph/4492633925/


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()