

 лебников однажды написал про себя следующее: Я задался вопросом, не время ли дать Вам очерк моих работ, разнообразием и разбросанностью которых я отчасти утомлён. Мне иногда казалось, что если бы души великих усопших были обречены, как возможности, скитаться в этом мире, то они, утомлённые ничтожеством других людей, должны были бы избирать, как остров, душу одного человека, чтобы отдохнуть и перевоплотиться в ней. Таким образом, душа одного человека может казаться целым собранием великих теней. Но если остров, возвышающийся над волнами, несколько тесен, то неудивительно, если они время от времени сталкивают одного из бессмертных опять в воду. И таким образом состав великих постоянно меняется...
лебников однажды написал про себя следующее: Я задался вопросом, не время ли дать Вам очерк моих работ, разнообразием и разбросанностью которых я отчасти утомлён. Мне иногда казалось, что если бы души великих усопших были обречены, как возможности, скитаться в этом мире, то они, утомлённые ничтожеством других людей, должны были бы избирать, как остров, душу одного человека, чтобы отдохнуть и перевоплотиться в ней. Таким образом, душа одного человека может казаться целым собранием великих теней. Но если остров, возвышающийся над волнами, несколько тесен, то неудивительно, если они время от времени сталкивают одного из бессмертных опять в воду. И таким образом состав великих постоянно меняется...Но станем ли мы пугаться этого? Перед нами всё же — реальные стихи, реальная литература, — больше того: перед нами — поэзия. Глухие пусть остаются у порога. Но мы — даже через все пропасти и провалы — отчётливо слышим этот поэтический зов:
Поэзия Хлебникова. Что сказать о ней? Мудрый «Опояз» не расчислил ещё, какую младшую линию предшествующей литературной генерации канонизовал Хлебников, но место поэта в эволюции наших поэтических стилей в общих чертах своих особых сомнений не вызывает. Конечно, нужно было быть символизму, чтобы появилось самовитое слово Хлебникова, нужны были ослепительный блеск „Правды вечной кумиров” и высокая патетическая риторика «COR ARDENS», чтобы зазвучала чистая, замкнутая фраза хлебниковской прозы, “снижающий” говорок «Сельской Очарованности», «Лесной Девы» или домашняя разговорная интонация хлебниковского дольника:
Труднее, конечно, было бы говорить о конкретной зависимости Хлебникова от старших поэтов, да и вряд ли это чему-либо помогло. Сам Хлебников ничего не сказал нам о своих поэтических пристрастиях: лишь два-три раза в стихах его упоминается имя Пушкина, пушкинианская красота — и это, конечно, симптоматично. С другой стороны — далеко не выясненной ещё остается роль Хлебникова в развитии современной нам поэзии. Принято думать, что роль эта — исключительно крупная. Но мнение, будто Хлебников — исток новой поэзии, так охотно поддерживаемое его поклонниками, — основано на явном преувеличении и несомненно искажает историческую перспективу. Хлебников своей традиции не создал. Традиция российского футуризма — есть, конечно, традиция Маяковского, а не Хлебникова. Правда, сам Маяковский считает, что он весьма многим обязан своему „гениальному учителю”; в действительности же, усвоив ряд внешних приёмов хлебниковского письма, Маяковский очень скоро уже вышел за рамки, которые намечались для русского поэтического слова творчеством Хлебникова. Культура слова никогда не стояла перед Маяковским в качестве непосредственной задачи: поэзия его строится на иных моментах, и „словоновшество” его, достаточно, в конце концов, благоразумное и осторожное, есть лишь побочный продукт его лирики. Маяковский и Хлебников не только родственны друг другу, но они просто — антиподы. И если есть поэт, в стихах которого до сих пор, хотя и не всегда внятно, чувствуется хлебниковская походка, то это, конечно, только Николай Асеев. Творчество Асеева шло разными путями, но в лучший его период — в период «Оксаны» — он прямо примыкает к Хлебникову, не только уже внешними формами и приёмами, но и по существу: из четырёх строчек хлебниковского дольника, выше приведённых, первые три строки могли бы быть написаны Асеевым, и лишь четвертая — Маяковским.
Да, традиции своей Хлебников не создал — и в этом, конечно, нет ничего удивительного. Литературная “революция” эпохи «Пощёчины Общественному Вкусу» была, конечно, не революцией, а лишь своеобразной артиллерийской подготовкой. Хлебников, занимавший центральное место в эту эпоху, — явился лишь знаменем, партийным лозунгом в руках тех, кто позже, как футуристы, вышли на большую дорогу русской поэзии. Все те внешние приметы, на основании которых сложилось общее представление о Хлебникове, и которые самому ему всегда мешали делать свое дело, — „заумь”, смехачи и вообще весь тот мучительный мусор, который доживает ныне свой век в упорной бессмыслице Кручёных, где стоит уже на границе шарлатанства, — всё это по существу поэтического наследия Хлебникова никак не определяет и в лучшем случае сохраняет за собой значение разве лишь исторического симптома, временной тенденции. Хлебников не многое успел внести в сокровищницу русского поэтического слова, — но то, что осталось от него, это, конечно, не „заумь”, не бобэоби и не любхо. Любопытно отношение самого Хлебникова к тому, что печаталось под его именем его друзьями. В его бумагах, собранных Р.О. Якобсоном, есть записочка, содержащая суммарный перечень вещей, которые должны были войти в собрание сочинений, проектировавшееся Якобсоном: перечень этот прямо устраняет из собрания сочинений груду бессмысленных обрывков, которыми наполняли книжечки Хлебникова его издатели, и указывает на вещи, только законченные и более или менее цельные. И действительно, пора, наконец, сказать, что воспоминание наше о Хлебникове оправдано, может быть, не косноязычными гримасами, которые столь выгодно были использованы для себя его учениками, а лишь теми немногими, но зато подлинными блёстками поэтического золота, которые, как молния в пустыне, озаряют вдруг перед нами далёкие видения его поэтической интуиции. Многое хочется простить Хлебникову, многое становится понятным и близким, когда, после тяжёлой и часто бесплодной борьбы с проволочными заграждениями его „разорванного сознания”, вдруг засверкают перед тобой такие полновесные, чистой мелодией слова напоенные, строки:
После сухой и безводной степи «Творений» и тому подобных сборников, канонизованных в Хлебникове его ближайшими соратниками и “общественным мнением”, как легко и вольно дышит хлебниковский примитив в какой-нибудь «Иранской песне» или «Сельской Очарованности»:
И уже последние препятствия к взаимному пониманию устранены, когда Хлебников — вдруг, следуя непостижимой прихоти, дарит неожиданно читателя такими вершинами поэтического слова:
Пусть оправданы “исторически” и „заумь”, и „словоновшество”, и „корявость” Хлебникова. Пусть учёные доказывают, что всё это — „закономерно”, что уродство это кому-то и для чего-то было „нужно”. Этому охотно можно поверить, это действительно так. Но стихи пишутся не для учёных: мы стали слишком историками, мы отвыкли от конкретного поэтического восприятия, от той непосредственности, которая одна только способна ввести нас в сердцевину поэтического слова. Мы словно забыли, что отношение к поэзии возможно и иное — не научное, а просто — человеческое. И сколь бы легко ни было оправдать исторически все эти больные наросты, которые мешают нам расслышать подлинное слово Хлебникова, для живого, конкретного сознания — в Хлебникове останутся всё же не снезини, не времири и смехачи, а вот эта изумительная Ляля на лебеде. Здесь — подлинное в Хлебникове, здесь — оправдание нашего воспоминания о нём.
Для такой поэзии нет иного слова, кроме старого, но в иных случаях незаменимого термина: классическая поэзия. Этот классицизм Хлебникова — не гимназический парнассизм, не эллинистические бирюльки, которыми забавляются всякого рода “нео-классики” нашего времени, а та подлинная, благородная и возвышенная простота, проникновенность, которая чистым и светлым ключом бьёт из самого родника поэтического сознания. Это тот классицизм, не повторенным и неповторимым образцом которого остаётся для нас стих Пушкина. Присутствие того, что мы обычно зовем “пушкинским”, — несомненно в Хлебникове. Наглядно убеждает в этом также хлебниковская проза, в лучших своих образцах — в рассказе «Ка», напр., или печатаемом ниже «Есире», — эта поразительная чистота линии, лёгкой и чёткой, как пушкинский почерк, эта синтаксическая скупость, эта ровная фраза. Насколько же сильнее после этого наше недоумение, насколько труднее понять нам, — почему же так мало этих светлых точек, живых мазков на необозримом пространстве болезненной невнятицы и уродливых судорог, почему столь странное историческое воплощение избрал для себя — где-то в глубине тлеющий, но все же подлинный, действительный огонёк поэзии. Какая судьба!
На Хлебникове отдохнуть трудно. Он далеко не сразу и далеко не всегда позволяет „забыться праздною душой”. Но для того, кто любит и умеет отыскивать редкие золотые крупицы в несчётном песке морском, — этот путь по Хлебникову безрезультатным не останется. Потому что одной какой-то стороной своего неустроенного и скорбного духа Хлебников коснулся, всё же, того вечного огня, всепрощающий свет которого помогает нам брать неодолимые с виду крепости его исторической уродливости.
Таков наш — человеческий — суд над Хлебниковым. Таким можем мы его принять и усвоить. И только таким может остаться он навсегда в лоне русской поэзии.
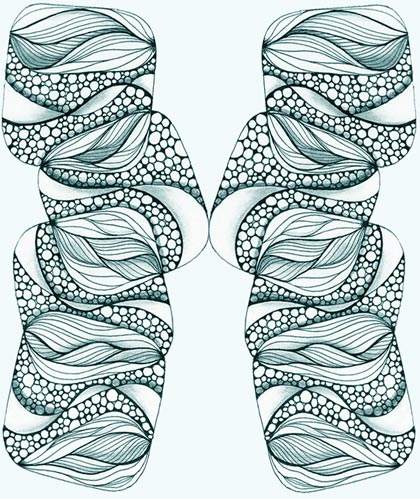 едалеко от черты прибоя на полудиком острове Кулалы, вытянутом в виде полумесяца, среди покрытых травой песчаных наносов, где бродил табун одичавших коней, стояла рыбацкая хижина. Сложенные паруса и вёсла указывали, что это был стан морских ловцов. Здесь жил ловец Истома и его отец, высокий, загорелый великан с первой сединой в бороде. Зимой они громили тюленей и, увидев зверя, когда он, похожий на человека, выстал в море и смотрел любопытными глазами, бросали в него копьё с подвижным кокотом.
едалеко от черты прибоя на полудиком острове Кулалы, вытянутом в виде полумесяца, среди покрытых травой песчаных наносов, где бродил табун одичавших коней, стояла рыбацкая хижина. Сложенные паруса и вёсла указывали, что это был стан морских ловцов. Здесь жил ловец Истома и его отец, высокий, загорелый великан с первой сединой в бороде. Зимой они громили тюленей и, увидев зверя, когда он, похожий на человека, выстал в море и смотрел любопытными глазами, бросали в него копьё с подвижным кокотом.Ловцы вышли на берег.
Мимо Кремля, через Белый город и Житный город, проходя то Вознесенскими, то Кабацкими воротами, ловцы, сгибаясь от осетра, положенного на плечи, пошли мимо рядов с ловецкой сбруей, к знакомому старообрядцу-помору.
В одном месте их остановило стадо красного степного скота. Конные пастухи гнали их по узким улицам, и их кривые рога теснились, как речные волны. В самую гущу их врезалась тяжёлая телега с зеленовато-белыми телами осетров. Там степняк ехал на стонавшем верблюде, здесь на белых украинских волах чумаки.
У берега стояли суда с парусами из серебряной парчи и около них живописные женщины Востока. Вольные сыны Дона в драгоценных венках, усыпанных крупным жемчугом, и серебряных зипунах там и здесь мелькали на улицах. Имя Разина... 2![]()
Черноглазые казачки в вышитых сорочках стояли около глиняных плетней и широко улыбались всему миру; в чёрных покрывалах проходили татарки. Закутанные в белое, на верблюдах проезжали степные женщины.
Старик помор встретил их на пороге своей землянки, обнесённой забором из соломы и грязи. Так, спасаясь от зноя и пожаров, жили русские того времени.
Когда они спустились по ступенькам вниз, от темноты они ничего не могли некоторое время увидеть, но потом заметили земляные лавки, покрытые восточными коврами, и несколько тяжёлых кубков на столе.
Дородная, немного тучная женщина вышла навстречу гостям. Её лицо было покрыто сетью мелких морщин и было старчески миловидно. В красном углу сидел гость — индус. Что-то прозрачное в чёрных глазах и длинные чёрные волосы, загибаясь, падавшие на плечи, давали ему вид чужестранца. Он рассказывал новости, привёзенные недавно из Индии, некогда столь кроткой, что она самому небу жертвовала только цветы. Как опора и надежда браминов, Саваджи восстал против Коварного Ауренгзиппа, быстро основав государство махратов; и как с другой стороны среди яростной борьбы поклонников Вишну и поклонников Магомета разливается кроткое учение гуру (учителей) Нанака и Кабира; как проповедующие общее братство и равенство для всех людей сикхи (ученики) выбрали своим пророком сначала Говинда, а потом Тег Бохадура, и как преследует сикхов вероломный Ауренгзипп, не брезгая ни ядом, ни наёмным убийцей, и как в Китае недавно кончилось восстание Чанг-гиент-шонга, и как дух свободы пылает над всем миром.
Рассказывал и про Галай-гала-яму индусов.
Гневно рассказывал про Китай, как там бедняк за полтинник, вручённый его семье, соглашается идти на казнь вместо другого, и кладет на доску свою морщинистую шею и покрытую седой косой голову, как там нельзя найти земли величиной с ладонь, которая бы не была покрыта колосьями; как человек возделывает такие неприступные высоты, что, казалось, у него должны были бы быть крылья, чтобы залететь туда, а собирая морскую капусту, человек приступает к возделыванию пространств моря.
И многое другое рассказал индус; глубокой ночью разошлись спать.
Истома заснул, думая о пленнике, брошенном в яму, по лицу которого ползает жаба; о правителях, которым приносят корзины вырванных глаз; о правителях, зашивающих рты слишком говорливым и разрезающих рот слишком молчаливым; о казни глотанием песка до смерти. Утром Истома двинулся на рынок.
Он пересёк шествие; большое знамя, на котором был изображён положенный на костёр кабан, развевалось впереди отряда. Всадники в чёрных бурках, на сухопарых злых конях ехали за ним. Мелькали их чёрные шапки с малиновым верхом.
Это был Зажарский стрелецкий полк. В толпе всё чаще и чаще слышалось имя Разина.
Взволнованные люди входили и выходили через все 7 ворот Белого города: Мочаловские, Решеточные, Вознесенские, Проломные, Кабацкие, Агарянские, Староисадские.
Здесь он снова встретил индуса Кришнамурти. Кришнамурти с раннего утра ушёл за город, где зелёные сады застыли над тихими речками, и остановился в немом изумлении. „Аум”, — тихо прошептал он, наклоняясь над колосом синих цветков.
— Что? Дивуешься божьему миру? Дивуйся, дивуйся! — произнёс за его плечами голос древнего старика. В лаптях, в синих портах и белой рубашке, он стоял, опираясь на палку, ветхий и столетний. Лебедь времени, Кала-Гамза, трепетал над ним, над его седыми кудрями. Он был стар. Оба поняли друг друга. Потом Кришнамурти взял с собой мальчика и пошёл с ним кормить диких, бесприютных собак.
Он пошёл на рынок у Кабацких ворот.
Здесь на открытых столах гуляла повольница. Слышались отрывочные слова, восклицания:
— Друг! иди сюда! Тяжко мясу без мяса! Тяжко другу без друга, как соловью без луга.
— На, пей! Веселись, душа!
Смуглые воины пировали под открытым небом.
>— Слушай: видела жаба, как коня куют, — протянула и свою ногу: куй, кузнец!
— Так и ты, друг, — воскликнул смуглый, почти чёрный человек, ударяя смуглой рукой по столу.
Вокруг неё, точно верёвки, вились тугие жилы, изобличая в нём силача воина.
— Э! Рыбу водой не поят. Дыня или тыква?
Хохот покрыл слова говорившего.
В это время резкий стон прорезал многоголосый говор толпы.
Это проходил среди толпы высокий малый в белой рубашке и зипуне ярко-красного цвета. В руках у него был дикий лебедь, связанный в крыльях тугими верёвками.
— Лебедь, живой лебедь! — Казалось, его никто не слышал. Индус не принадлежал к расколу Шветамбара, требовавшему от учеников ходить нагими, быть „одетыми в солнце”, но его вера требовала делать добрые дела всем живым существам, без изъятья, — ведь в лебедя могла переселиться душа его отца. Он решил освободить прекрасного пленника.
Там, на крутом берегу Волги, развязал брамин дикую птицу, и скоро та в последний раз блеснула в синеве белой серебряной точкой.
А брамин по-прежнему стоял над тёмной водой. О чём он думал? Как ежегодно привозят верблюды священную воду Ганга?
И как, будто среди молитвенных голосов, совершается обряд свадьбы двух рек, когда из длинногорлого тяжёлого кувшина рукой жреца вода Ганга проливается в тёмные воды Волги — Северной невесты?
Истома его догнал.
— Это что лебедя освободить. Нет, ты дай свободу всему народу, — сказал он.
Индус молчал. Он думал, как далекий гуру (учитель) из Индии руководит его разумом здесь. И вдруг, повернувшись, сказал: — Ты увидишь мою родину, — и после повернулся и ушёл, залитый лучами солнца, в тёмно-зелёном халате.
А Истома размышлял, думая о его речах и думая о ползавшем на руке муравье, — кто этот муравей? воин? полководец? великий учитель своего народа? мудрец?
А около тихо плескалась Волга-невеста.
На другой день ловцы, справив рыбацкую сбрую и распрощавшись с милым старообрядцем, двинулись в обратный путь.
Дорогой они встречали расположенные в виде узких полозьев челны, на которых высился громадный воз хвороста; видели бударку, в которую, как первобытный парус, была воткнута густая зеленая береза. И ветер вез лодку с её зелёным парусом. Бабы-птицы поодаль тянули свою тоню, и в их огромных клювах-мешках бились ещё живые рыбы. Видели охотника, надевшего тыкву на голову и хватавшего за ноги живых уток.
Когда стемнело, вышли на берег вечерять и разложили костры.
Долго за полночь шла беседа про страшную “чуму сетей”, когда вдруг на огромном расстоянии в одни сутки гибнут все сети, захворавшие болезнью сетей, особой водорослью; про страшные сны, когда не человек жарит осетров, а осётр раскладывает костер и жарит пойманного человека. Небо Лебедии сияло своими зеленоватыми звёздами; Волга, журча, вливалась в море тысячью мелких ручьёв. Черни были охвачены тишиной и сном. Просыпаясь утром, Истома с удивлением заметил странные кусты около лодки.
Вдруг кусты зашевелились, и голые, покрытые маслом, люди, сбрасывая с себя ветки, бросились к ним. „Есир” — невольник и раб, — пронёсся в воздухе несколько раз воинственный крик. В то же время лодка была занята другими; они, быстро работая вёслами, отплыли от берега. Истома был оглушён сильным ударом кулака. Он помнил над собой лицо, лишённое, как ему показалось, носа, плоское, как доска.
Когда Истома очнулся, он был связан по рукам и ногам и окружён вооружёнными степными всадниками, составившими совет.
Среди горок камней, золы и человеческих костей был расположен степной аул. Древние зелёные изразцы лежали среди песка и пепла сожжённых на костре человеческих костей. Редкие травы трепетали широкими кистями, да одинокий жаворонок резвой рысью бежал по песчаным волнам пустыни.
Вот он остановился и сел на синем обломке кувшина. Здесь была Золотая Орда, и лишь обломки башни тёмно-синего полива да старинный камень с татарскими письменами напоминали об этом.
Да змея бесшумно скользила около надписи: „Нет бога кроме бога”, а черноволосая девушка этих мест ходила с медной деньгой, вплетённой в косу. И надпись древнего хана: „Я был — моё имя высоко” — тонула в чёрном шелку её кос.
Вот она зажгла костёр и села на землю, раздумывая про Сюмер-Улу, срединную гору мира, где сходятся души мёртвых предков пить молоко кобылиц.
Старый калмык пил бозо — чёрную водку калмыков.
Вот он совершил возлияние богу степей и пролил жертвенную воду в священную чашу.
— Пусть меня милует Чингиз-богдо-хан, — важно проговорил он, опустив голову.
Великий Чингиз казался ему беспечным богом войны, надевшим как-то раз на плечи одеяние человеческой судьбы. Любимец степной песни, он и до сих пор живёт в степи, и слова славы ему сливаются со степным ветром.
Первую чашку он плеснул в огонь, вторую в небо, третью на порог. И бог пламени Окын-Тенгри принял жертву. Тысяча рук окружала его. Окружённый заревом, он выскочил из пламени, и с невыносимым для смертного уха звуком залязгали, застучали и запрыгали одна о другую его красные челюсти, а белые мёртвые глаза страшно уставились на смертного. Зарево тысячи рук окружило его. Словно чёрным парусом белое море, свирепые зрачки косо пересекали глаза. Страшные белые глаза подымались к бровям головой мёртвого, повешенной за косу. Удар ветра, и он исчез, и вновь из костра выступил чёрный котёл, сменив багрового духа.
Коку, его дочь, подошла к нему.
Её косы, завёрнутые в шёлковые чехлы, падали ей на грудь.
Вот она повернула голову, и вся миловидность Китая сказалась на тёмном лице; сквозь чёрный загар выступала степная алая кровь, живые глаза сверкали, как два чёрных месяца, умом и радостью. Малиновая, шитая золотом шапочка была у неё на голове.
Она помнила, что девушка должна быть чистой как рыбья чешуя, и тихой как степной дым, и бесшумно села на землю в своих чёрных шароварах.
И снова лицо её, как пламенеющий уголь, склонилось над землёй.
А калмык грезил.
Он мысленно садится на коня, на аршин быстрее мысли, и скачет в великой охоте Чингиза; в ней участвовали все покорённые Чингизом народы, и почти вся средняя Азия была охвачена кольцом великой облавы. Здесь несётся ветроногий табун диких коней, там падает вилорогий первобытный бык, а здесь тетива лука вышиной с человеческий рост посылает стрелу в курчавого красного телёнка. Полунагие наездницы с дикими криками проносятся по степи, и там и здесь звенят тетивы.
Старый калмык выпил ещё чашку бозо, когда всадник с орлом на руке подъехал к нему. Он сообщил про приближающегося киргиза с невольником, и они вдвоем выехали к нему навстречу. Кони бодро переехали небольшую речку.
Утренние голые люди, обмазанные для борьбы жиром тюленя, были теперь одеты и громко обсуждали что-то. На Истому надели мешок для муки, сделав дыры для рук и головы и, посадив его на седло и связав ноги, все поскакали в кочевье.
Там к нему подошёл старик и коротко сказал: „Моя Есир”. Истома знал всё страшное значение этого слова. Вихорь и огонь удара плети перевели слово.
Вечером они двинулись в путь.
Киргиз нараспев пел Кудашку-Билик. Истома бежал за Ахметом. В белой войлочной шляпе, в разноцветном халате Ахмет покачивался на седле и помахивал плетью, забыв, казалось, про пленника.
Степной паук3![]()
От частых, похожих на песню беса ударов хвоста глаза почти ослепли и ничего не видели. Полотно рубашки лопнуло и разорвалось, спустившись на связанные руки и шею. Слепни и оводы, густо усевшись на теле, зелёной сеткой своих жадных зелёных глаз покрывали плечи. Другие тучей вились около. Тело распухло от укусов, жары и зноя. Ноги были в запекшейся крови. От штанов осталась рваная полоса.
Когда они доехали до орды, стая черномазых детей окружила его, но киргиз поднял плеть. Что-то вроде жалости показалось на медном лице. Покачал головой и ослабил верёвки; дал молока и первый раз сказал: „ашай”. Добрая старуха протянула ему черпак воды, и он выпил, как дар неба. Здесь Ахмет за 13 рублей продал своего невольника. Новый купец был много добрее. С этого времени жить стало лучше. Его повели купаться. Дали кумачёвую рубашку. „Якши Русь”, — сказал Ахмет, любуясь им. Три дня он отдыхал в духане.
Старик горец беседовал с ним и делил с ним свой кусок сыру, лечил его ноги.
Когда он сидел на земле в своей широкой бурке, а стриженый череп подымался над буркой, как горный ястреб, Истоме делалось легче. Ему казалось, что рядом такой же невольник, как и он.
Скоро их догнал большой караван рабов, где были грузины, шведы, татары, русские, один англичанин. Тогда из русских невольников набиралась личная охрана отборных полков и китайского богдыхана, и турецкого султана, и великого могола в Индии. Скоро караван снова двинулся, и верблюды забряцали бубенчиками.
Дорога шла голой песчаной степью, где только жаворонки и ящерицы бегали среди кустов, да изредка подымался огненноокий, издали похожий на волка, степной филин и с трудом уносил схваченного могучей лапой зайчонка. Истома шагал за своим верблюдом по белым солончакам и бесконечному песку. В одном караване с ним была только Ядвига. У неё были длинные золотистые волосы, а в голубых глазах вечно смеялась и дразнила русалка — ресниц голубая русалка.
Для неё между горбами верблюда, похожими на песчаные холмы, покрытые кустами ковыля, был сделан особый шатёр. С ног до головы она была одета в белое покрывало.
— Як на море! совсем як на море! — восклицала она иногда и высовывала из шатра ручку.
Иногда она расспрашивала про Пашу: „Вин какой? чи он седой? чи он грозный?”
И задумывалась.
И, когда венок обвил её голову, она вдруг сделалась хорошенькой русалкой, зачем-то сидевшей на верблюде.
Синеглазая, златоволосая, закутанная в складки полупрозрачного полотна.
Думает ли она о празднике Ярилы? или о празднике Весенней Ляли? Но вот большая бабочка, увлекаемая ветром, ударилась ей о щеку, и ей кажется, что это она стучится в окошко родимого дома, бьётся о морщинистое лицо матери. „Вот такой же бабочкой прилечу и я”, — шепчет она.
Между тем показались горы, и у их подножия остановились на ночь.
Отсюда они двинулись на буйволах. Эти могучие быки с вытянутыми вдоль затылка широкими рогами, с чёрно-синими глазами, где вечно светится пламя вражды к людям.
Если на гладкой, лишённой волоса коже там и здесь торчали редкие волоски, то лишь для того, чтобы плотнее пристала к телу рубашка степной чёрной грязи; с нею буйволы не расставались, спасаясь от своих мучителей — тучи оводов. Первая глиняная рубашка — её буйволы стали носить раньше человека. Более всего они любили воду и, раз увидев её, бросались в неё так, что были видны лишь ноздри и глаза. Так они были способны проводить целые сутки.
На чёрном хребте одного из них в белой рубашке персиянки и в шароварах сидела Ядвига и уж беспечно плела венки и гадала, отрывая лепестки: чи любит, чи нет. Дорога шла горами. Как глаз бога, иногда сверкал над пустынными хребтами снежный утёс, а иногда с высот виден был синий шар моря, какой-то небесный в своей синеве, и на нём косо скользил одинокий парус.
Мансур обращался ласково, много шутил и часто подходил поправить покрывало. „Аллах велик, — говорил он Истоме, — хочет — я тебя купил, и я твой господин, а захочет — и я тебе целуй целуй руку”.
В Испагани караван разделился, и больше Истома не видел Ядвиги.
С большими остановками, почти через год, Истома попал в Индию.
Его проводник Кунби был сикхом, и нужно ли удивляться, что однажды Истома обратился к учителю и сказал: „Я тоже сикх”.
Кунби радостно встретил новообращённого. Нужно ли удивляться, что однажды Истома и Кунби вместе бежали?
Кунби научил его спокойно выжидать в чаще тростника, когда мимо мчался, топча рощу, посланный вдогонку слон, спать на широких ветках деревьев, где только что пробежала, кривляясь, обезьяна. И скоро, как два заклинателя змей, они начали скитальческую жизнь, сонная гремучая змея спала у них в выдолбленной тыкве, в соломенной корзине; белые ручные мыши, наученные прятаться, жили в грецком орехе.
Он научился понимать сложенный из сосновых игол муравейник, когда увидел жилые горы храмов и медные кумиры будды, много раз больше размеров человека. Раз он увидел в пещере, в лесу, нагого отшельника; борода падала к его ногам. Уже несколько лет старик держал в руках сухой хлеб, и теперь насквозь хлеба прошли длинные извилистые ногти. Старик не менял своего положения, руки его не умели двигаться, и ногти прорастали предметы, как корни растения, белые и кривые. Был страшен его вид. Не весь ли народ индусов перед ним? — думал Истома. И теневые боги трепетали около него тёмными крыльями ночных бабочек. Мудрец мечтает уйти из области людей и всюду вытравить свой след, чтобы ни люди, ни боги не сумели его найти.
Исчезнуть, исчезнуть. Подобно своим учителям, он должен победить в себе гордое желание стать богом. И если кто-нибудь изумлённый назовёт его богом, мудрец сурово воскликнет: клевета!
Беги обрядов, ведь ты не четвероног, у тебя нет копыт. Будь сам, самим собой, через самого себя, углубляйся в самого себя, озаряемый умным светом.
На высоте, куда посмеет взлететь не каждый стриж, видел воздушные храмы, висевшие ласточкой над грозной пропастью. Синее море билось у подножия пропасти. Как глаз увенчивает собой тело, так же спокойно этот труд человека заканчивал дело природы, просто и строго подымаясь на недоступном утёсе.
Видел храмы, множеством подземных пещер, вырубленных в глубине первобытной каменной породы. Сумрак вечно царил там; местами однозвучно звенели ручьи. Пышно одетые кумиры, вытесанные из камня, толпою теснились вдоль стен и спокойной, равной ко всему, улыбкою встречали путника по подземному храму, покрытые ручьями влаги.
Видел тёмные толпы слонов, вырубленных из каменной породы, поднявших свои бивни, провожая богомольца по бесконечной лестнице, ведущей на вершину отвесного утёса.
Там и здесь на выступах зданий сидели белоснежные павлины, любимые людьми, но нелюдимые. Насельники запустевших храмов — стая диких обезьян — встречала их недовольным лаем тысячи оттенков и градом брошенных орехов.
Хоботы каменных слонов тянулись вдоль дороги.
Храмы, стыдливо прячущиеся за кружевом своих стен, и храмы, несущие свою веру на вершину недоступного горного утёса, чуть ли не за облака, храмы, похожие в своём стремлении кверху на стройную женщину гор, несущую на плече кувшин воды, и храмы, стены которых сделаны синевой реки и белизной облаков, строгие лестницы вглубь неба и вглубь подземного мира, все они напоминали, что... 4![]()
Пространство между ними было давно уже заткано паутиной паука. Мыши безбоязненно пробегали по их ногам, а птицы садились на седую взлохмаченную голову. Послушники кормили старцев.
И рядом поклонники мрачной богини Кали. Шёлковой петлёй в беззвучной глубине чёрных рощ, около толстых и гладких стволов, они ловили своих жертв и неслышным поворотом рычага ломали позвонки шеи в честь таинственной богини Смерти.
И рядом веры, не знающие храмов, потому что лучшая книга — белые страницы — книга природы, среди облаков, а путь рождения — смерть, лучшая молитва.
Видел у ворот храма святого; он с отвращением, точно горькое лекарство, пил воду из кружки для милостыни, одетый в одежды, снятые с чумного покойника, c трупов. Он говорил: „Нужно плакать, когда мы рождаемся, и смеяться, когда мы умираем”. Он снова закутался в свой плащ, снятый с усопших. Около храмов видел бесноватых; с неслыханной силой они разрывали на себе верёвки и пытались убежать в лес.
Каждое утро на заре Истома видел молящегося брамина: он стоял на одной ноге, приставив другую к лодыжке, и, повернутый на восток, широко открытыми руками, казалось, обнимал небо. Его чёрное тело застыло; руки расходились, точно ветки стройного дерева. Он шептал, беззвучно шевеля губами:
„Тат Савитар варениам бхарго дхимахи дхио ио нах пракодайтат девазна”.
„Станем думать о солнечном боге, он взошёл осветить наши разумы”.
В то же время крик проснувшегося павлина покрыл пожаром тихую молитву, и зелёно-синие звёзды на перьях птицы походили на тёмно-синие глаза неба сквозь древесную листву.
Зелёные сады над развалинами старых храмов, ветки и корни деревьев, впившиеся в белый камень лестницы, походили на учение браминов: всё суета, всё обман. Не так ли хорошенькую рассеянную головку пишет рука на старой книге в тяжёлом переплёте?
И то, что ты можешь увидать глазом, и то, что ты можешь услышать своим ухом, всё это мировой призрак, Майя, а мировую истину не дано ни увидеть смертными глазами, ни услышать смертным слухом.
Она мировая душа — Брахма.
Она плотно закрыла своё лицо покрывалом мечты, серебристой тканью обмана. И лишь покрывало Истины, а не её самое дано видеть бедному разуму людей. Исканием истины казалась эта страна Истоме, исканием и отчаянием, когда из души индуса вырвался стон: всё — Майя! Он хорошо помнил, как он шёл в зелёной роще, и вдруг шум крыл нарушил тишину, и на белый столб покрытого зеленью храма взлетел павлин, и ветер белоснежных перьев, поток малых и больших глаз, небом звёзд покрывавших серебряное тело, круто падая вниз вьюгою седых морозных звёзд, холодных глаз, казались ему собранием глаз великих и малых богов эти страны.
Пять лет провёл Истома в Индии. Он был на Яве и видел славные храмы и улыбающегося Будду из меди, во столько раз большего человека, во сколько человек больше муравья, и тёмные громады каменных слонов под водопадом. Когда его сильно потянуло на родину, он вернулся вместе с одним караваном, посетил свой остров, но ничего не нашёл, кроме сломанного весла, которым когда-то правил.
Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше.
Куда? — он сам не знал.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||