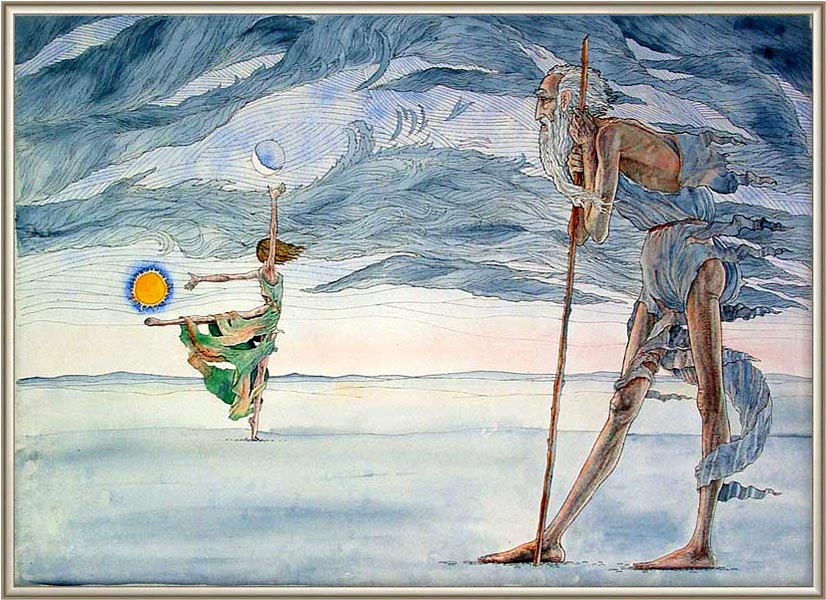
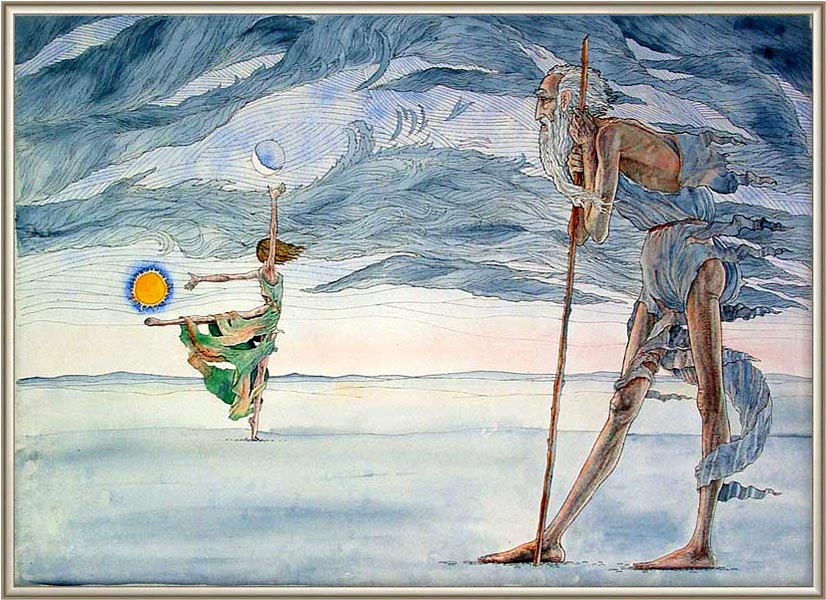
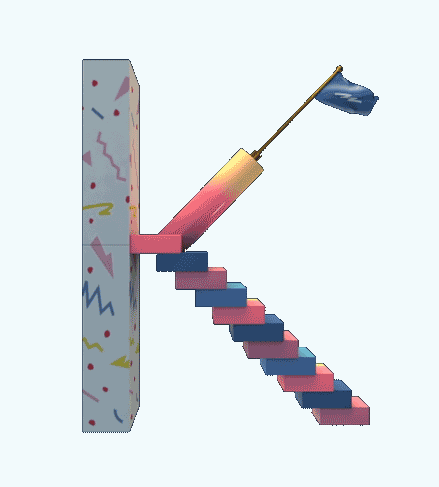 алендарь представляет собой межъязыковой жанр, соединяющий, как минимум, два языка: язык чисел (математический или числовой язык), и словесный (естественный) язык. Это значит, что здесь, с одной стороны, активизируется идея числа, счёта и табличного изображения временны́х отрезков (сегментов). Исходя из этого, календарь и определяют как систему счёта (счисления) больших промежутков времени (дней, недель, месяцев, годов), основанную на периодичности видимых движений небесных тел. Но идея календаря предполагает и другой, может быть, ещё более глубокий слой, который точнее всего было бы назвать событийным. Понятие события и событийности существенно дополняет и даже переосмысливает понятия числа и счёта. Дело в том, что через понятие события абстрактная числовая схема временны́х ритмов наполняется содержанием (смыслом), она “очеловечивается”. Более того, временно́е и логическое начало календарной системы всегда связано с каким-то очень важным событием человеческой и космической истории — сотворением мира (еврейский календарь), первой олимпиадой (греческий календарь), обоснованием Рима (римский календарь), рождением Христа (христианский календарь), бегством Мухаммеда из Мекки в Медину (мусульманский календарь) и т.д. Здесь выявляется парадоксально-антиномическая природа идеи календаря: уникальность событий человеческой истории, выраженных в словесном (естественном) языке, тесно сопрягается с циклично-периодическим характером астрономических явлений, лучше всего выражаемых на языке математики (чисел).
алендарь представляет собой межъязыковой жанр, соединяющий, как минимум, два языка: язык чисел (математический или числовой язык), и словесный (естественный) язык. Это значит, что здесь, с одной стороны, активизируется идея числа, счёта и табличного изображения временны́х отрезков (сегментов). Исходя из этого, календарь и определяют как систему счёта (счисления) больших промежутков времени (дней, недель, месяцев, годов), основанную на периодичности видимых движений небесных тел. Но идея календаря предполагает и другой, может быть, ещё более глубокий слой, который точнее всего было бы назвать событийным. Понятие события и событийности существенно дополняет и даже переосмысливает понятия числа и счёта. Дело в том, что через понятие события абстрактная числовая схема временны́х ритмов наполняется содержанием (смыслом), она “очеловечивается”. Более того, временно́е и логическое начало календарной системы всегда связано с каким-то очень важным событием человеческой и космической истории — сотворением мира (еврейский календарь), первой олимпиадой (греческий календарь), обоснованием Рима (римский календарь), рождением Христа (христианский календарь), бегством Мухаммеда из Мекки в Медину (мусульманский календарь) и т.д. Здесь выявляется парадоксально-антиномическая природа идеи календаря: уникальность событий человеческой истории, выраженных в словесном (естественном) языке, тесно сопрягается с циклично-периодическим характером астрономических явлений, лучше всего выражаемых на языке математики (чисел).Когда речь идет о календаре, оппозиция число — событие связана с рядом других оппозиций: циклическое время (круг, колесо, кольцо) — линейное время (прямая линия, “стрела времени”, представление о времени как о реке), обыденное время (будни) — сакральное время (праздники), математическое (абсолютное, истинное) время — эмпирическое (относительное, обыденное) время у Ньютона, и т.п. (ср. статьи Юрия Степанова «Письмо, алфавит», «Число, счёт», «Время», «Мир» и др., в: Степанов 2001). Таким образом, календарь в глубинных своих слоях обладает двойственным характером — в нём сочетается повторность и неповторимость, отвлеченное и конкретное, небесное и земное.
Тем не менее, древнейшие материальные “артефакты”, свидетельствующие о попытках человечества справиться с проблемой временно́й и пространственной ориентации, как будто говорят о своего рода прото-календаре, поскольку такие “артефакты” имеют пространственно-живописно-архитектурный характер, т.е. до-словесный и до-числовой: напр., Вучедолский Орион (см. Durman 2001), Стоунхендж, Фестский диск (см. Aveni 2002).1![]()
Самый глубинный смысл календаря — это не просто попытка человека ориентироваться во времени, но, скорее, человеческая потребность осмыслить время, упорядочить и обжить его, т.е. заполнить его изначальную пустоту (“бездонность”, “бесформенность”, “хаос”)2![]()
Если единицы времени разделить на маленькие (час, минута, секунда и т.д.), средние (время дня, день, неделя, месяц, время года, год) и большие (десятилетие, столетие, тысячелетие, эра и др.), то нетрудно убедиться в том, что календарное время учитывает именно средние временны́е величины. Эти же единицы, по-видимому, следует считать древнейшими: большие единицы моложе (о понятии “эра” в библейском контексте см. Léon-Dufour 1980: 1462), а маленькие — самые молодые. Дело в том, что “день”, “неделя”, “месяц” или “год” с древнейших времен были тесно связаны как с периодическим движением Земли, Луны, Солнца и созвездий, так и с соответствующими циклами аграрной культуры человека, и с биологическими ритмами совокупного животного и растительного мира на нашей планете (см. Štajnberger i Čizmić 1983).
Циклическая природа единиц календарного времени наглядно связывает время с пространством и движением. Представление о “круге” или “колесе” времени указывает на тенденцию (одновременно и естественную, и неизбежную) к опространствованию (спациализации) времени. Тем не менее, следует думать, что и в “чистом” или абстрактном времени (если оно вообще существует в каком-нибудь “чистом” виде) есть тенденция к свёртыванию или замыканию. Речь идёт о внутренней дифференциации времени, которая, в конечном счёте, должна вести к понятию “кванта времени”.
Переходной формой в процессе такой дифференциации является ритм, посредством которого время сплавляется с событием. То есть, получается следующая схема: время → временны́е кванты → ритмы→ события.3![]()
Таким образом, здесь опять наталкиваемся на первоначальное наше положение о том, что время обладает двумя аспектами — абстрактно-числовым и конкретно-событийным (словесным). Первый аспект связан с научным мышлением (исторически он восходит к изобретению механических часов и к ньютоновским воззрениям на пространство и время; здесь говорят об эфемеридном времени, которое течёт равномерно и не зависит от реального вращения небесных тел), а второй — с мифологическими, религиозными и художественными представлениями. Первый аспект уводит нас в (потенциальную) бесконечность равных между собой временны́х отрезков, а второй обещает “исполненное время”.
Иногда говорят о том, что структура маленьких единиц календарного времени (напр., дня) является моделью большой единицы (года) (ср. Aveni 2002: 77, 284). И действительно, ночь сопоставима с зимой, утро — с весной, полдень — с летом, а вечер — с осенью. В определенном смысле четырем упомянутым фазам дневного и годичного цикла соответствуют и фазы месяца — первая четверть, полнолуние, третья четверть и новолуние. Можно ли, следуя такой логике, говорить об особом виде временно́й фрактальности?
В связи с обсуждением циклической природы календарных единиц особо интересным кажется вопрос об определении (утверждении) их начальных точек.
Во-первых, тут намечается любопытный парадокс: любое начало может быть утверждено как начало только потом (впоследствии), т.е., как правило, в конце некоторого процесса, потому что только последующее развитие может утвердить некоторый предшествующий момент в роли начала. Здесь активизируются факторы возвращения, памяти и узнавания, без которых, судя по всему, не может возникнуть опыт и понятие времени.4![]()
Во-вторых, начало определённого временно́го промежутка, как повторяющегося цикла (причём каждый цикл состоит из нескольких фаз), может быть локализовано в любой точке или в любой фазе цикла (но не вне его). Поэтому неудивительно, что в разных календарных системах имеются разные определения начала дня, недели, месяца, времени года и самих годов. Так, например, день у евреев начинается вечером, а кончается утром (ср. уже знакомую цитату из Библии: „И был вечер, и было утро: день один”), в католическом календаре неделя начинается с воскресенья, начало года по индийскому календарю падает на день весеннего равноденствия и т.д., и т.п. Переводы одних систем летосчисления в другие относительно легко осуществляются на основе элементарных математических операций (сложения и вычитания), благодаря тому, что системы строятся на сходных или тождественных принципах, т.е. на периодичном движении небесных тел.
В то время как начало циклических календарных единиц определяется практически произвольно (хотя система в целом должна быть согласованной, т.е. непроизвольной) на основе периодически повторяющихся астрономических явлений, утверждение начала эры является историческим (или мнимоисторическим) и уникальным событием (сотворение мира, первая олимпиада, рождение Христа и др.). Таким образом, и пример утверждения начальных моментов в календаре показывает, что в нём сочетаются два разнокачественных мира — астрономический и человеческий (общественный), математический и исторический, циклический и линейный, числовой и событийный.
Самые древние религиозно-мифологические и литературные тексты, которые повествовательно изображают процесс превращения (первоначального) Хаоса в (последующий) Космос, обсуждают, как правило, и проблему возникновения и упорядочения времени. При этом данное упорядочение возникает на фоне без-временности или до-временности (пустоты, бесформенности, бездны). С другой стороны, учреждение времени получает вполне институциональную форму, которая удостоверяется авторитетом и действием Бога или богов.
И здесь встречаются две возможности при использовании календаря как принципа построения текста-мира. С одной стороны, сам календарь выступает как эксплицитная тема повествования; в таком случае преобладает презентация числовых отношений между временны́ми промежутками — годами, временами года, месяцами, неделями, сутками и временами дня (утро, полдень, вечер, ночь). С другой стороны, календарь может проявлять себя имплицитно, т.е. через временно́е расположение определенных событий.
Первый случай встречается в старовавилонском космогоническом и теогоническом эпосе Энума элиш, а также в Трудах и днях Гесиода. Второй случай характерен особенно для начальных глав Библии, но также и для Библии в целом.
3.1. Энума элиш
В старовавилонском космогоническом и теогоническом эпосе Энума элиш (Когда вверху), написанном на семи таблицах (т.е. в семи песнях) на аккадском языке в 16–12-ом веке до н.э., уже в 13-ом стихе первой таблицы упоминается о том, что представители старшего поколения богов — Аншар и Кишар — „продлили дни и прибавили годы”. Но потом гораздо подробнее поётся о том, что именно младшее поколение богов, во главе с Мардуком, после победы над старшими богами создало годы, расчлененные на 12 месяцев, день и ночь, семидневную неделю, месяц, состоящий из 30 дней, а также „две седмицы”, разделяющие месяц на две половины (Enūma Eliš 1976: 7, 15 — таблица 5-я, стихи 3–45; ср. и Aveni 2002: 52–55). По замыслу Мардука боги потом из крови убитого чудовища (Кингу) сделали человечество, чтобы оно (человечество) работало вместо богов и чтобы им (богам) дало возможность отдыхать. Случайно ли совпадает факт, что библейский Бог создал человека на 6-й день, и что в эпосе Энума элиш создание людей происходит на 6-й таблице, т.е. в 6-й песне? Интересным кажется и то, что создание и работа людей связывается с отдыхом богов. В Библии, как известно, Бог после сотворения мира и создания человека — отдыхает (на 7-ой день).
В эпосе Энума элиш несколько раз упоминается „таблица судьбы”. Старшая богиня Тиамат дарит её и вешает на грудь чудовищу Кингу — своему второму мужу, которого она сама создала. Таблица судьбы определяет движение мира и мировых событий, обеспечивая своему обладателю мировое господство (см. Афанасьев 1982: 110). Её как раз отвоевывает потом Мардук у Тиамат и Кингу, побеждая их в борьбе. Эту таблицу судьбы подхватит от вавилонских чудовищ и богов, более 30 веков спустя, председатель земного шара | будетлянин и изобретатель законов времени Велимир Хлебников в своих Досках судьбы.
3.2. Гесиод: Работы и дни
Поэма Гесиода Работы и дни (конец 8-го века до н.э.) подходит к проблематике календаря с точки зрения сельскохозяйственной прагматики. Поэт подробно описывает времена года, месяцы, дни и даже части дня, исходя из того, какие работы и занятия лучше делать в определенное время (вспашка, посев, уборка урожая, уборка винограда и др.). Ориентиром в определении временны́х периодов служат созвездия (Орион, Плеяды и пр.), Солнце и Луна. Прагматическая функция календаря лучше всего видна в том, что он может (или должен) помочь при распределении корма в течение всего года (ср. стихи 557–563; Hesiod 2005: 53). В книге Энтони Авени Империи времени (переведённой и на русский язык) даются таблицы годового и месячного календаря Работ и дней — с подробной информацией о небесных, природных и человеческих действиях в течение года (по месяцам) и в течение месяца (по дням) (см. Aveni 2002: 39, 44). Следует иметь в виду, что у Гесиода речь идет об устном календаре, которого первые записи до нас дошли только из 5-го века до н.э.
Хотя “исторические” воззрения Гесиода указывают на прямолинейное ухудшение человеческой жизни по отношению к прошлому (в начале было лучшее поколение — золотое, потом приходили всё менее и менее удачные поколения — серебряное, медное, поколение героев, и железное поколение), всё же можно утверждать, что концепция календаря здесь построена на идее циклического (повторяющегося) времени. Это вполне понятно, если иметь в виду аграрно-астрономическую основу данной концепции. То же циклическое понимание времени характерно и для эпоса Энума элиш.5![]()
3.3. Библия
Не то мы находим в Библии. Не входя в подробности, я здесь укажу лишь на главное. Если в вышеупомянутых текстах события („работы” и действия) втискивались в уже готовые темпоральные структуры (круги), условленные астрономическими явлениями, в Библии имеется обратный случай: там время является только плёнкой событий, т.е. их последствием. Интересно то, что в библейском описании сотворения мира нет специального указывания на то, что Бог создал время. Наоборот, Он создает свет, твердь, сушу, растения, животных, светлила и т.д., а каждая фаза Его действий заключается фразами: „И был вечер, и было утро: день один, день второй, день третий ‹...›, день шестой”. (Седьмой день, как день отдыха, является своего рода “сверх-днём”, охватывающим во временно́м отношении всё сотворенное.) Особо следует обратить внимание на выражение „и был вечер, и было утро”. Слова ‘был’ и ‘было’ констатируют, а не творят. Поэтому следует сделать вывод, что время в Библии не является отдельной сущностью, но, как невидимая и несубстанциальная плёнка, обрамляет то, что сделано — результат Божьей творящей активности.
Кроме того, в начальных отрывках книги Бытие следует, по-видимому, отличать два понятия дня. Один день, как мы только что видели, относится к идее времени как своеобразной формы или невидимой плёнки вещей, действий и событий. Другой тип и другое значение дня — это именно день как мера времени, связанная с периодическим движением небесных светил (так же, как и год) и противопоставленная ночи. Данный тип дня (как темпоральной единицы) был создан Богом в четвёртый день: „И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; ‹...› И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для управления ночью, и звёзды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвёртый” (Бытие 1, 14; курсив мой — Й.У.).
Событийно-исторический и линейно-эволюционистский характер библейско-христианского, иудаистского и вообще семитского способа мышления, который отличается от циклического типа временны́х представлений у древних греков, римлян и индоевропейцев,6![]()
Есть так называемая календарная поэзия, которая, несомненно, тесно связана с “календарным семантическим полем” пословиц. Не входя в разговор о долговечной традиции календарного жанра как такового, нетрудно убедиться, что есть литературные жанры, в которых календарное начало выступает как ведущее начало композиционного построения текста (летописи, хроники, дневники, романы в письмах, мемуары, биографии, автобиографии, путевые записки). Нет сомнения в том, что, все литературные жанры, так или иначе, соприкасаются с календарно-временно́й проблематикой и решают её различными способами. Следуя основной идее данного исследования, я и в этой части попытаюсь указать на два возможных отношения к календарной проблематике в русской поэзии 20 века. Один тип — понимание календарных отношений в форме чисел, а другой — в форме событий. При этом не следует терять из виду возможность других типов, проистекающих в первую очередь из смешения первых двух.
Календарный принцип, таким образом, создает временну́ю вертикаль, которая соединяет мировую литературу с первых её шагов до сегодняшних дней.
4.1. Хлебников
Как уже упомянуто, творчество Велимира Хлебникова можно считать попыткой осуществить идею „таблицы судьбы”, о которой говорится в аккадском космогоническом и теогоническом эпосе Энума элиш (Когда вверху). Сам Хлебников определил себя как художника числа, ищущего и открывшего законы времени (Свояси, 1919, в: Хлебников 1986: 36, 37). Он говорит об общем строе времени («Помимо закона тяготения...», 1921; Хлебников 1986: 133), о власти чисел земного шара (Скуфья скифа, 1916; 1986: 540–541), о создании геометрии чисел (Курган Святогора, 1908; 1986: 579) и математическом понимании истории (Наша основа, 1919; 1986: 629–632). Сущность его математических (или мнимоматематических) подсчётов сводится к выявлению периодичности в появлении и исчезновении определенных типов событий (исторических, космических) во времени. Например, число 317 — это время между двумя ударами струны человечества (причём все человечество понимается как струна), и это время указывает на регулярное появление законодательных реформ, на обоснование новых империй, возникновение войн, великое переселение народов и т.п.
Нахождение законов времени должно, по мысли Хлебникова, избавить человечество от гнёта судьбы, понятой как сверх-человеческая (божественная) сила:
Таким образом, время переводится на язык чисел, откровения и сновидения подаются в одеждах чисел (см. Всем! Всем! Всем!, 1920–1921; 1986: 635), даже слова суть слышимые числа нашего бытия (Курган Святогора, 1908; 1986: 579), только числа обеспечивают божественную мощь творения:
Числа не только дают возможность понять земные явления и вселенские процессы в их единстве, но существенно определяют характер и деятельность человеческого Я (включая сюда в первую очередь поэтический субъект):
Не вникая здесь в другие важные и интересные аспекты хлебниковского сведения проблемы времени к теории чисел (ср., напр., фундаментальное значение наименьших чётных и нечётных чисел, т.е. два и три, для определения истинной природы времени; Хлебников 1972: 473, 498 и др.; 2000: 11 и др.), я коротко остановлюсь на связи понятия доски судьбы и уже упоминаемых „таблиц судьбы”, восходящих к древневавилонскому времени.
Что касается понятия судьба, оно у Хлебникова связано со сферой времени и, может быть, смерти. Нахождение законов времени должно в конечном результате преодолеть неотвратимость “судьбы”: Открыв значение чёта и нечета во времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в которой испуганным зверьком дрожит древних рок (1972: 473; 2000: 11).
С другой стороны, нет сомнения, что Хлебников вполне осознавал связь своих и древневавилонских досок. В Досках судьбы он напоминает, что законы вавилонского царя Хаммураби (Хлебников помещает их в 2.250-ый год до н.э., хотя Хаммураби жил с 1729 по 1678 г. до н.э.) записаны на глиняных досках (Хлебников 1972: 499; 2000: 37). То есть, глиняные таблицы Хлебников понимал как доски. При этом доски у Хлебникова, судя по всему, не указывают только на материал, на котором записана “судьба”, но и на способ этой записи (т.е. сохраняется математических смысл слова “таблицы”). Дело в том, что „таблицы судьбы”, упоминаемые в эпосе Энума элиш, содержали, по всей вероятности, математическую (числовою) запись законов, управляющих вселенной.8![]()
4.2. Пастернак
Если Хлебников умственно витает над календарем (временем) и строит абстрактные числовые схемы, с помощью которых систематизирует и объясняет исторические и космические процессы и события, Пастернак весь помещается внутри календаря, напряжённо переживая все сегменты календарных циклов: времена дня (ночь, утро, полдень, вечер), отдельные даты, времена года (весну, лето, осень, зиму), месяцы (январь, февраль, март, апрель, май и т.д.), христианские и государственные праздники (Рождество, Пасха, Троица, Октябрьская годовщина). О лирике Пастернака можно сказать, что это — лирически воплощенный календарь, или календарно воплощенная лирика.
Числа у Пастернака не играют никакой поэтической роли. Правда, они встречаются там, где их меньше всего следовало бы ожидать — в заглавиях стихотворений, но и там их роль — не числовая, а, как мы увидим потом, сверх-числовая.9![]()
Пастернаковское время, во всех своих календарных ипостасях, нагружено чрезмерно интенсивными эмоциями, красками, запахами, цветами, и именно в таком заполнении проявляется смысл календарно-временны́х промежутков. Самое ранее стихотворение Пастернака, входящее во все более или менее полные или репрезентативные издания его стихотворений, начинается следующей строфой:
Границы календарно-временны́х сегментов (напр., дня и ночи) теряют у Пастернака свою абсолютность: ливень может превратить полдень в ночь (Дождь; 1985: 78), а „лунный жар” или молнии грозы превращают ночь в день (Mein Liebchen, was willst du noch mehr?; 1985: 93). Такие тенденции кульминируют в отождествлении мига и вечности (ср. Гроза, моментальная навек; 1985: 109; или: „Мгновенье длился этот миг, / Но он и вечность бы затмил” — «В степи охладевал закат...»; 1985: 127), с чем, судя по всему, связано относительно частое употребление дат в заглавиях: Кремль в буран 1918 года, 1918–1919 (1985 а: 130); Январь 1919 года, 1918–1919 (1985: 131); 9-ое января, 1925 (1985 а: 183); 1 мая, 1923 (1985 б: 400); 1917–1942, 6 ноября 1942 (1985 б: 415). К данной группе стихотворений можно отнести и те, у которых в заглавии упоминается праздник или годовщина (напр., Рождественская звезда, 1947 (1985 а: 410), К Октябрьской годовщине, 1927; 1985 а: 186). Заглавие в таких случаях следует, по-видимому, трактовать как “миг”, а само стихотворение — как “вечность”.
Потеря чувства чётких временны́х границ является логичным последствием тенденции к интериоризации времени. Хотя во внутреннем (духовном, душевном) мире чувство времени вообще-то сохраняется, оно без учёта поведения объектов внешнего мира, напр., движения небесных светил или колебания атомов, быстро теряет способность соизмерять (метрически уравнивать) временны́е сегменты.
Из всего сказанного видно, что Пастернак — полная противоположность отвлечённому (математическому) календаризму Хлебникова.
4.2.1. Сестра моя — жизнь
Воплощение календаря как композиционного принципа в поэзии можно, как мне представляется, увидеть в главной стихотворной книге Пастернака — Сестре моей — жизни.
Уже подзаголовок данной книги — Лето 1917 года — подчеркивает два важнейших временны́х момента: год и лето. При этом год выражает полноту времени и мира (ср.: „Казалось альфой и омегой — / Мы с жизнью на один покрой; / И круглый год, в снегу, без снега, / Она жила, как alter ego, / И я назвал её сестрой” — «Все наклоненья и залоги...», 1936; 1985 б: 410–411), а лето — вершину (апогей, кульминацию) времени и мира. (Такой подзаголовок лишает поэта потребности в датировке отдельных стихотворений. Этим Сестра моя — жизнь отличается от всех других поэтических сборников Пастернака, добавочно подчёркивая идею стихотворной книги, а не просто сборника или собрания стихов.)
В композиционно-фабульном отношении книга обладает строго временно́й структурой: она расчленяется на периоды до Этого — Это — после Этого. Календарная основа такой лирической фабулы выражена в выделении времён года как одного из принципов построения книги. Год начался зимой, на что указывает заглавие стихотворения, открывающего цикл Книга степи: До всего этого была зима (1985: 79). Потом следовала весна, которая прямо или косвенно упоминается в ряде стихотворений (в заглавиях стихотворений, посредством названий месяцев или упоминания „знаков весны”). Но и зима и весна представляют собой только преддверие лета. Уже в эти ранние времена года назревает драма, которая произойдет в конце лета и в начале осени:
Конечно, центральную позицию во всех отношениях — временно́м, квантитативном, семантическом, эмоциональном, композиционном — занимает лето. Оно, как в фокусе, собирает и на высший уровень интенсивности поднимает все основные темы Сестры моей — жизни: любовь, природу, революцию, творчество. Эмоционально-событийный характер лета проявляет себя в красоте лирического Ты, к которому безудержно стремится лирическое Я (Из суеверья, Не трогать, «Ты так играла эту роль!..», Заместительниц и др.), в грозах, дождях и в полуночных звёздах необъятной степи (Звёзды летом, Наша гроза, Степь...), в „занятьях философией” и напряженных размышлениях о природе творчества (Определение поэзии, Определение творчества), в социальных потрясениях (Образец, Лето).
Как уже сказано, конец лета и начало осени ведут к концу года, т.е. к концу развертывающейся любовной драмы, и, конечно, к концу книги. Речь идет о разлуке и возвращении домой.10![]()
В этом ключе нужно читать и Душную ночь и Ещё более душный рассвет. Потом следуют: Мучкап и Мухи мучкапской чайной,11![]()
В конце книги нарастает чувство усталости, катастрофы и смерти. Встречаются слова типа ‘астма’ (115) ‘тифозный’ (110), ‘хаос’ (110) и даже ‘апокалипсис’ (102). Это один из парадоксов “брата жизни” — Бориса Пастернака. Но этим парадоксом поэт подтверждает древнюю истину, что круг жизни, соответствующий природному кругу года, завершается сном и смертью.
4.3. Поэтическая полемика с реформой календаря: Хармс и Заболоцкий
Когда речь о календаре, параллель Хлебников — Пастернак имеет, как кажется, свою приблизительную аналогию в параллели Хармс — Заболоцкий.
4.3.1. Хармс
В ноябре 1929 года Хармс написал стихотворение I Разрушение, явившееся реакцией на реформу календаря, которая краткосрочно была осуществлена в СССР с октября 1930 г. по июнь 1931 г. Реформа состояла в том, что СССР перешёл на пятидневную неделю, состоящую из четырех рабочих дней и одного выходного. Летосчисление велось не с рождения Христа, а с 1917 года. Новый год должен был начинаться 7-ым ноября (см. Faryno 1991: 512).
В своем стихотворении, которое состоит из 33-х стихов и добавки всё в конце, Хармс сначала определяет сущность семидневной недели и, должно быть, недели как таковой:
Семидневная неделя оказывается слишком долгой — нужно трудиться с понедельника до субботы (очевидно, речь идет о еврейской неделе); поэтому, сокращая неделю, увеличим свой покой: каждые четыре дня будет „день свободных шуток”. Новая неделя — „сундучёк в четыре дня” — разумна, „как ладонь из пяти пальцев”, т.е. мы „строим времени счёт по закону наших тел”. Здесь видно, что „наша неделя”, как построенная на логике тела, противоположна семидневной неделе, которая представляла собой сокращенный „путь духа”. Разрушение состоит в том, что семидневная “неделимая” неделя „стала нами делима”, но и новая пятидневная неделя — „великана дуля”. Стихотворение заканчивается строками:
Несмотря на возможность глубинного истолкования „знака семи” как седмицы, ‘недели’ как сочетания ‘доли’ и ‘деля’ и как модели мироздания, ‘дули’ как символа земной юдоли и земных страстей, ‘великана’ как Творца и т.д. (ср. Faryno 1991: 513), нетрудно видеть, что в данном случае Хармс ограничивается декларативно-ироничным противопоставлением традиционной еврейско-христианской семидневной недели и атеистической революционной пятидневной недели. При этом довольно ясно выражена его оценка той и другой календарной системы. Ещё раз надо отметить, что поэтические размышления Хармса о календаре основываются на числовом принципе: 7 дней — 5 дней.
4.3.2. Заболоцкий
Исходя из хармсовского стихотворения I Разрушение (в котором римское число I в заглавии означает “первое”, и отсылает к концу стихотворения, где говорится о переходе к “следующему разрушению”) и из внелитературной ситуации послереволюционной календарной реформы, можно выдвинуть предположение, что стихотворение Николая Заболоцкого Меркнут знаки Зодиака следует тоже понимать как поэтический ответ на происходящую попытку календарной реформы.
Во-первых, стихотворение Заболоцкого написано в том же году, что и хармсовское, в 1929-ом, т.е. накануне реформы. Во-вторых, „знаки Зодиака” связаны с древнейшими системами летосчисления — мы уже видели, что вавилонцы, греки и китайцы использовали положение созвездий, чтобы ориентироваться в пространстве и во времени (это совсем ясно выражено у Гесиода). Само слово зодиак обозначает “круг животных”, что существенно с точки зрения содержания стихотворения Заболоцкого. Но самым важным кажется то, что „знаки Зодиака” — это старый мир, который в стихотворении Заболоцкого состоит из трех взаимосвязанных пространств: звёздного, земного и фольклорно-фантастического:
Звёздное пространство — это сами знаки (созвездия) Зодиака. Земное пространство — это просторы полей, сел, животных. Фантастическое пространство — русалки, ведьмы, лешачихи, покойники, колдуны, людоеды... Если „знаки Зодиака” понять как “старый (традиционный, народный) календарь”, то тогда все перечисленные пространства входят в мир „былых столетий”, а этот мир охарактеризован как „вымысел и бред”, как „сонной мысли колыханье” и „безутешное страданье”.
Со старым миром связаны „тревоги” и „сомненья” лирического Я, его разума. Именно „разум мой” стоит на пороге нового и старого, он — и „кандидат былых столетий”, и „полковник новых лет”, и как раз с этим положением, по-видимому, связаны его тревоги и сомнения. Лирическое Я как будто хочет убедить свой разум, что старый мир действительно „вымысел и бред”. Но желание заснуть „на пороге новой жизни молодой” одновременно закрывает и перспективу в будущее:
Выходит, что поэтический отклик Заболоцкого на реформу календаря (если согласиться, что именно об этом идет речь в стихотворении Меркнут знаки Зодиака) оказывается тем же, что и у Хармса, только этот отклик кажется гораздо более комплексным и художественно гораздо более убедительным, чем тот.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 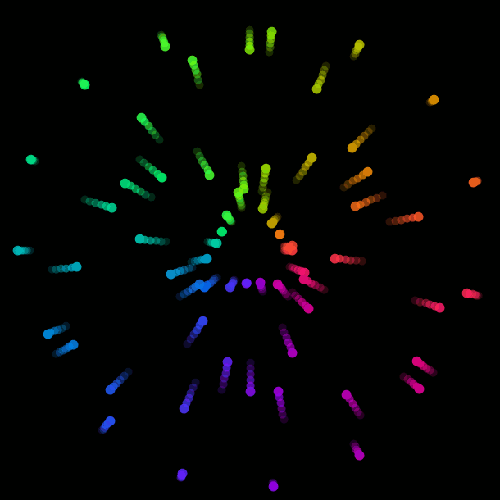 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||