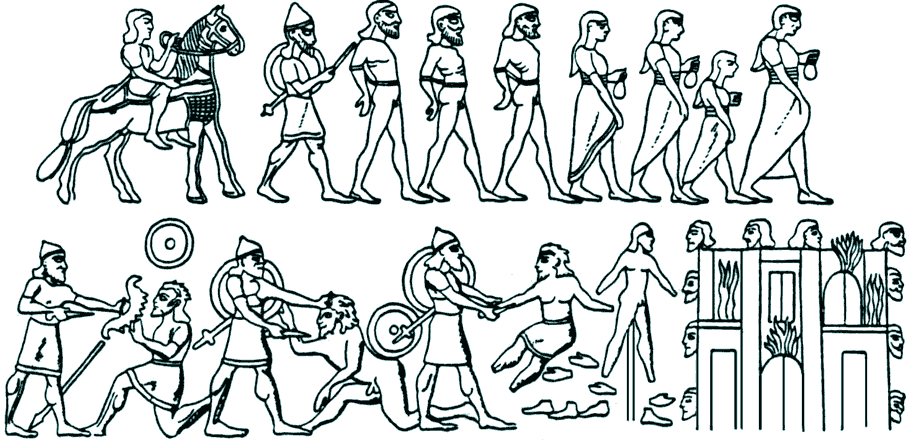
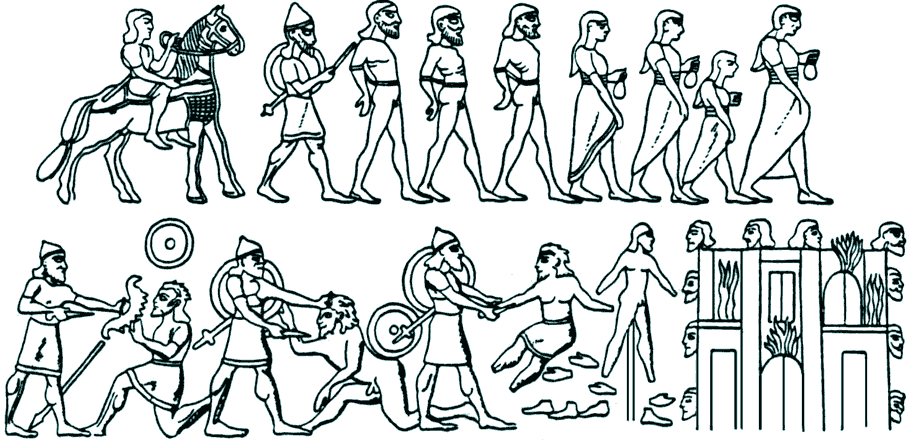
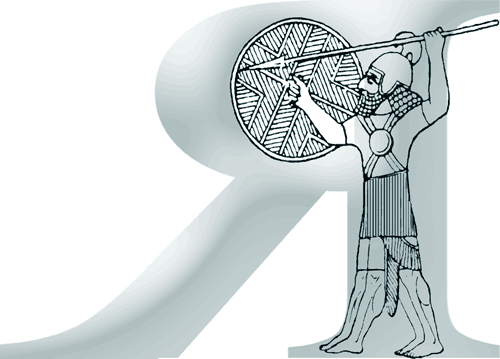 начну с частных замечаний по выступлению тов. Пастернака. Выступления тов. Пастернака всегда создавали впечатление глубокой искренности и убеждённости, а вот сегодня, когда тов. Пастернак “чохом” стал защищать писателей от якобы неправильной критики тов. Ставского, мне показалось, что он отступил от этого хорошего правила.
начну с частных замечаний по выступлению тов. Пастернака. Выступления тов. Пастернака всегда создавали впечатление глубокой искренности и убеждённости, а вот сегодня, когда тов. Пастернак “чохом” стал защищать писателей от якобы неправильной критики тов. Ставского, мне показалось, что он отступил от этого хорошего правила.В числе названных тов. Ставским произведений было «Созревание плодов» Пильняка. Я читал это произведение и знаю бóльшую часть источников, по которым Пильняк писал роман, и я утверждаю, что опубликовать произведение в таком виде мог человек, который не уважает советского читателя. У писателя не хватило добросовестности хотя бы как-нибудь утрясти сырой материал внутри произведения. Когда Пастернак, тонкий, взыскательный художник, начинает такие произведения защищать, мне кажется странным, почему он, обижаясь за безответственного писателя, равнодушен к обиде читателя.
Тов. Пастернак в своём выступлении раскрыл основу нервности, с которой писатели часто реагируют на критические замечания. Он сказал, что только перед съездом писателей, т.е. в 1934 г., для него стал проясняться исторический смысл происходящих в стране событий, и в частности коллективизации. Если писатели сознают то, что совершается, с опозданием на пятилетие после всех граждан нашей страны, они имеют основание нервничать, но не обижаться на требовательность читателей (аплодисменты) или на то, что критики иногда пытаются напомнить им об отставании.
Я не хочу оправдывать критиков. С критиками у нас часто происходит то же, что и с писателями. Жизнь тоже часто застаёт их врасплох. Так произошло с дискуссией о формализме. Но когда действительность ставит работникам искусства вопросы в упор, надо на них отвечать прямо и жёстко для себя.
У нас в дискуссии — в связи со статьями «Правды» — всё время акцентируется вопрос об упрощенчестве, на долю формализма остаются общие слова и заклинания. Верно, что упрощенчество, примитивизм очень большое и распространённое зло. Но разве им всё исчерпывается? Разве формализм как реальная опасность не актуален? У нас формализм принято было связывать с новаторскими тенденциями в литературе. Если вдуматься в теоретическую сущность формализма, то мы установим, что он антагонистичен новаторству. Формализм рассматривает литературный процесс как изолированный, в себе завершённый круг, где всё повторяется вне зависимости от исторического роста культуры. Этим формализм раскрывает свою внеисторическую, глубоко реакционную сущность, потому что вырывает литературу из общего культурно-исторического процесса.
Большинство представителей теоретического формализма под напором марксистской критики отступило. Но, признав свои ошибки, они перестроились не особенно охотно. Большинство из них ушло в текстологию — область, наиболее далёкую от живой критической мысли. Об этом не следует забывать.
Разбитый в схватках прошлых лет, формализм даёт себя знать в частностях и до сих пор. Тут называли фамилию Хлебникова. В прошлом году в «Лит. газете» была статья тов. Мирского о Хлебникове. Мирский пытался убедить нас, что Хлебников нашёл путь к сердцу большого читателя нашей страны, что Хлебников величайший поэт начала ХХ века и т.д.
Неверную статью на эту же тему написал Н.Н. Асеев в №1 журнала «Лит. критик». Мне это показалось особенно странным, потому что Н.Н. Асеев сам говорил, что для большого читателя у Хлебникова раскрыты три произведения, а в остальном Хлебников весь в экпериментах, весь в несвершённом, в формальных поисках. Хлебникова принято считать смелым новатором и чуть ли не отцом современной новаторской поэзии — это резко не соответствует истине.
Экспериментируя над словом и стихом, Хлебников пытался “очищать” русский язык от культурных напластований многих веков, воссоздать его в том виде, как он звучал в нестеровской (так! — В.М.) летописи или в «Русской правде» Ярослава, повторяя столетие спустя соответствующие “эксперименты” шишковистов и «Беседы». Реакционная, близкая к славянофильским увлечениям сущность таких “поисков” очевидна, и творчество Хлебникова никак не плодотворно для новаторских поисков поэзии, диктуемых нашим временем.
Шум, который поднят вокруг творчества Дмитрия Петровского в последнее время, не случаен. Мирский, утверждая Хлебникова, логически выдвинул Петровского как воплощение “хлебниковской” традиции. Петровский не первый день пишет такие стихи. Я не знаю, формализм ли это, но композиционного и иного сумбура в них достаточно.
Дмитрий Петровский раньше был податлив на редакторские указания. Если на него нажмёшь, он из 1000 строк сделает 100 и уберёт сумбурные и водянистые звенья, соединяющие живые и звучащие строки и строфы. А за последнее время, после того как Мирский сделал Петровского “откровением”, редакторы убоялись применять к Петровскому критический водоотжимающий пресс. Стихи стали появляться в их первозданном виде и ошеломляли своей сумбурной “новизной”. Так не в меру экспансивный критик оказал поэту медвежью услугу, поставив его под справедливые удары общественности.
Теоретический формализм развивался как монолитная литературная теория. В литературном же творчестве мы едва ли найдём хотя бы одного поэта, целостно воплощающего формализм. Формализм есть отстранение формы от оплодотворяющей энергии содержания. Естественно, что самодовлеющая форма не может двигать творчество любого писателя в течение всей его жизни. И поэтому формализм представлен в творчестве отдельных поэтов как напластование той или иной степени плотности.
Корнелий Зелинский, бывший теоретик конструктивизма, написал статью «К вопросу о формализме в поэзии». Громокипящим басом он рассуждал о поэзии миллионов, о социалистическом реализме, о поступи времени, о всяких других важных вещах. А когда дело дошло до «Цыганской рапсодии» Сельвинского, вдруг бас превратился в лирический тенор, и получилось, что «Цыганская рапсодия» совсем не формалистическая абракадабра, а плодотворный эксперимент. Зелинский подарил чарующей улыбкой Кирсанова и, как лев, набросился на никому не известных Троицкого и Сорокина, узрев в них главную формалистскую опасность.
Почему так получается? Очевидно, потому, что критики боятся впасть в немилость писателей и помалкивают и поддакивают там, где надо говорить всерьёз и прямо.
Б. Пастернак в своём выступлении говорил, что каждый день думаешь о том, кто ещё сковырнётся. Но нельзя же, разговаривая о литературе конкретно, не называть произведений и писательских имён.
Все мы знаем Сельвинского — крупного советского поэта. Но если нам дают «Цыганскую рапсодию», построенную на чистом звучании, отстранённом от какого бы то ни было организующего внутреннего смысла, и говорят, что это образец плодотворной экспериментаторской работы, я вынужден усомниться так же, как сомневаюсь в плодотворности тех методов, какими конструктивисты меняли ритмическую поступь стиха, выдумывая свой “тактовик”. Свободный стих Маяковского, рождённый как естественная потребность нового содержания, произвёл серьёзную революцию в ритмостроении нашего стиха, а “тактовик”, рождённый во имя того, чтобы создать во что бы то ни стало другую тональность, так и остался принадлежностью изобретателей. Тембр и звучание стиха не могут рождаться в отрыве от содержания, от того, что вызывает звучание поэтического голоса.
Кирсанов говорил здесь о параллельных рядах в своём творчестве. Смелость в признании слабостей, если она продиктована желанием быть лучше, — вещь не позорная. Она не умаляет человека.
И мне кажется, что Кирсанов тут погрешил. Ему надо было говорить твёрже и определённее.
Если подойти к выискиванию формализма по строчкам и даже по стихам, то от Кирсанова можно не оставить камня на камне.
Мне хочется повернуть разговор в плоскость общественной критики, чтобы Кирсанов прислушался и понял, в чём дело.
Параллелизм, „как бы двойное бытие”, у Кирсанова есть. С одной стороны, «Опыты», «Слово предоставляется Кирсанову», «Тетрадь 32 года» и др. С другой — «Пятилетка», «Товарищ Маркс», «Золотой век» — газетные стихи. Надо сказать, что ряды эти не существовали изолированно, а навыки первого ряда часто мешали работе во втором.
Кирсанов в последней книжке пишет, что он мичуринец в литературе, что он гибридизирует слова. Он изобретает ‘мояблони’, ‘моягоды’, ‘диризяблики’, ‘дирижаворонки’. Он пишет стихи на букву М, он виртуозно играет в слова, ритмы и рифмы. Читатель говорит о таких опытах — мило, виртуозно; поэт думает, что он делает открытия. А ведь всё это не так. Ведь в прежней поэзии, начиная с Бенедиктова, многие второстепенные поэты делали подобные “милые” вещицы не хуже, а часто и лучше, и тем не менее их уже никто не помнит.
Голоса. Правильно!
Кирсанову надо учесть, что навыки такой словесной игры, перенесённые на формальное разрешение большой темы, не раз портили ему обширные архитектурные замыслы. Особенно ярко это сказалось в работе над поэмой «Товарищ Маркс». Перенесённые в план поэмы навыки “первого ряда” звучали естественно в «Золушке», где сюжет условно сказочный, и в «Роботе», опять-таки условном произведении о механическом человеке.
Это надо учесть Кирсанову теперь, когда он занят работой над новой, большой и значительной по замыслу вещью.
Статьи «Правды» свидетельствуют о радостном факте усиления интереса многомиллионного населения нашей страны к искусству.
Люди нашей страны, вкусив за эти годы от плода прекрасной классики, пришли к нам и спросили: „А вы что дали?”
И оказалось, что мы дали ничтожно мало, что дали «Леди Макбет», что иногда под видом первосортного давали плохой суррогат буржуазного искусства.
Дискуссия, начатая под влиянием статей «Правды», будет длиться не дни, а до тех пор, покамест мы не дадим читателю настоящих социалистических произведений.
От бесплодных общих разговоров о качестве она заставляет нас перейти вплотную к делу. Она заставляет нас подумать о том, что время наше терпеливо к слабостям искусства, но терпению этому есть предел. Не будем же злоупотреблять долготерпением, и искать причины своих слабостей на стороне.
Когда в Кремль приходит Стаханов, он говорит: я вырубил в своём забое столько, сколько никогда не вырубали. А что мы скажем: то, что мы ещё все перестраиваемся, что мы ещё все замахиваемся для большого удара и никак не можем ударить? Кому это интересно?
Литература всегда шла в первом ряду общества, а мы всё догоняем, всё думаем, “как ликвидировать отставание”? И не надо обижаться, если нам говорят: идите вперёд, а то опоздаете.
Если мы напоминание страны воспримем как взрослые люди, мы действительно догоним. Данные у нас есть. Но для этого нужно доброе желание и умение подойти к обсуждению недостатков государственно, а не с литературной “точки зрения”, не с маленькими обидами за то, что меня или моего приятеля обидели.
„Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку” — плохой принцип организации творческого общения.
С такими субъективными данными мы не покажем нового человека, потому что новый человек совершеннее нас как психологический тип. (Аплодисменты).
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 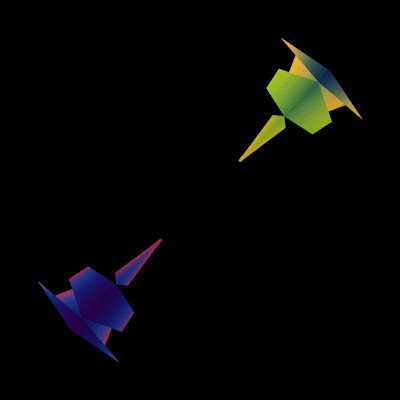 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||