



Чёрт. Я люблю видеть в вещах прообразы.
В. Хлебников
Перепечатывая «Чёртика» в IV томе Собрания сочинений, редакторы в комментарии дают по этому поводу оговорку:
Действительно, Д.Д. Бурлюк, как теперь хорошо известно, основательно запутал хронологию издаваемых им хлебниковских вещей, причем делал это не по небрежности, а вполне сознательно и умышленно. Ему казалось необходимым устанавливать приоритеты русских футуристов перед итальянскими, перед символистами и бог знает перед кем еще, и он, не колеблясь, ставил под многими произведениями более ранние даты, чем те, которые имелись на рукописях.
Впрочем, сегодня для нас не так велика разница: пусть не шестой, а девятый год. Это значит, что молодому Хлебникову было в пору написания «Чёртика» не двадцать, а двадцать три года — не такая большая разница, хотя... если вспомнить, что в восемнадцать с месяцами лет он уже вступал во вторую половину своей жизни, что не только до пятидесяти, но даже до сорока дожить ему не было суждено…
Итак, Петербургская шутка. Отклик на выход в свет журнала «Аполлон», пришедшего на смену журнала «Весы». Первый номер его, вышедший в октябре, открывался редакционной статьей, подчеркивавшей “чисто эстетические” цели журнала; были напечатаны критические статьи Иннокентия Анненского, Бальмонта, Брюсова, Сологуба, стихи Бальмонта, Брюсова, Вяч. Иванова, Волошина, Гумилева, повесть С. Ауслендера, титульный лист с нарядной виньеткой Бакста; самого Хлебникова в «Аполлоне» не печатали, хотя, кажется, и обещали ему это. Тем не менее, в первые годы пребывания своего в Петербурге он часто встречался с Вяч. Ивановым, которому он писал ещё из Казани в свои студенческие годы, а также с Гумилевым, Волошиным, Кузминым и другими...
Начинаем знакомиться с пьесой. Второй подзаголовок вполне оправдан. Это действительно диалоги, и перед нами всё время прямая речь персонажей, изредка сопровождаемая короткими ремарками. Персонажей же для короткой одноактной шутки очень много: Чёрт, Гера, Геракл, Перун, молодой господин, чиновник, старуха, нищий, русский (он же военный), половой, студент, монашка, извозчик, сторож, училица (курсистка), старичок, любовник, сумасшедший, мальчишка, петербургские сфинксы, мамонт, вороны, ведьмы, кусты и даже французская свобода.
Сопоставив название и подзаголовки с таким пестрым подбором действующих лиц, мы вправе ожидать чего-нибудь вроде “капустника” — пародийного представления с прозрачными намеками и шутливыми напоминаниями об анекдотических, может быть даже скандальных подробностях литературного и художественно-богемного быта того времени.
Принимаемся за чтение. Появляется недоумение. Продолжаем читать Недоумение усиливается. Заканчиваем. Оно не исчезает. Ни одного намека на журнал «Аполлон» или его участников мы так и не обнаруживаем, если не считать появления двух других представителей античной мифологии — Геры и Геракла. Текст кажется нам загадочно-сумбурным. Уловить в нем какую-либо сюжетную канву удается не сразу и она столь слабо намечена, что можно спорить, существует ли она вообще. Действующие лица едва связаны между собой репликами, лишь изредка представляющими собой вопросы и ответы, как-то освещающие их отношения друг к другу или к происходящему на сцене. Выражаются они какими-то туманными намеками и словно не слышат своих собеседников.
О чем же они говорят? Говорят всё время о смерти, о приближении неотвратимой гибели, о каких-то катаклизмах, о социальной и военной катастрофе, о неотменяемом конце, угрожающем государству и народу. Они появляются, рассказывают пугающие фрагменты каких-то апокалиптических притч и затем бесследно исчезают со сцены. Какая там петербургская шутка и при чем тут изящно эстетствующий Аполлон в кавычках или без кавычек, то есть бог или журнал — всё равно. Шутить, впрочем, все действующие лица любят. Только невеселые у них шутки. Иногда они как бы нарочито плоские, и нас не оставляет подозрение, что неуклюжесть их умышленная, что именно такими они сознательно задуманы. Неудивительно, что Гумилев в одной из ранних заметок о футуризме писал о Хлебникове: „слабее всего его шутки, которые производят впечатление не смеха, а конвульсий. А шутит он часто и всегда некстати”. Здесь сказалось удивительное непонимание функциональной природы юмора Хлебникова. Прежде всего, он никогда не преследует цели смешить читателя. Впрочем, он вряд ли ясно представляет себе этого читателя и не к нему обычно обращается. К кому же? „Ты сам — свой высший суд!”. Пожалуй, так. Он знает, думает, видит („вникает, мыслит, рассуждает”) и наступает время, когда он не может не записать многократно обдуманного в существе дела, но часто так и не отлившегося в совершенную литературную форму. Поэтому он, как мы уже говорили, может неоднократно возвращаться к тому же образу, каждый раз изменяя способ и формы выражения, отсюда идет эта миграция образов, сюжетов, ассоциаций, присущая его творчеству, о которой мы уже говорили.
В упоминавшемся уже отрывке «Свояси», написанном весной 1919 года, то есть почти десять лет спустя и представляющем собой, в сущности, биографию его литературного творчества, Хлебников дает краткую характеристику своих наиболее важных с его точки зрения произведений. В их числе он называет «Чёртика»:
Мало этого, опубликованы два письма Хлебникова к М. Матюшину; одно написано в июне, другое в августе 1917 года. В обоих письмах поэт напоминает, что в каком-то списке своих драматических вещей он позабыл упомянуть «Чёртика» и просит исправить его ошибку. Всё это достаточно ясно говорит о том, что этой вещи он придавал на протяжении всей последующей жизни большое значение.
Нам это кажется вполне понятным. Именно в «Чёртике» наиболее отчетливо, по сравнению с другими ранними произведениями, проступают многие чисто “хлебниковские” черты. В нем отразились его глубокие раздумья, предчувствия, видéния, ставшие вéдением. Они оказались настолько сконденсированными, что ими была сломана и сожжена художественная форма произведения. Пожалуй, это даже не быстрый пожар, а скорее, взрыв пластов молчания. В маленькой по своему объему вещи (25 страниц довольно свободной печати в книге) на сцене с бешеными скоростями сталкиваются и исчезают не то обломки титанических фресок, не то фрагменты изуродованных кинолент, поставленных каким-то гениальным режиссером, а затем изрезанных и перепутанных между собою. И всё это перемежается как бы картинками из детского волшебного фонаря, многоцветными и наивными.
Так как Собрание сочинений Хлебникова, где последний раз печатался «Чёртик», не находимо, а несколько отдельных цитат не прояснят читателю того, о чем нам приходится говорить, предложим желающим как бы вместе прочесть «Чёртика» и извинимся заранее в том, что нам придется всё время двигаться от одной цитаты к следующей, пользуясь лишь короткими связками и отступлениями.
Вот начало. Оно открывается патетическими возгласами некоего старика и репликами внимающих, пародийно повторяющих, словно эхо, последнее слово каждого возгласа, изменяя его смысл посредством замены отдельных букв.
Пробегает Ученый.
Ужас, — говорит он, — я взял кусочек ткани растения ‹...› под вооруженным глазом он, изменив с злым умыслом свои очертания, стал Волынским переулком с выходящими и входящими людьми, с полузавешенными занавесками окнами, с читающими и просто сидящими друг над другом усталыми людьми; и я не знаю, куда мне идти: в кусочек растения под увеличительным стеклом или в Волынский переулок, где я живу. Так, не один и тот же я там и здесь ‹...› Вселенная на вопрошания мои тиха!
Перед нами типичный для Хлебникова лейтмотив. Мы сразу узнаем его, носящего на мизинце правой руки земной шар и верящего, что есть величины, с изменением которых синий цвет василька ‹...› непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им. Независимыми переменными называет поэт эти величины в отрывке «Пусть на могильной плите», о котором уже говорилось. Перед нами — одно из научно-мистико-философских построений, определяющих миросозерцание Хлебникова, тех самых, о которых до сих пор ещё никем из писавших не было сказано ничего вразумительного.
Но мы, чтобы не потерять нашей темы, остановимся на этом подробнее в другой раз.
Далее в пьесе идет обмен репликами между Молодым человеком и не замедлившим явиться по его призыву Чёртом.
Молодой человек говорит: ‹...› здесь толпы съехавшихся с разных концов русской земли девушек истребляют свои права быть нашим небом и справляют те, которые способны обратить ведьм в бегство. Крашеные собаки и кошки прилежно заменяют соболя расходящихся с учения девушек.
Это обычная для раннего Хлебникова перекличка с сатирической музой А.К. Толстого. Вспомним «Потока-богатыря», где „собралися красавицы кучей” и „совершают они, засуча рукава”, пресловутое „общее дело: потрошат чье-то мертвое тело”, а наблюдающий это Поток замечает: „То ж бывало у нас и на Лысой горе, только ведьмы хоть голы и босы, но по крайности есть у них косы!” Конечно, оба поэта, в принципе, ничего не имеют против женского образования, однако, характеристические черты этого образования, возникающие на их глазах в виде нового женского типа — стриженой неряшливой курсистки, внушает не только им законный ужас. Современный Хлебникову сатириконский поэт Саша Черный одновременно с «Чёртиком» написал популярное в те годы шуточное стихотворение «Городская сказка», посвященное красавице, которую „прозвали мадонной медички шестого семестра”. Когда эта „мадонна” откровенно рассказала своему поклоннику, как она провела день: „вынула почки у кошки и зашила её аккуратно, потом вскрывала студента, труп был жирный и дряблый”, а ещё „у Калинкина моста смотрела своих венеричек” и так далее, вздыхателю больше не хотелось быть „ни братом её, ни теткой, ни её эмалевой пряжкой, ни зубной её щеткой”. Ведь даже Маяковский мрачно пошутил однажды: „Я пессимист: знаю, вечно курсистка будет житъ на земле”.
— Кант… Конт… Кент… Кин… — бормочут у Хлебникова эти заучившиеся красотки и пробегают, роняя на своем пути книги.
— Ещё Кнут — говорит Чёрт, — Извозчик, не нужен ли тебе Кнут?
— А? У меня и свой есть, — отвечает извозчик.
После этого Чёрт предсказывает, что скоро будет открыто высшее училище передвижения вскачь на лошадях, лицом, волочащимся по камням, ногами, привязанными к конскому хвосту, хотя… говорят, что в старину этот способ передвижения применялся обыкновенно к казни. Но что хочет погибнуть — погибнет. Чёрту вторит Старуха. А то ещё есть город, где камни учатся быть камнями и проходят все три рода образования — высшее, среднее и низшее ‹...› — говорит она — А кони, от избытка образования, там трехногие. Потому что камни ходят и изучают Канта.
Вероятно, и люди тоже трехногие и по той же причине, — невольно подумаем мы, вспомнив о той скрижали, которую много лег спустя пронесет уже незадолго до смерти поэта то ли старче божий, то ли бес.
Впрочем, за этот двенадцатилетний промежуток образ “трехногих” не перестанет то там, то здесь появляться в разных произведениях поэта. (См., напр., отрывок «Чу! Зашумели вдруг облака», 1920 г.: Эй, любители средних чисел! Вместе сложите две ноги человека и четыре копыта бога. Буду трехногий, будет и конь о трех ногах, или в поэме «Прачка»: Горячее поле, сюда скачи на трех ногах собакой раненой, трехногое скачи, грози костылем безносое).
— Понимаешь, люди так захотели быть святыми, что самый злой чёрт всё-таки немного добрее самого лучшего человека. Этой фразой Чёрт заключает разговор о камнях и конях.
И тогда на сцене появляется Перун. Он произносит всего несколько слов, но в них заданы сразу два, вернее, даже три лейтмотива, две или три темы, подлежащие раскрытию в дальнейшем тексте.
— А мне наплевать, хотите облесить степи виселицами для изменников и обезлесить леса — облесяйте. Ваше счастье и ваше добро — манная утка для диких товарищей, летящих на гибель. Вот почему она цела, зовет спокон веков на выстрелы. А мне наплевать. Я пришел вас спасти. А не хотите, как знаете.
Первую тему вскоре подхватывает Чёртик: в охабне и жемчугом покрытой мурмолке “последний русский”, ты видишь, идет ‹...› О, он предвидит то, о чем бросил пророчество в дубленом зипуне Перун, но кто его слушает? На него только ‹...› смеясь, показывают пальцами. Он тоже знает кое-что о лесах, о которых не знал Геродот.. И ниже: О, леса, которые не предвидел старик Геродот, вы будете! И в третий раз: О, леса, леса, на них качаются не плоды, а люди. Не мимо ли кладбища мы идем?
Вторую тему, тему манной утки, повторяет и развивает в дальнейшем диалоге Молодой господин. Он говорит: Смотрите, видите озеро и охотник за осокой держит за шнурок утку. Это манная утка кричит, и к ней слетаются товарищи и падают мёртвыми от выстрелов охотника. Утка кричит, кричит. Что это, сударыня, значит? Я должен размышлять, не страшен ли этот сон — этот повальный полет в смерть. Я тоже был охотником.
Чёрт. Ужасна эта охота, где осока — годы, где дичь — поколения.
Третья тема, едва намеченная в словах Перуна, это тема спасения, которое будто бы может он принести: Я пришел вас спасти. А не хотите, как знаете.
Эту же тему в дальнейшем тексте продолжает Гера: О, люди, люди!.. Если бы вы знали, как мы любим вас, пристально следим за ходом ваших судеб. Если бы вы поняли, что наша божественная власть зависит от вас, и вне вас — призрак. О, люди, люди, зачем вы покинули нас?
Не слишком ли самонадеянно заявление Перуна Я пришел вас спасти? Ведь речь всё время идёт, как будто, о довольно серьезных вещах? Или это ирония? Над кем и чем? Какое и кому спасение может обещать деревянный идол с позолоченными усами, почти тысячу лет назад сброшенный с крутого откоса в днепровские воды? Может быть идея этого идола? Не менее странно. Однако, Хлебников, надо думать, здесь вполне серьезен и смысл этих слов был для него элементарно ясен.
Отношение поэта к Перуну ярко дополняется и раскрывается в стихотворении, так и названном — «Перуну» (т. II, с. 198), особенно строками:
Конечно же, он не веровал в идолов. Но народная мифология, народная песня, сказка, былина для него, в известном смысле, вещи священные и полные глубокого смысла. Он всегда готов противопоставлять их уродствам городской культуры, литературе Сологубов, Арцыбашевых, французской шансонетке и венской оперетке.
В его сознании народное творчество всегда противостоит (и это самое главное) ущербному самосознанию училиц-курсисток, невнятно квакающих, словно лягушки, растерявшие свои сокровища.
Так, в драматической поэме 1906 года «Снезини» и переработанной из нее несколько позже пьесе «Снежимочка», где действуют снезини, бесенята, Березомир и другие сказочно-славянские персонажи, есть одна сцена. Мимо этих персонажей проходят люди, которые их не видят и говорят между собой о том, что их занимает. Вот их реплики:
Этот последний возглас повторяется в сцене неоднократно, чем автор подчеркивает его значение для общего замысла. Однако вернемся к «Чёртику».
Вскоре после Перуна в действие вступает ещё один мифологический персонаж: Геракл. Впрочем, как вскоре выясняется из текста, это не он “лично”, а всего лишь одна из статуй петербургского дворца, много лет простоявшая на каком-то архитектурном выступе стены или кровли. Чёрт представляет Геракла собравшимся так. Это известный силач, бывший черносотенником давно-давно и ныне снова собирающийся вступить на борьбу с чудовищами. Вот здесь уже действительно чувствуется прямая ирония. Но, помимо того, у Геракла есть собственная и вполне серьезная тема. Эта тема — вороны. Он говорит:
И чуть позже, снова: О, как презирают нас вороны, и они зорко видят будущее!
Читаем дальше:
Как видим, тема смерти продолжает неотступно звучать, отнюдь не в шутливом тоне решается она молодым автором.
На сцене появляется русский полковник. Он приносит на себе замерзающего пьяницу: Этого пьянчугу я нашел ‹...› и теперь, гордый и счастливый, что я могу спасти его.
(Развернутый портрет Полковника читатель может найти в стихотворении «Алферово».)
Чёрт. ‹...› Прекрасно. И вы — статный старик, несущий на плечах замерзающего пьянчугу ‹...›
Полковник быстро разговорился, он вспоминает войн, Тырново: ‹...› полк переходил реку по шею в воде, шел лед. Мы сражались за Россию ‹...› Так со славою мне умирать? Я борюсь только за могилы предков! ‹...› Я горд своей прямотой и тем, что два раза в лицо назвал одного временщика мошенником ‹...›
Чёрт. Какая прекрасная личность! И этих людей...
Дальше полковник рассказывает о том, как однажды его хотели зарезать босяки (отметим это слово — оно вскоре повторится при особых обстоятельствах): Я им сказал: „Живой не дамся в руки! Подходите!” Они попятились и ушли. У меня же ничего с собой не было ‹...›
Чёрт. Эти люди могут спасти Россию ‹...› Отведемте этого босяка ‹...›
Но отогревшийся пьяный уходит сам. Уходит, бросив одно только слово „благодарю!”, но его уход не остается незамеченным. Он своеобразно комментируется Чёртом: Но почему — спрашивает он, — опять появляется на сцене чертёж России и слово “Россия” в страховании? Лишь только он ушел! Страшный человек!
Половой (подходит и пальцем трогает слово “Россия”). Так точно, сударь! Они будто отлучались куда-то, а теперь вернулись.
Затем появляется французская свобода, появляется лишь затем, чтобы продекламировать строчки:
А затем стакан пива в руке Сидельца принимает размеры Вселенной. Посетители закуривают трубки, в дыму которых исчезает всё — пивная и они сами. Фантасмагория завершается финальными репликами Сторожа, устанавливающего заставу со словами: Мост в сказку разобран, господин. Вы останетесь в сказке до следующего действия ‹...› Проезд в сказку закрыт, господа.
Микросцены быстро мелькали, вытесняя одна другую. Мы остановились лишь на некоторых, как нам кажется, имеющих наибольшее значение для раскрытия авторского замысла. Мы не цитировали песню мальчика на кладбище, в которой говорится о соколе, разбившемся на лету о колья, и снова звучат рифмующиеся слова начала пьесы смерьте и смерти; не останавливались мы и на эпизоде с волной из лягушек и других небольших мизансценах… Однако, в тексте прозвучала и ещё одна притча, которую мы умышленно позволили себе вынести за скобки нашего изложении, поскольку она представляет собой наиболее яркое раскрытие идеи произведения.
Эту притчу рассказывает главное действующее лицо — Чёрт:
В длинной цепи мрачных предвидений это звено кажется нам наиболее рельефным. Так выглядело будущее, угаданное молодым поэтом примерно за пять лет до того, как разразилась Первая мировая война 1914 года.
Спустя двенадцать лет после «Чёртика» в 1921 году, то есть всего за год до смерти Велимир Хлебников пишет «Влом Вселенной» (в других источниках название «Взлом Вселенной»). В нем дается стихотворный диалог Ученика (который позже называется также Сын, а затем раздваивается на двух персонажей: Молодого вождя и Младшего воина) со Старшим.
Вот начало этого произведения:
Сын рассказывает в ответ автобиографическую страницу из жизни Хлебникова о том, как при известии о Цусимской битве он дал обет найти законы времени, управляющие событиями (об этом в разных произведениях Хлебникова рассказано не раз).
Теперь прочтем самый конец вещи. Ученик, он же Сын, тождество которого с автором мы только что установили, здесь назван уже Молодой вождь. Он только что проломил череп вселенной и, встав над этим черепом, неожиданно видит между рычагов | всё то же лицо на голубом жемчуге:
Отрывок, вернее, вещь эта, так как она вполне закончена, хотя и не отделана, завершается пятью строчками, представляющими собой уже прямую речь той самой державшей ладони:
Мы позволили себе привести здесь эти цитаты, с достаточной полнотой иллюстрирующие, во-первых, почти полное совпадение образной структуры и её дословного выражения в двух разновременных произведениях, а во-вторых, особенно интересное для характеристики автора разночтение, контрастно выделяющееся именно благодаря идентичности всех остальных деталей картины в обоих случаях. Это разночтение отвечает на один и тот же задаваемый автором себе (и читателю) вопрос: о возможности спасения народа. За пять лет до 1914 года ответ дан отрицательный. Спасения ждать неоткуда.
Единственное действующее лицо «Чёртика», сразу получающее у автора безоговорочно положительную оценку, — старый полковник. Эту оценку Чёрт явно разделяет с автором: И этих людей... ‹...› Эти люди могут спасти Россию ‹...› Но разве не ясно из недомолвки Чёрта, из признаний самого полковника, что эти люди обречены. Я борюсь за могилы предков ‹...› значит, со славою мне умирать?.. Можно утверждать себя, если ничего не осталось более и на могилах предков, как будто говорит нам автор, но у такого утверждения нет перспективы. Остаются одни только боги. Они не отвернулись, они хотят помочь, боги очагов, боги традиций, но они отвергнуты, от них никто не принимает помощи. Ведь их помощь — это тоже помощь прошлого, помощь мифов, исторических примеров и сказаний, национальных обычаев. И люди не желают более слышать их голос. Другие боги встали на их место; Кант, Конт, Кент и еще… кажется, Кнут. Хлебников не мирится с этими богами. Кант, кажется, особенно его раздражает: Кант, с нависающим, как обрыв реки, лбом мыслителя над подбородком, сморщенным как детский кулачок, засунутый в воротник (V, 271), Кант, хотевший определить границы человеческого разума, определил границы немецкого разума. Рассеянность ученого, — говорит он в «Разговоре двух особ» (1912 г.), но в ряде других сочинений не упускает случая снова и снова желчно иронически напомнить имя Канта, этого нюренбергского обывателя, который значится в списках русских подданных.
И вот появляется новый герой ближайшего будущего — абсолютно реальный пьянчуга и босяк, явление которого влечет за собой тотчас же иррациональные последствия. Его спасает и выносит на своих плечах самый благородный и великодушный из всего быстро сменяющегося калейдоскопа действующих лиц — Военный (он же Полковник! Страшный человек, — отзывается о Босяке Чёрт. Но почему он страшен, так и не раскрывается. Потому что гибель уже при дверях, потому что уже кричит манная утка, обещая всем новое добро и новое счастье, и уже началась страшная охота. Потому что даже вороны презирают людей за их ограниченность и слепоту. Потому что леса, о которых не знал Геродот, уже вырастают вдали как явь, а не видение кошмара.
И вдруг… в почти дословном повторении текста, уже известного по «Чёртику», мы читаем: движение нехитрой рукояти — и божию коровку я спасла... Так просто! Это написано уже после революции, срок прихода которой был точно предсказан Хлебниковым за несколько лет, но характер изменений, наступивших в связи с этим приходом, был для него раньше неясен и оказался неожиданным. Только этим, нам кажется, можно объяснить новое, оптимистическое разрешение конфликта.
Попавший в первые годы по приезде в Петербург на “башню” Вячеслава Иванова, в салон Мережковских, в общество Мих. Кузмина, Н. Гумилева, Ал. Ремизова, М. Волошина, К. Чуковского — пестрой и разнообразной интеллектуальной элиты предвоенного времени, Хлебников был на короткое время захвачен её интересами, впитывал звучавшие вокруг споры, стихи, остроты, пародии...
Однако этого хватило ненадолго. Ему были в равной мере чужды и сложные схоластические умопостроения Вячеслава Иванова, связанные с его произведением «Религия страдающего бога», и перспективы охоты на гиен в Центральной Африке, занимавшие Н.С. Гумилева, готовившегося к отъезду в Эфиопию, которую тогда ещё называли Абиссинией, религиозно-философские споры салона Мережковских и эпикурейские афоризмы Михаила Кузмина, или парижские новости Макса Волошина. Всё это, густо переслоенное свежими анекдотами, сплетнями, взаимными соперничествами и недоброжелательствами не могло надолго занять мысли Велимира.
Своеобразные законы интеллектуальной моды, не менее капризной и прихотливой чем мода, диктуемая портными и парикмахерами, кондитерами и ювелирами, поднимали на гребень очередной волны фельетонно-хлесткие статьи Чуковского, отдающие лакейским снобизмом „поэзы” Северянина, книги и газетные статьи Василия Розанова. Многое было здесь и на самом деле остро, талантливо, но разве об этом следовало думать в те годы? Передо мной варился вар — сказал немного позже обо всём этом Хлебников.
Его всюду принимали ласково. Своей тихой непритязательностью он обезоруживал записных острословов, и если над ним и подтрунивали, то чаще доброжелательно. Обещали печатать его стихи. Но обещания оставались обещаниями. Жизнь вокруг бурлила. Гремели имена Скрябина, Собинова, Шаляпина. Модные журналы, посвященные вопросам искусства, переполняли репродукции картин и графики Сомова, Судейкина, Бакста. Но никто из встречавших красивого синеглазого и чаще молчавшего юношу не давал себе труда постараться понять его мысли, тревоги и стремления. Везде и всегда оставался он одиноким и ненужным. И чем дальше, тем яснее понимал это. Даже Вячеслав Иванов, оказавший ему гостеприимство в своем доме и импонировавший своей всеобъемлющей эрудицией и образованностью, оставался чуждым и равнодушным к его мыслям, его внутренней жизни. Но всё же именно В. Иванову в эти годы адресовано несколько наиболее значительных и глубоких по содержанию писем Хлебникова. Мы не знаем, были ли и в какой форме даны ответы на эти письма, знаем только, что после определенного времени таких писем уже больше не было. В числе адресатов немногих сохранившихся в архивах писем Хлебникова всё большее место занимают имена Василия Каменского, Алексея Крученыха… Этапы наступившего разочарования в старых знакомых не датируются, зато у нас есть письмо, адресованное семье Хлебниковых. В нем мы находим драгоценную для биографа фразу, подытоживающую важный период не столь уж длительных увлечений, сколь жестоких разочарований в наиболее ярких представителях литературно-художественных кругов предвоенных лет. Дорожу знакомством с семьей писателя Лазаревского, — пишет Хлебников, — всё же Евреиновы, Чуковские, Репины — какая-то подделка, в конце концов, как люди (V, 304).
По-прежнему загадочным остается подзаголовок «Чёртика» — «Петербургская шутка на рождение Аполлона». Возможно, кажется нам, два объяснения. Первое: такой подзаголовок был иронической маскировкой содержания. Но такое объяснение тут же вызывает следующий вопрос: зачем автору такая маскировка понадобилась? Кого и почему мог он опасаться? Вольных предположений по этому поводу можно строить сколько угодно, но все они останутся необязательными и малоубедительными.
Другой ответ — подзаголовок случайно оказался записанным на первом листе рукописи «Чёртика» и относится совсем к другому произведению — кажется нам более правдоподобным. Помимо небрежности Хлебникова в отношении к его рукописям и возможного самоуправства, вольного и невольного, со стороны Давида Бурлюка, да и других “новых друзей” поэта, для которых он часто оставался всего лишь творцом гениальных бессмыслиц, — помимо всего этого, такое предположение опирается на тот несомненный факт, что “настоящая” шутка, связанная с рождением журнала «Аполлон», действительно существовала. Мало того, несмотря на равнодушие к ней Хлебникова, она случайно сохранилась и была напечатана во втором томе Собрания сочинений на стр. 80 под названием «Петербургский “Аполлон”». В ней есть шутливые характеристики и намеки, адресованные Кузмину, Волошину, Вяч. Иванову и другим. Кроме того, сохранились наброски произведений того же жанра: «Отчет о заседании кикапурно-художественного кружка», где ряд строк направлен против Северянина, отрывок «Передо мной варился вар» и «Карамора №2-й», опубликованные в томе «Неизданный Хлебников» 1940 года.
Все они сохранились и были опубликованы благодаря случайности. Мы нигде не встречаем упоминаний о том, что сам Хлебников придавал им когда-либо значение и стремился их опубликовать, как это было с «Чёртиком». Однако для убеждения, что первый из двух подзаголовков «Чёртика» ни в какой мере к нему не относится и залетел в него совершенно случайно, основания у нас есть. И немалые.
XII – 1972

| Персональная страница Сергея Николаевича Толстого | ||
| карта сайта | 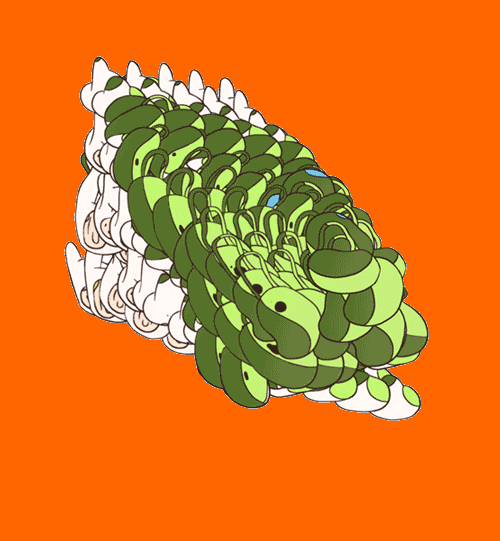 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||