О.А. Седакова. Велимир Хлебников - поэт скорости
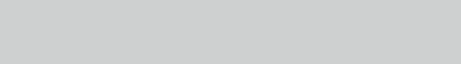
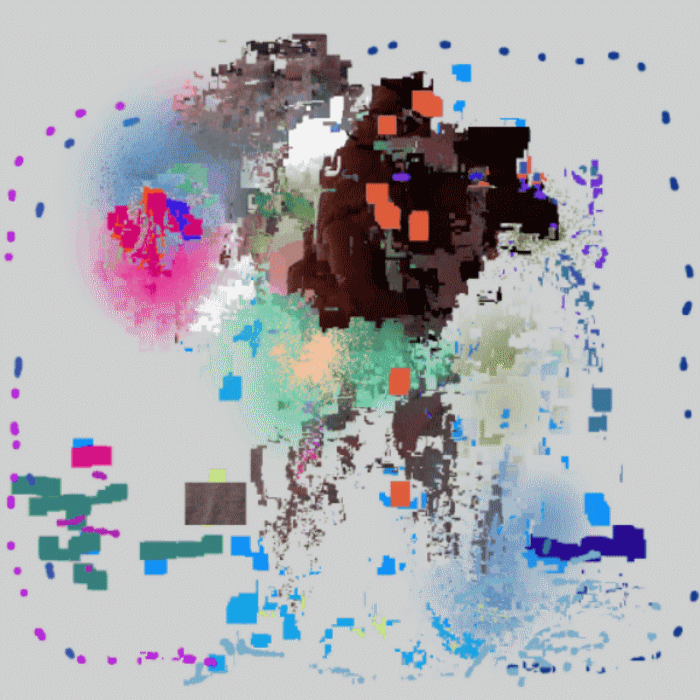
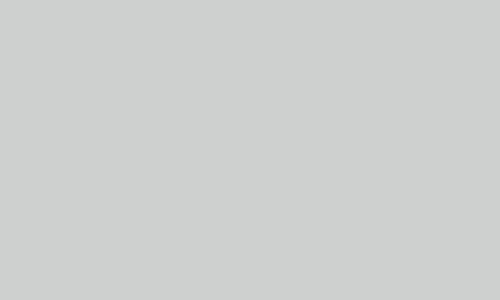
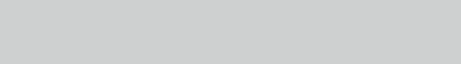
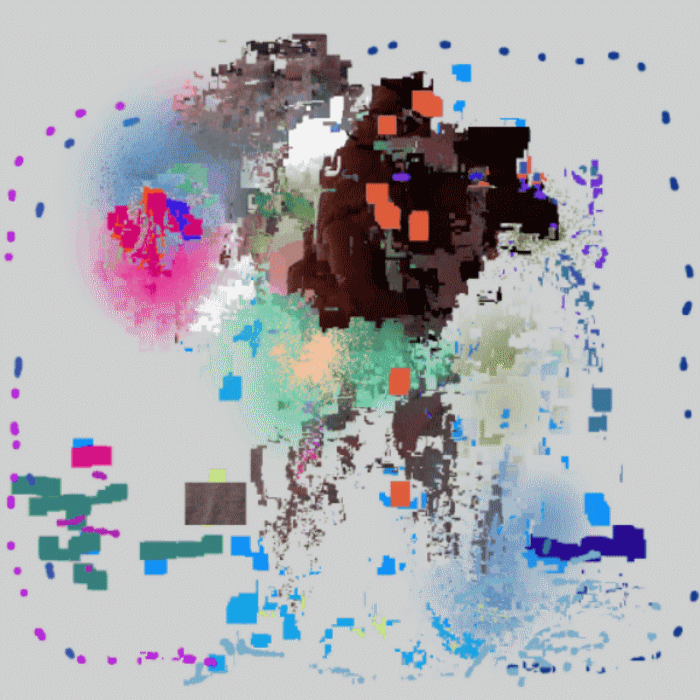
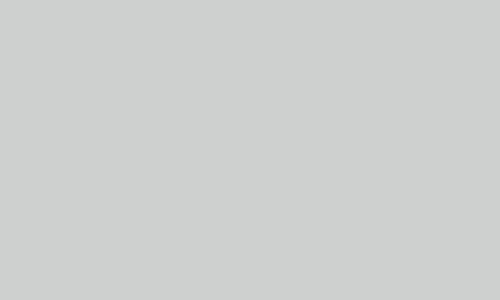
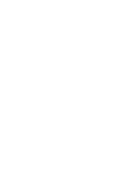 рудно найти другой поэтический опыт, который был бы так необходим современной русской поэзии, как опыт Велимира Хлебникова. Ничьё отсутствие в поле внимания читателя, исследователя и, наконец, создателя лирики не ощущается так болезненно. Упуская Хлебникова, мы лишаем себя не “одного из поэтов”, не одного из экспериментальных путей XX века — но целой перспективы: существенно ограниченным оказывается общее представление о поэзии, её возможностях и творческих задачах, о её истории, управляемой магнитной силой будущего, о слове русского языка. Дело не в том, что Хлебников откроет и подскажет, как открыл и подсказал он иные ходы многим своим современникам: в его опыте — источник ритмических и словотворческих моделей Маяковского; далеко за пределами непосредственного футуристического окружения — его влияние в „семантической фантастике” слова Мандельштама, в полиметрии и стилистических сдвигах Заболоцкого эпохи «Столбцов и поэм» и многих, многих других. Но было бы грустно и неплодотворно ожидать “оживления” Хлебникова в современной словесности с тем, чтобы опять “жить на его счёт” и “популяризировать его творческие достижения”. Поэзия Хлебникова и мысль его (поскольку здесь можно полнозначно говорить о „стихослагающей мысли” и „мыслящем стихосложении”) — урок поэту, читателю и исследователю, но особый урок: урок свободы. А именно такие уроки со всем упорством старается не усвоить человеческая косность. Куда удобнее остановиться на маске поэта, на его легенде. Как есть вечно затемняющая Пушкина легенда Пушкина — героя собственной биографии, — так и у малознакомого читателю Хлебникова уже есть прочная легенда: “тёмный”, “экспериментальный” поэт, “поэт для поэтов”, создатель своего заумного языка. Основания и факты для такой репутации подобрать нетрудно (здесь и далее иллюстративные примеры приводятся по изданиям: Хлебников Велимир. Собр. произведений в 5-ти тт. Л., 1930–1933; Хлебников Велимир. Неизданные произведения. М., 1940):
рудно найти другой поэтический опыт, который был бы так необходим современной русской поэзии, как опыт Велимира Хлебникова. Ничьё отсутствие в поле внимания читателя, исследователя и, наконец, создателя лирики не ощущается так болезненно. Упуская Хлебникова, мы лишаем себя не “одного из поэтов”, не одного из экспериментальных путей XX века — но целой перспективы: существенно ограниченным оказывается общее представление о поэзии, её возможностях и творческих задачах, о её истории, управляемой магнитной силой будущего, о слове русского языка. Дело не в том, что Хлебников откроет и подскажет, как открыл и подсказал он иные ходы многим своим современникам: в его опыте — источник ритмических и словотворческих моделей Маяковского; далеко за пределами непосредственного футуристического окружения — его влияние в „семантической фантастике” слова Мандельштама, в полиметрии и стилистических сдвигах Заболоцкого эпохи «Столбцов и поэм» и многих, многих других. Но было бы грустно и неплодотворно ожидать “оживления” Хлебникова в современной словесности с тем, чтобы опять “жить на его счёт” и “популяризировать его творческие достижения”. Поэзия Хлебникова и мысль его (поскольку здесь можно полнозначно говорить о „стихослагающей мысли” и „мыслящем стихосложении”) — урок поэту, читателю и исследователю, но особый урок: урок свободы. А именно такие уроки со всем упорством старается не усвоить человеческая косность. Куда удобнее остановиться на маске поэта, на его легенде. Как есть вечно затемняющая Пушкина легенда Пушкина — героя собственной биографии, — так и у малознакомого читателю Хлебникова уже есть прочная легенда: “тёмный”, “экспериментальный” поэт, “поэт для поэтов”, создатель своего заумного языка. Основания и факты для такой репутации подобрать нетрудно (здесь и далее иллюстративные примеры приводятся по изданиям: Хлебников Велимир. Собр. произведений в 5-ти тт. Л., 1930–1933; Хлебников Велимир. Неизданные произведения. М., 1940):Желая общаться с Хлебниковым, мы не можем согласиться на ограничение его явления той областью, где он выходит за пределы “общеязыкового”, “общепонятного” и даже “традиционного”. Хлебников даёт новое зрение и там, где не переступает этих порогов. Вот картина сбора вишен:
Можно описать игру славянскими корнями и аффиксами — точнее, введение в новую игру славянских морфем, разъединённых и вновь связуемых, напряжение словотворческих возможностей русского языка у Хлебникова, как в первом приведённом фрагменте или в хрестоматийном «Заклятии смехом». Можно — и очень много интересного обещает — сосредоточиться на синтаксисе Хлебникова, на сочетаниях форм и слов, которые, будучи грамматически вполне допустимыми, по какому-то неписаному запрету избегались литературным языком: являясь у Хлебникова, они вызывают впечатление тонкого архаизма:
Можно описать те конкретные области словесной свободы, которые Хлебников открыл, как кажется, со счастливой уверенностью ребёнка; он делает открытие так просто, потому что ещё не знает или не вполне поверил условию: здесь закрыто, „так не говорят”, „так не делают”. Сама образность Хлебникова отмечена этой непроизвольностью, этим „само собой разумеется”. Почти у всякого другого поэта образ, сравнение, метафора несут в себе дополнительную тяжесть, в них ощутимо усилие автора „найти”, „дойти” до поэтического из мира обыденных ощущений и прозаического восприятия вещей. Хлебниковская речь образна естественно и непроизвольно:
Хлебников — как и другой “тёмный” для ленивого восприятия поэт, О. Мандельштам, как вслед за ними Н. Заболоцкий («Читайте, деревья, стихи Гезиода»), — сливает мир культуры и мир природы, читая один через другой. Но если для Мандельштама природа — иносказание культуры („И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, / И Гёте, свищущий на вьющейся тропе...”), то Хлебников рассматривает историю и культуру как натуралист: движение исторических эпох в его толковании подчинено циклическим закономерностям наподобие природных, как движение планет или ритм прибоя, а происхождение вероисповеданий соотносится с животными видами: Где в лице тигра ‹...› мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность Ислама. Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды.
Непрерывное и чистое улавливание этих связей, этого творческого единства мироздания, порождающее и стихотворную метафору, и теоретические постулаты Хлебникова, и его числовые законы — и есть, видимо, то “будущее”, которое сам он больше всего ценил в художественных вещах: ‹...› они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока мы не умеем определить, чтó создает эту скорость. Но знаем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, зажигает настоящее. Этот источник, ощутимый в Хлебникове яснее, чем в других поэтах, дороже и важнее, чем его последствия; как бы интригующи ни были исторические предсказания Хлебникова, как бы ни увлекали возможности его звукового письма и сверхъяркого сравнения — но, занявшись исключительно удачными или неудачными “находками” и “достижениями” Хлебникова, мы упустим то самое будущее, пронзающее настоящее, о котором он и думал. Такой была его апология искусства как действенного и преобразующего мир познания.
Ответственность исследователя и поэта — после открытий Хлебникова — требует не подхвата и развития его содержательных мотивов или новостей, внесенных им в мир формы и поэтического языка. Это ответственность осознать и принять новый уровень смысловой насыщенности искусства, ключ к которой — скорость и прямизна пути. Скорость уловления и передачи связей, проникающих мироздание; прямота и „кратчайшие пути”, минующие всё тривиальное и упаковочное, воля к тому, чтобы мельчайшие составные речи стали атомами смысла. Классически ясное четверостишие:
Урок Хлебникова — урок скорости восприятия и связывания вещей вселенной, само поспевание за которой требует от читателя, очищенного от лени и корысти, от самолюбия, прибоя рынка, внимательнейшего и доверительного прислушивания.
Небольшим интерпретационным этюдом — собственно, реальным комментарием к одной строфе Хлебникова — я хочу показать проявление этой скорости его письма. Путь реального комментирования Хлебникова очень сложен: прежде всего, его эрудиция, выходящая за пределы гуманитарных сведений, непредсказуема и неповторима. Далее — в контраст другой “темноте”,— О. Мандельштама — трудность истолкования хлебниковских цитат и вставок из реальности как раз в том, что он вносит их в свои вещи прямо, наподобие аппликаций, не перестраивая и не преобразуя в сложные метафоры. Такие аппликации “сырой” реальности могут оказаться у Хлебникова в самых неожиданных местах — а, в отличие от аппликаций в современном изобразительном искусстве, в словесном ряду они трудно различимы. Так, без реального комментария о связи сюжета «Синие оковы» с сёстрами Синяковыми невозможно было бы адекватное восприятие названия, то есть лёгкого фонетического изменения фамилии адресатов. О сколько-нибудь полном реальном комментарии к Хлебникову пока трудно мечтать. Но каждая находка такого рода (см., в частности, расшифровку загадочного стихотворения «Меня проносят на слоновых...», сделанную Вяч.Вс. Ивановым: стихотворение оказалось описанием индийской гравюры, изображающей Вишну на слоне, составленном из девушек. — Труды по знаковым системам. Вып. III. Тарту, 1967) ещё раз показывает “незаумность” Хлебникова и большую определённость и конкретность его слова. Для интерпретации избранного мной фрагмента оказался необходим этнографический комментарий (прекрасная осведомленность Хлебникова в славянской этнографии и мифологии известна).
Строфа из «Игры в аду», принадлежащая Хлебникову и не включенная в текст поэмы, — законченный эпизод из мозаичной композиции; окружение его не проясняет:
В сложности интерпретации этой строфы нет ничего такого, что принято считать типично хлебниковской сложностью. Чистота и прозрачность синтаксиса, напоминающая Пушкина или Блока, — а при этом общий смысл их мы улавливаем примерно так, как кэрролловская Алиса балладу о Джаберруоке: кто-то делает что-то и кто-то ещё что-то. “Он” к “ней” (я к ты) как-то относится, или не относится. Противопоставляет ли их союз и или соединяет? Есть впечатление, что два героя строфы связаны чем-то общим — и в какой-то мере противопоставлены. Именно в поэтическом мире Хлебникова трудно остановиться на такой неопределённости и туманности смысла, вполне удовлетворившей бы нас в Блоке.
Естественно искать ключ в барвинке, в его символике. Барвинок — традиционный символ-цветок южнорусского фольклора и ритуала. Мы можем испробовать в интерпретации два круга его образных значений.
Барвинок — это цветок из свадебных и любовных песен. Тогда ты в нашем фрагменте — невеста, я — инок в духе „бедного рыцаря”; четверостишие переносит в католическую атмосферу, поскольку для православия такая рыцарская преданность “небесной деве” не характерна. Героев в таком случае связывает взаимный отказ друг от друга.
Вторая возможность. Барвинок используется в гаданиях и приворотах. Именно в таком значении поминает Хлебников этот цветок в стихотворении:
Но оба предложенные выше толкования кажутся неточными уже потому, что в них не вписывается главный признак противопоставления: ты молчалива — и я живу. Этнографический подтекст, полнее расшифровывающий строфу, — это особый ритуал похорон девушки, известный на Украине, в Карпатах, у казаков. Не приходится сомневаться, что Хлебников интересовался этими обрядами (см. «Ночь в Галиции», «Мава Галицийская»). Обряд состоял в венчании умершей с живым — “вдовцом”: обменивались восковые перстни, разыгрывалось настоящее свадебное шествие со сватами, “боярами”, венчальным деревцем (Сведения об этом обряде см.: Червяк К. Дослiдження похоронного обряду (Похорон як весiлля) // Етн. вiсник, кн. 5. Київ. 1927; Кузеля З. Українскiй похоронi звичаї й обряди в етнографiчнiй литературi. // Етн. збiрник, XXXI–XXXII. Львiв. 1912). В этом-то, очень архаичном обряде, участвует и барвинок, по-другому именуемый могильница, гроб-трава (Даль). Если принять такой этнографический подтекст, то действие четверостишия из “католической” атмосферы переносится в южнорусскую (малоросскую, казацкую); молчаливость и надменность “Её” получают естественное толкование; религиозно-христианский момент исчезает: инок употреблён в непрямом смысле; небесная дева — та же Ты. Верность героя обращена к “Ней”.
Такая интерпретация четверостишия может быть удостоверена другими стихами Хлебникова, тему которых нередко составляет “мёртвый жених”, “мёртвая невеста”, более общее — славянская мифологическая семантика смерти как свадьбы. Ср. хотя бы:
Итак, обратившись к якобы маргинальной строфе, мы обнаруживаем зашифрованную в ней одну из общих, настойчиво повторяющихся и важных тем хлебниковской поэзии и прозы: тему связи со смертью, присутствие памяти о конце. Смысл этом темы у Хлебникова — не кладбищенский ужас или последнее уныние, как у Ф. Сологуба. Как все состояния, изменяющие и обостряющие сознание, переживание предстоящего конца открывает новый взгляд на жизнь: быстрый, прямой, цельный — “иной” (то, с чего и начался наш разговор о Хлебникове). Так эта тема и толкуется в стихотворении «Ни хрупкие тени Японии...»:
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 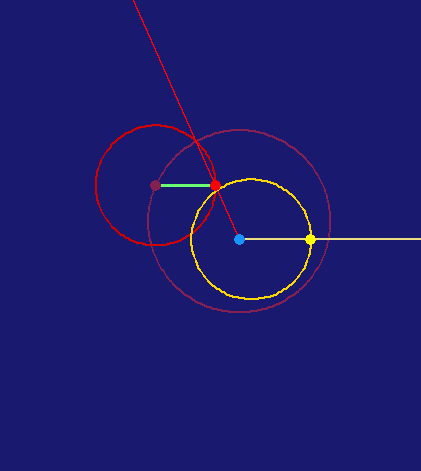 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||