Ранчин А.М.
Из книги «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского
Бродский и Велимир Хлебников
В отличие от “Маяковского” пласта, реминисценции из Велимира Хлебникова единичны у Бродского и не сцеплены в систему. Это естественно уже потому, что в поэзии Велимира Хлебникова, — чем он совершенно не схож ни с Маяковским, ни с Бродским, — нет объединяющего разные стихотворения лирического героя и лирической биографии. Сближает Бродского и Велимира Хлебникова отношение к слову.
Звуковым станком языков является азбука, каждый звук которой скрывает вполне точный пространственный словообраз, — замечает Велимир Хлебников в письме Г.Н. Петникову.1 Соответственно буквам / звукам у Велимира Хлебникова приписывается конкретная семантика, выражение того или иного понятия.2
Соответственно буквам / звукам у Велимира Хлебникова приписывается конкретная семантика, выражение того или иного понятия.2 Кроме того, различные звуки / буквы соответствуют разным геометрическим моделям Пространства:
Кроме того, различные звуки / буквы соответствуют разным геометрическим моделям Пространства:
‹...›
с нашей площадки лестницы мыслителей стало видно, что простые тела языка — звуки азбуки — суть имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира ‹...›.
3
Приписывание отдельным звукам определенной семантики совершенно несвойственно Бродскому, основными единицами, первоэлементами текста и смысла у которого являются не звуки и даже не слова и строки, а фразы и надфразовые образования. Но в картине мира у Бродского первоэлементами выступают именно буквы:
Шарик внизу, и на нем экватор.
‹...›
Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.
«Стихи о зимней кампании 1980 года», 1980 [III; 11]
Эти строки созвучны стихам Велимира Хлебникова, воплощающим образ мира-книги:
Книги единой,
Чьи страницы — большие моря,
Что трепещут крылами бабочки синей,
А шелковинка-закладка,
Где остановился взором читатель, —
Реки великие синим потоком ‹...›4
Образ “буквы как первоэлемента мира” у Бродского сходен, конечно, не только с идеями Велимира Хлебникова. Это один из топосов культуры. Кроме того, в отличие от произведений будетлянина-футуриста, у автора «Стихов ‹...›» это только поэтический образ, а не “иллюстрация” к собственной философии языка. Тем не менее совпадение несомненно.
Подобно Велимиру Хлебникову-теоретику, Бродский-поэт описывает букву и слово как нечто большее, чем условный знак, как иконический образ. Человек
прибегает к этой форме — стихотворению — по соображениям, скорей всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к телу.
«Нобелевская лекция» [I; 15]
Метонимией “благой вести”, Евангелия в его стихах оказывается шрифт („Но мы живы, покамест / есть прощенье и шрифт” — «Строфы» («Наподобье стакана…») [II; 459]). Предметы сравниваются с буквами («Сад густ как тесно набранное ‘ж’» — «Гуернавака» [II; 366]), их название сокращается до инициальной буквы („на берегу реки на букву ‘пэ’” — «Набережная р. Пряжки», 1965 (?) [I; 460]).
Ответом лирического “Я” на “экзистенциальные вопросы” становятся метаязыковые описания.
Снятие антиномии “вещь” — “знак”, характерной для конвенциональных знаков, как буква и слово, проявляется у Бродского в развертывании слова, высвечивании его внутренней формы, овеществлении типографского слова, отождествлении парной рифмовки с набегающими по двое волнами (цикл «Часть речи»):
И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, „прощай”.
«Север крошит металл, но щадит стекло…» [II; 398]
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос…
«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» [II; 403]
Есть, однако, у Бродского и стихотворение с прямыми реминисценциями из Велимира Хлебникова: «Классический балет есть замок красоты…» (1976). Первая из них: „‹...› крылышкуя скорописью ляжек, / красавица, с которою не ляжешь, / одним прыжком выпархивает в сад” (II; 386). Вторая: „Когда шипел ваш грог, и целовали в обе, / и мчались лихачи, и пелось бобэоби, / и ежели был враг, то он был маршал Ней” (II; 386). Цитируются классические хлебниковские «Бобэоби пелись губы» и «Кузнечик» (Крылышкуя золотописьмом ‹...›),5 но хлебниковские новации превращаются у Бродского в архаику, в знаки “искусственной”, классической традиции, отделенной от нас золотой рамкой рампы. Футуризм Хлебникова переносится в век девятнадцатый, с Чайковским и маршалом Неем, бобэоби, по Велимиру Хлебникову, — звукообраз губ6
но хлебниковские новации превращаются у Бродского в архаику, в знаки “искусственной”, классической традиции, отделенной от нас золотой рамкой рампы. Футуризм Хлебникова переносится в век девятнадцатый, с Чайковским и маршалом Неем, бобэоби, по Велимиру Хлебникову, — звукообраз губ6 — оказывается песней, рифмующейся с домашне-дружеским „и целовали в обе”.
— оказывается песней, рифмующейся с домашне-дружеским „и целовали в обе”.
Взгляд извне, из современности, уравнивает Чайковского и Хлебникова как культурные символы.
Иными словами, отношения “Бродский — футуризм” оказываются частным случаем связей поэта с культурной традицией. Бродский, осознающий себя “хранителем культуры”,7 соотносит свое творчество с “мировым поэтическим текстом”. Но он не представляет свое творчество “фрагментом” мировой традиции, а, напротив, делает ее частью собственных стихотворений. В этом Бродский напоминает футуристов.
соотносит свое творчество с “мировым поэтическим текстом”. Но он не представляет свое творчество “фрагментом” мировой традиции, а, напротив, делает ее частью собственных стихотворений. В этом Бродский напоминает футуристов.
Внешние проявления поэтического механизма Бродского — цитатность и акцентированная форма. В этом есть сходство с постмодернистской поэтикой. Сходство, однако, ни в коем случае не означает внутренней близости или глубокого родства.
«Скрипи, мое перо…»:
реминисценции из стихотворений Пушкина и Ходасевича в поэзии Бродского
‹...›
Входящее в цикл «Часть речи» стихотворение «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» отсылает к пушкинским строкам из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»:
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня
Парки бабье лепетанье,
‹...›
Жизни мышья беготня…
(III; 186)
Очевидная реминисценция из этого пушкинского текста есть в стихотворении Бродского «В твоих часах не только ход, но тишь…» (1963):
Так в ходиках: не только кот, но мышь,
они живут, должно быть, друг для друга.
Дрожат, скребутся, путаются в днях.
Но их возня, грызня и неизбывность
почти что незаметна в деревнях.
(I; 267)8
Мышь у Бродского — субститут или метафорическое обозначение поэтического “Я”. Это повторяющийся образ, воплощающийся в таких поэтических формулах, как душа — мышь, мышь, скребущаяся в печи, мышь — символ стороннего взгляда на мир из будущей эпохи:
душа твоя впоследствии как мышь.
«Зофья (поэма)», 1962 [I; 180]местность, куда, как мышь,
быстрый свой бег стремишь…
«Песни счастливой зимы», 1964 [I; 307]и слушать в сумраке ночном,
как в позвоночнике печном
разбушевалась мышь.
«Как славно вечером в избе…», 1965 [I; 429][593]9
Я беснуюсь, как мышь в темноте сусека!
«Речь о пролитом молоке», 1967 [II; 37]‹...› жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,где хуже мышиглодал петит родного словаря
‹...›
Кирпичный будоражит позвоночник
печная мышь.«Разговор с небожителем», 1970 [II; 209, 213]И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным когтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит
через дорогу, чтоб не прийти в нору
в полночь. Ни поутру.
«Торс», 1972 [II; 310]Закат, выпуская из щели мышь,
вгрызается — каждый резец оскален —
в электрический сыр окраин,
в то, как строить способен лишь
способный все пережить термит.
«В окрестностях Александрии», 1982 [III; 57–58][594]10
Только мышь понимает прелести пустыря
‹...›
Ничего не исправить, не использовать впредь.
Можно только залить асфальтом или стереть
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой
бетонного стадиона орущей массой.
И появится мышь. Медленно, не спеша,
выйдет на середину поля, мелкая, как душа
по отношению к плоти, и, приподняв свою
обезумевшую мордочку, скажет „не узнаю”.
«В Англии. II. Северный Кенсингтон», 1977(?) [II; 434, 435]
На связь образа мыши у Бродского (на примере стихотворения «Разговор с небожителем») и древнегреческой мифологемы мыши, подвластной Аполлону, указала В.П. Полухина.11 Недавно, по-видимому независимо от нее, эту мысль повторила Н.И. Стрижевская, считающая пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» источником стихотворения Бродского «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…».12
Недавно, по-видимому независимо от нее, эту мысль повторила Н.И. Стрижевская, считающая пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» источником стихотворения Бродского «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…».12 И В.П. Полухина, и Н.И. Стрижевская возводят мышей из стихотворения Бродского к древнегреческим мифологическим представлениям о мышах — хтонических животных, функционально тождественных Музам и связанных с Мнемозиной. В греческой мифологии, как напомнила Н.И. Стрижевская, мыши соотносятся со временем и напоминают Парок. Обе исследовательницы ссылаются на статью Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь», в которой подробно прослежена мифологема мышь-муза. Н.И. Стрижевская анализирует семантику образа мышей в стихотворении Бродского: мыши означают истребляющее память время, судьбу, а также саму поэзию (язык) как силу, инородную человеку и властвующую над смертными.13
И В.П. Полухина, и Н.И. Стрижевская возводят мышей из стихотворения Бродского к древнегреческим мифологическим представлениям о мышах — хтонических животных, функционально тождественных Музам и связанных с Мнемозиной. В греческой мифологии, как напомнила Н.И. Стрижевская, мыши соотносятся со временем и напоминают Парок. Обе исследовательницы ссылаются на статью Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь», в которой подробно прослежена мифологема мышь-муза. Н.И. Стрижевская анализирует семантику образа мышей в стихотворении Бродского: мыши означают истребляющее память время, судьбу, а также саму поэзию (язык) как силу, инородную человеку и властвующую над смертными.13
Но ни В.П. Полухина, ни Н.И. Стрижевская не заметили очевидной параллели к тексту Бродского — многочисленных стихотворений Ходасевича (цикл «Мыши», стихотворения «Из мышиных стихов», «Мышь», «Про мышей», «Бедный Бараночник болен: хвостик, бывало, проворный…»), навеянных мифологемой мыши, о которой писал Волошин.14 Мышь в стихотворении Ходасевича «Из мышиных стихов» воплощает иной, не-человеческий взгляд на мир людей, в котором идет война. Также и у Бродского в стихотворении «Торс», написанном за четыре года до цикла «Часть речи», мышь означает иноприродное видение реальности, она существует в мире, где нет места человеку.
Мышь в стихотворении Ходасевича «Из мышиных стихов» воплощает иной, не-человеческий взгляд на мир людей, в котором идет война. Также и у Бродского в стихотворении «Торс», написанном за четыре года до цикла «Часть речи», мышь означает иноприродное видение реальности, она существует в мире, где нет места человеку.
Соотнесенность грядущего с мышами в стихотворении Бродского имеет также фонетическую мотивировку, на что недавно указал Лев Лосев, сославшись на устный автокомментарий поэта: „Бродский говорил, что слово ‘грядущее’ у него ассоциируется с ‘грызущее’, — поэтому мыши, грызуны, и выбегают на это слово ‹...›”.15
Интертекстуальные переклички с поэзией Ходасевича в стихотворении «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» не ограничиваются концептом мыши. Строки:
…и при слове ‘грядущее’ из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявый —
(II; 415)
несомненно восходят к последнему, незаконченному стихотворению Ходасевича «Не ямбом ли четырехстопным…». Цикл Бродского «Часть речи» посвящен русскому языку и словесности, последние стихи Ходасевича — четырехстопному ямбу и близившемуся двухсотлетнему юбилею первого русского стихотворения, написанного четырехстопным ямбом, — оды М.В. Ломоносова на взятие Хотина (1739).
Ходасевич противополагает преходящую славу военных побед бессмертию стиха. Таким образом, поэзия для него противостоит разрушительному ходу времени:
Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
(С. 302)
Бродский подхватывает образ “изгрызенной памяти”, но придает ему совсем иной смысл: поэзия не противоположна времени, но соприродна ему; она — надличностная сила, чей поток стирает индивидуальную память. (Гимн четырехстопному русскому ямбу Ходасевича подхвачен в стихотворении Бродского «Сжимающий пайку изгнанья…», 1964, в котором появляется и ходасевичевский образ лампы, ассоциирующейся с творчеством.16 )
)
Строки из стихотворения «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» — гиперцитата, в которой объединены реминисценции не только из Пушкина и Ходасевича, но и из поэтических текстов других авторов. Одна из параллелей к стихам Бродского — мандельштамовское „Что зубами мыши точат / Жизни тоненькое дно” («Что поют часы-кузнечик…»),17 несомненно, восходящее к притче, пересказанной в «Исповеди» Л. Н. Толстого. Другая — строки Велимира Хлебникова из стихотворения «Алёше Кручёных»:
несомненно, восходящее к притче, пересказанной в «Исповеди» Л. Н. Толстого. Другая — строки Велимира Хлебникова из стихотворения «Алёше Кручёных»:
Игра в аду и труд в раю —
Хорошеуки первые уроки.
Помнишь, мы вместе
Грызли, как мыши,
Непрозрачное время?
Сим победиши!18
Стихи Бродского в соотнесении с хлебниковскими предстают как зеркальное отражение: в «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…» мыши — служители и орудия будущего, то есть Времени и Смерти; в «Алёше Кручёных» мыши “враждебны” Времени — это поэты, пробивающиеся сквозь время. А в стихотворении Бродского «Письмо в оазис» (1991) мотив “поэт — мышь, грызущая Время”, представлен, наоборот, в своем исконном виде:
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.
Помол его жесток, крупицы — тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.
Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.
(IV; 29)
Стихи Бродского — своеобразный «Анти-памятник», в котором оспорен мотив долгой славы поэта, способной пережить великие пирамиды. Бродский утверждает смертность подобного мыши поэта, сопротивляющегося времени и в этом сопротивлении находящего смысл своего существования.
Примечания 1 Хлебников В
1 Хлебников В. Собрание произведений: В 5 т. Л., 1933. Т. 5. С 314.
 2
2 См.: Там же. С. 189.
 3
3 Хлебников В. «Художники мира!» //
Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 622. Ср. в статье «Наша основа» // Там же. С. 628–629.
 4
4 Там же. С. 466. Ср. интерпретацию этого образа:
Амелин Г.Г., Мордерер В.Я. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М., 2000. С. 287–288.
 5 Хлебников Велимир
5 Хлебников Велимир. Творения. С. 54, 55.
 6 Хлебников Велимир
6 Хлебников Велимир. Собрание произведений: В 5 т. Т. 5. С. 275–276.
 7
7 Ср. в «Нобелевской лекции» (I; 14–15).
 8
8 К стихотворению Пушкина восходит также строка „Носки от беготни крысиныя промокли” («Чем больше чёрных глаз, тем больше переносиц…» [III; 155]; указано Л.В. Зубовой).
 9
9 Это стихотворение построено на развертывании метафоры “дом – мышеловка”.
 10
10 Образ мыши, вылезающей из щели, наделён в подтексте непристойным эротическим смыслом: щель — эвфемистическое именование вагины, мышь — пениса (ср. загадку о мышке в известном анекдоте о поручике Ржевском). К этой теме см.:
Амелин Г.Г., Мордерер В.Я. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама М., 2000. С. 299–300;
Шапир М.И. Из истории “пародического балладного стих”а: 1. Пером владея как елдой. 2. Вставало солнце ало. // Анти-мир русской культуры. Язык Фольклор. Литература. М., 1996.
 11 Polukhina V
11 Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. P. 268–269.
 12 Стрижевская H
12 Стрижевская H. Письмена перспективы: О поэзии Иосифа Бродского. С. 281–289. О семантике образа мыши/крысы в поэзии Бродского см. также:
Majmieskuiow А. Поэт как „мусорная урна” (Стихотворение Иосифа Бродского «24. 5. 65 КПЗ» // Studia Literaria Polono-Slavica. Т. 4. Warszawa, 1999. P. 365–366 и 371–372. Note 16 (здесь же литература).
 13
13 Ср. пример, не учтенный Н.И. Стрижевской: соотнесение языка, стихотворения и “чистого времени” в эссе Бродского «Кошачье „Мяу”» (Иностранная литература 1997. № 10. С. 202; ср.: [VI (2); 236]).
 14 Богомолов Н.А
14 Богомолов Н.А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // Ходасевич В. Стихотворения. С. 17. Мыши из стихотворения Бродского, выступающие в роли своеобразного орудия времени, напоминают и о мышах, олицетворяющих день и ночь, из притчи о путнике, входящей в санскритский сборник «Панчатантра». Эта притча была переложена В.А. Жуковским («Две повести. Подарок на Новый год издателю «Москвитянина». Из Шамиссо и Рюккерта») и воспроизведена в «Исповеди» Л.Н. Толстого (
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 118–119). Учитывая интерес молодого Бродского к индийской философии (
Радышевский Д. Дзэн поэзии Бродского // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 287–288;
Сергеев А. Omnibus. Роман, рассказы, воспоминания. М., 1997. С. 437), нельзя исключать его знакомства непосредственно с этой притчей. Замечу, что „серые цинковые волны” в стихотворении «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» соотносятся со стихотворением У.Б. Йейтса «The pity of love» («Сожаление о любви»), в котором встречаются такие строки: „mouse-grey waters are flowing, Threaten the head, that I love” („мышино-серые воды текут, / Угрожая голове, / которую я люблю”). Через эпитет “мышино-серые” этот текст соотносится со стихотворением Бродского «…и при слове ‘грядущее’ из русского языка…». Йейтс был для Бродского одним из наиболее значимых поэтов, писавших по-английски (см. эссе Бродского «Как читать книгу» (Знамя. 1996. № 4. С. 7; ср.:
Бродский И. Письмо к Горацию / Пер. с англ. М., 1998. С. XIII; ср.: [VI (2); 84]). У Бродского мыши и вода — манифестация времени. Связь не только с временем, но и с водой (в частности, с мертвой водой) характерна для мифологического образа мыши (см.:
Топоров В.Н. Mousai «Музы»: соображения об имени и предыстории образа (К оценке фракийского вклада) // Славянское и балканское языкознание: Античная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977. С. 54).
 15 Лосев Лев
15 Лосев Лев. Примечания с примечаниями // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 158. Похожее, но не тождественное высказывание есть в интервью Бродского Еве Берч и Дэвиду Чину: образ языка как мышей в „какой-то мере ‹...› относится к фонетике русского слова ‘грядущее’, которое фонетически похоже на слово ‘мыши’. Поэтому я раскручиваю его в идею, что грядущее, то есть само слово, грызет — или как бы то ни было, погружает зубы — в сыр памяти” (Поэзия — лучшая школа неуверенности //
Бродский И. Большая книга интервью. С. 59–60). Фонетическое сходство слов ‘грядущее’ и ‘мыши’ воплощено в звуковой структуре стихотворения: „Слово влечёт за собой другое слово не только по смыслу, многие ассоциации возникают по созвучию: грядуЩее — мыШи — Шторой — ШурШание. За этой звуковой темой следует другая: Жизнь — обнаЖает — в каЖдой. Далее развивается третья: встреЧе — Человека — Часть — реЧи — Часть — реЧи — Часть — реЧи. Это не просто инструментовка на три темы шипящих согласных звуков, это слова-мыши, которые выбегают и суетятся при одном только слове ‘грядущее’” (
Баевский В.С. История русской поэзии: 1730–1980 гг. Компендиум. С. 272).
 16
16 „Сияние русского ямба / упорней и жарче огня, / как самая лучшая лампа, / в ночи освещает меня” (I; 319).
 17 Мандельштам О
17 Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 142.
 18 Хлебников Велимир
18 Хлебников Велимир. Творения. М., 1986. С. 126.
Воспроизведено по:
Андрей Ранчин. На пиру Мнемозины. Интертексты Иосифа Бродского.
М., Новое литературное обозрение. 2001. С. 404–407, 412; 353–357, 368–369
Изображение заимствовано:
Машков И.И. (1881–1944)
Хлебы. 1912. Холст, масло. 105×133 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
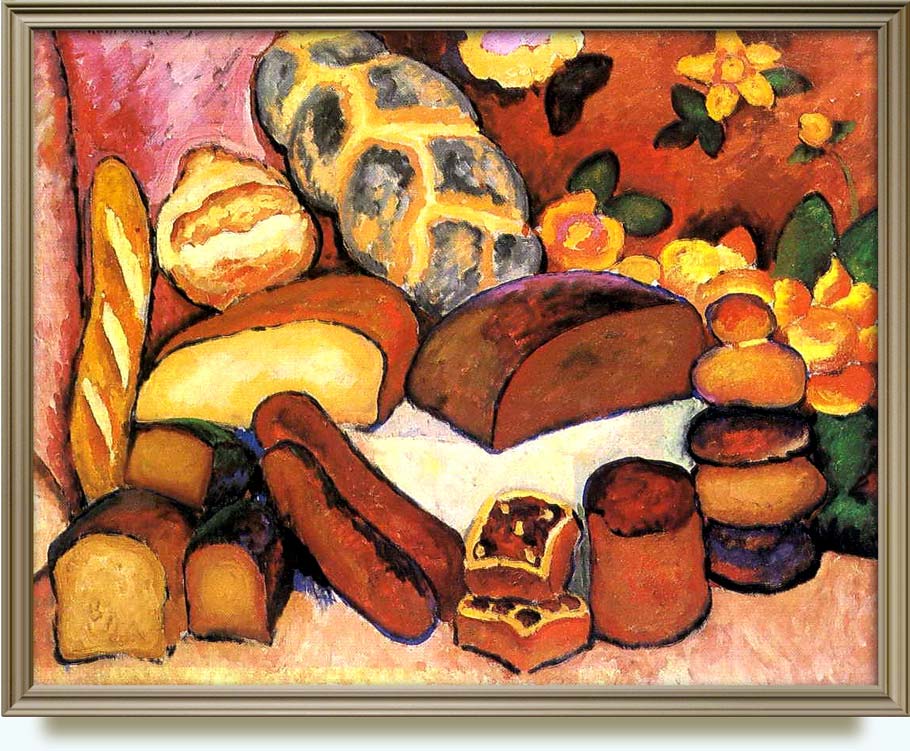
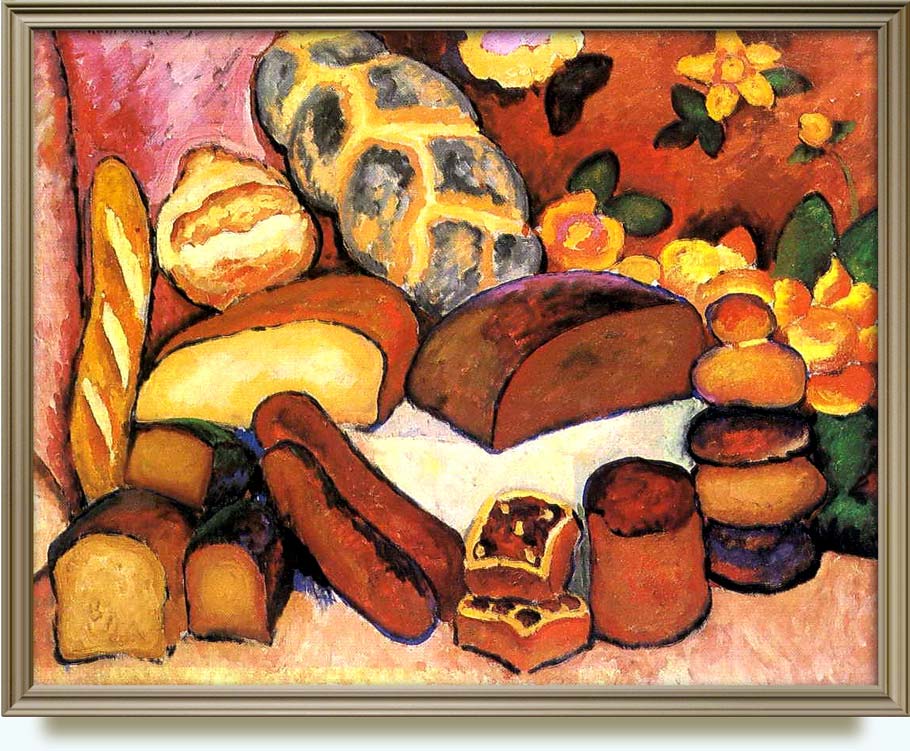
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()