

Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам.
Хлебников
Это похоронили В. Хлебникова. В Петербурге только одна газета отметила его смерть.
Менее чем за год до этого умер А. Блок.
Две судьбы, два мира, два века и две меры, которыми отмерены эти две жизни: мера пространства и мера времени.
Блок не принадлежит ни нашему поколению, ни нашему времени; он по ту сторону революции, в том тяжелом конце гуманизма, который есть XIX век. Это мир пространства, нас не знавший и отвергнувший; как страстно эти люди — люди этого века — ни предчувствовали чудесный переход в новый мир, в новую меру мира, — они не нашли выражения своей предчувствовавшей тоске; форма, которую Хлебников лаконично выразил словами: кольцо юношей, объединившихся не по соседству пространства, но в силу братства возрастов, — не была для них самой полной, общей и наиболее чистой формой для выражения полной, общей чистой и единственной особенности двадцатого века: его нового чувства времени.
Все свидетельства царств и эпох, которые мы только знаем, указывают на то, что время, с тех пор, как его впервые ощутили, и до сих пор, понималось как последовательная и как бы плоская непрерывность, точно будто бы идущая сквозь мир, как его жизнь. Однородно этому некогда понимали и пространство. Архаические египетские тексты рассматривают: „Солнце, как Око бога, тучи, туманы и грозы, ночной мрак — как его врагов“ (Тураев, 34).
Ночь, подобно туче, поглощает Солнце, пока бог не прогонит ее. В таком представлении о смене дня и ночи нет отчетливо чувствуемого пространства, ибо солнце не опускается за черту, подымаясь в другой стороне на утро, а как бы стоит в небе, поглощаемо на ночь мраком. Памятники доисторического искусства, даже в эпоху острого и сознательного реализма, точно так же не развертывают пространства; смутно отмечено правое и левое и ничем не выражена глубина. Пространство воспринималось, как плоская и замкнутая непрерывность, как кусок места, где стоял человек.
До сих пор время также не знало ни своего правого и левого, ни своей глубины; оно определялось непрерывным прошлым, ушедшим как бы по плоскому и прямому пути, и неведомым будущим, находящим плоскостью на то ‹ребро?›, что сейчас.
Начало XX века одновременно в разных областях знания и познания, как бы по закону детонации, сделало проблему времени основной проблемой века. Наиболее богатые результаты получены, по-видимому, физикой и, думаю, в художественном творчестве. Так что мне вновь представляется, что по одну сторону ворот, ведущих в нашу эру, стоит теория Минковского–Эйнштейна, по другую — теория государства времени В. Хлебникова.
По имеющимся у меня, но непроверенным сведениям, Эйнштейн написал приветственное письмо русским футуристам, изучающим время; письмо было адресовано Хлебникову. Т‹ак› к‹ак› Х‹лебников› не знал, кто, кроме него, из русских футуристов занимается исследованием времени, то письмо это он целиком принял на себя.
Хлебников прежде всего поэт, поэт чудесный, вскормленный гораздо более глубокими традициями, чем русский (пушкинский) классицизм. Насколько могу судить, он дошел в работе над языком до дна русско-славянских традиций и, как поэт (речетворец), творец слов, глубже идти не мог: глубже не шло русское слово; несмотря на то, что он, Хлебников, был одним из наиболее древних людей нашего времени, вспоминающим куски мира из времени до стоянок и царств. Он различал за бытовым солнечным значением слова его ночной звездный разум (понятие о самовитом слове), вскрывал через мудрость языка световую природу мира и говорил солнцу:
Можно думать, что он был древнее Солнца. Такая древность позволяла ему проникать в более глубокие времена, чем те, в которых терялись славяно-русские традиции, и, уйдя за пределы солнечной системы (в миры самовитых слов), искать законов судьбы и находить их.
Таким образом, этот человек сам был Гаммой Будетлянина, о которой он писал, что она одним концом волнует небо, а другим скрывается в ударах сердца. Новое чувство времени, как общая единственная особенность XX века, наострило оба эти конца, и в своих последних работах Хлебников излагал уже стихами законы рока, говоря:
Уместно потому начать изучение времени как новой меры мира, притом меры, в данном случае, установленной (данной) искусством, со стихов Хлебникова.
Все стихотворные формы, сложившиеся в традициях классического гуманизма, не знали времени как элемента поэтического опыта; они пользовались временем лишь в том виде и в той форме, какие свойственны ему в жизни, т.е. за пределами поэтического опыта; в стихах было столько времени, сколько фактически требовалось на прочтение или произнесение их, иначе говоря, ноль поэтического времени.
Форма развертывалась в пространстве. Покажем, что это так, хотя бы на стихах Блока, характерного гуманиста, трагически замкнувшего круг русских гуманистических традиций. Рассмотрим два его стихотворения, развертывающие разнородные пространства; ну, хотя бы вариант «Незнакомки» и первое стихотворение из цикла «Возмездие». Не говоря уже о ритмическом однообразии этих двух стихотворений, качающихся, как золотые иглы мачт неподвижного паруса, но и отдельные мотивировки тем, приемы их развертывания и, наконец, сами темы замкнуты в пространстве, соответствующем всегда одной единице времени — мгновению.
Действительно, вариант построен на мотивированном развертывании пейзажа в плоском пространстве и не имеет другого времени, кроме того, каким владеет сам поэт в момент его созерцания (написания).
Место описано, как бы очерчено кругом, следующая строфа раскрывает его качество:
Затем следует личное отношение поэта к месту (пространству):
Может показаться, что „Ее“ приходом рождается действие, т.е. какая-то временная последовательность, но, во-первых,— поэт этого действия не показывает, а только рассказывает о нем, а во-вторых, описание действия (показывание его) не может дать чувство поэтического времени, подобно тому, как быстрое перебирание ног при ходьбе не ускоряет течения времени. Замечательно то, что поэт в дальнейшем, явно желая изобразить Незнакомку, описывает не „ее“, а то, как „она“ приходит, т.е. не вынимает ее из этого замкнутого пространства „загородных дач“, а, наоборот, называет только те ее черты, которые именно здесь в этом ландшафте стали ему известны и привычны; с этой целью — сохранить образ в заданном пространстве — перебиты четвертая и шестая строфа пятой, где характеристикой личного отношения образ Незнакомки снова притягивается к личности поэта, к мгновению его созерцания.
Открытой и недоумевающей восторженностью этой строфы дается выход той бьющейся жажде описать Незнакомку, которая нарастает в четвертой и кипит в шестой строфах. Выход этот необходим, т.к. описание Незнакомки может вывести ее из очерченного пространства, и это тем более вероятно, что в шестой строфе поэт, видимо, бессознательно стремится описать ее, и глагол „оглушена“, который возвращает Незнакомку ландшафту, оттянут в самый конец строфы — против третьей строчки четвертой строфы. Конечно, он только оттянут, и единство временнóе, единство пейзажа, в конце концов, не нарушено ничем. Шестая строфа почти на грани этого выхода, т.к. глагол („оглушена“), который возвращает Незнакомку ландшафту, оттянут в самый конец строфы (против третьей строчки в четвертой строфе — глагол „сквозит“), но тем не менее поэт, покорный законам своих вековых традиций, не выходит за круг предначертанного ему и очерченного им: временное единство пространства не нарушено и в этой строфе ничем.
И как бы на‹поминая› о круге, поэт намеренно в следующей строфе употребляет эпитет, обобщающий качества описываемого ландшафта, стягивая, таким образом, тему кольцом безвременного пространства.
Таким образом, вся тема развернута в мгновении в плоском пространстве очерченного пейзажа.
Сложнее показано пространство во втором из названных стихотворений — из цикла «Возмездие». Стихотворение начинается описанием воспоминания поэта чувствах, некогда им владевших:
Намечена как бы одна пространственная плоскость:
Дана как бы вторая пространственная плоскость:
Это как бы третья плоскость; четвертая занимает полторы следующей) строфы:
Наконец, след‹ующая› строфа намечает как бы пятую плоскость:
Но эта пятая плоскость есть — настоящее, именно то мгновение, в которое поэт заключил тему; поэтому стихотворение не сопоставляет пространства различных реальных времен, а только собирает воспоминания в одно реальное время, в мгновение воспоминания. И как бы подтверждая это, поэт кончает, замыкая кольцо возвращением к теме первой строфы:
В стихотворении нет места действия, во всяком случае оно не показано, но тем не менее тема развернута только в пространстве и никакой другой протяженности не имеет; в целом форма дана в мгновении воспоминания, т.е. именно в том времени, которым владел поэт в момент его написания (читатель в момент его произнесения или чтения), иначе говоря, в ноль поэтического времени.
Блок не знал, да и не мог знать поэтической формы другой меры времени. Для этого нужно было выйти за пределы его века, его рока, или, говоря языком Хлебникова, заняться похищением времени.
Все поэтическое творчество Хлебникова есть восхитительная охота на различных глубинах времени.
К периоду 1906–1908 гг. относится небольшая поэма «Училица», где училица Бестужевских учин (т.е. курсистка) показана героиней романа с боярским сыном Володимирко. Поэма кончается словами:
Это наиболее простой прием объединения сюжетом двух различных временных эпох, то, что обычно называется временным сдвигом. Простой прием такого сдвига изучаем в рассказе «Мирсконца»: герои живут (действуют) от смерти к рождению. Рассказ кончается на V главе двумя строками: Поля и Оля с воздушными шарами в руке, молчаливые и важные, проезжают в детских колясках.
В ранних произведениях Хлебникова простых приемов временнóго сдвига очень много, это первые молодые удары по спине неподатливого времени. Повесть «Ка» вся построена в различных временных слоях, и это мотивировано исчерпывающе самим Хлебниковым:
Синтетическое (интегрированное) сознание и есть сознание новой эры, в теоретической литературе определенное как кубизм. Девятнадцатый век легко зачертить индивидуализирующими стрелками, стремящимися в разные направления от некоторой точки. Их нельзя собрать, вычеркивая то одно, то другое направление, но следует, освободив их от того, что можно определить как одежду прошлого, интегрировать в душе, которая для этого должна ‹у›же быть более чем когда-либо сосредоточенной, ясной укладчицей в кратчайшие сроки.
Таков Хлебников. Его уменье собрать не повторено в поэтической литературе Европы. Отметим то, что нет таких четырех строчек, в которых вновь не была собрана вся душа Хлебникова, между тем как такие большие мастера, как Пикассо, этого не постигают. Общность методов и Хлебникова и Пикассо–Брака заслуживает особого внимания (эту последнюю о Хлебникове как поэте отметку необходимо сделать, т.к. она выясняет пределы значения отдельных приемов, постепенно передвигая нас к цели нашей работы: изучению государства времени).
Как выше сказано, в пределах поэтического, равно и живописного, опыта время не играло до сих пор самостоятельной роли. Кубизм определил эту роль, найдя, что поэтическое время, т.е. время, вызванное поэтическими приемами, не совпадает с реальным временем, причем это творческое время получается либо, как это уже показано, от произвольного сопоставления различных временных плоскостей, либо от обработки элементов формы, напр‹имер›, матерьяла, фактуры. В первом случае тем резче несовпадение времен (реального и художественного), чем меньше произвольное сопоставление мотивировано (чем оно менее иллюзорно). Такие, напр‹имер›, стихи Хлебникова:
Мы различаем здесь по числу строк четыре временных плана, немотивированно собранных в один подцвеченный рисунок; каждая строка соответствует в реальности обособленному восприятию, имеющему свое время; вместе с тем такие слова-образы, как котенок, крылья и брови, Хокусай и Мурильо, своими контрастами при сопоставлении дают чувство глубины во времени; благодаря чему все стихотворение воспринимается как более или менее прозрачная форма в воздухе, форма, имеющая различные плоскости разного преломления, так что мир исторический и мир настоящий просвечивают сквозь них, или ложатся на них тенями, с различной отчетливостью: почти осязаемой становится тень в строчке: А брови — матери Мурильо, и как тень от облака звучит первая строка четверостишия.
Временнóе построение формы богато развито в следующем, например, стихотворении.
Эти великие стихи, прозрачные для чувства страдания и смерти в бессмысленном бою, смело и метко взяты как форма временнóго построения. Если волку прилично говорить ем, то ведь у матерей иное чувство к сыну, не следовало ли об этом подумать нам, старцам. Поэт, начиная стихотворение от своего лица, одновременно говорит как бы от лица людей старых, казалось бы, мудрых; в этом уже есть двухвременность формы; вместе с тем временную глубину дает “план волка” и “план матери”. Четыре слоя. Чудесный образ смуглой смерти, все более наглеющей в работе, дает пятый слой времени:
Стон городов, как бы покрывающий эти слои прозрачной плоскостью боли, и затем после этих влажных и почти патетических строк сухая и резко контрастирующая строка о разносчике сорок и дроздов, которая быстро завертывается, как по спирали, в следующих строках, резких фактурными контрастами:
Когда-нибудь будет вычислено, сыграла ли мировая война решающую роль в сложении этой теории. Во всяком случае манифест юношей «Труба марсиан» вышел во время войны, равно как к ‹19›16 году относится и знаменитое письмо к японцам. Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь изобретателей и Млечный Путь приобретателей, — эти первые слова священной вражды марсиан определили с беспощадной точностью два временных слоя в настоящем.
Разделение это мотивировано разностью задач поколений:
Мрачность такого отношения к старшему возрасту вызвана небывалой гибелью юношей и мертвым отказом младшему поколению изобретателей, но вот мотивировка более устойчивая, которую Хлебников сохранил и много позже.
Это будущее, которое в то время казалось неверным и далеким, видимо, уже под нашими ногами, и думаю, мало кто станет отрицать теперь, что в клетке оказались люди пространства.
«Письмо к японцам» ‹не› менее страстно и со всею прелестью хлебниковского языка также определяет две плоскости возрастов.
Это примиряющее спокойствие вносит величие в поступь хлебниковской идеи; она становится чистой идеей временных слоев, рассекающей мир на две эры: эру пространственного сознания человечества и эру времени, которое можно назвать пространством, поставленным на затылок.
В период написания «Трубы марсиан» и «Письма к японцам» никто из нас еще не оценивал этого деления, частью принимая его за футуристическую концепцию борьбы с пассеизмом. Страстность манифеста способствовала этому. Но в «Трубе марсиан» уже есть мысль, которая могла бы избавить теорию Хлебникова от каких бы то ни было сближений с Маринетти. Она загадочна, эта мысль, знал ли Хлебников сам ее полное содержание. Мысль заключена им самим в скобки: (О, уравнения поцелуев — вы! О, луч смерти, убитый лучом смерти, поставленным на пол волны).
В своей последней, еще не вышедшей из печати работе «Доски судеб» Хлебников пишет:
Была ли невыносима для Хлебникова мысль о полном исчезновении мира в смерти? Вся работа этого ума направляется в дальнейшем на борьбу со смертью, что есть не что иное, как борьба со временем, разделение и вражда возрастов в этой борьбе есть лишь первая истина о времени. Вот что говорится в названных «Досках судьбы»:
То есть возникновение государств пространства, тех, в которых мы до сих пор живем, зависело от изучения площадей пространства и им обусловлено; если бы далекие предки не научились делить полей, измерив пространство, мы не знали бы ни немецкого, ни русского места (государства). В одинаковой мере:
Делить время, различая его, подобно тому как узнавать Восток и Запад, было первым шагом нахождения законов движения Солнца для египтян, — для нас есть первый шаг измерения смерти.
Таким образом, мысль о вражде поколений поднята Хлебниковым как первый камень в лицо времени — молчаливого спутника, до сих пор не показавшего нам ни одной своей черты.1![]()
Но теперь во всех областях знания мы поставлены перед этим лицом. После того как Хлебников определил нашу эру как эру познания времени, его усилия продолжают находить новые и новые черты времени. Не могу изложить всех законов времени, установленных Хлебниковым, отсыла‹ю› к его книгам. (Многих уравнений не понимаю из-за скудности знания и развития). Но нельзя умолчать о последних мощных ударах, определяющих основные законы времени, согласно которым событие делается противособытием, а также о том, как Хлебниковым определяется взаимоотношение времени и пространства.
Решится ли кто-либо прибавить что-нибудь к этому достаточно одинокому чувству?
Закон времени, согласно которому событие делается противособытием, можно, вслед за Хлебниковым, назвать также законом добра и зла, этих двух колов, вбитых в пространство рукою времени для проведения границ. Если понять религию как систему борьбы со смертью, придуманную людьми пространства, то добро и зло есть пространственные меры религии. Хлебников пишет об этом так:
Это точное число выведено Хлебниковым после долгих вычислений времени прошлого; не приводя их, назовем его.
Через 3n событие делается противособытием — так гласит первый закон. Все прошлое рассекается этим законом на волны времен, из которых каждое в какой-либо степени кратно трем.
Один пример, на выбор:
26/Х 1581 г. Ермак начал движение на Восток, через 310 + 310, т.е. 26/II 1905 г. была битва при Мукдене, остановившая движение на Восток. Три в любой степени (или 3 + 3 в любой степени) есть скрепа времени, соединяющая событие и противособытие во времени:
Скрепы с большими степенями, согласно вычислению Хлебникова, заняты пляской и плеском государств, мировых событий, веков, малые же степени
Таков первый закон рока.
Второй закон гласит:
Таким образом:
И еще:
Эти два закона, открытые Хлебниковым, являются первыми числами — чертами, живописующими лицо времени. Мы еще ничего не знаем о степени их значения для человечества, но сам Хлебников пишет:
И затем, как предисловие к «Доскам судьбы», следующие стихи:
И еще:
Вещие слова «Трубы марсиан», взятые в скобки: (О, уравнения поцелуев — вы! О, луч смерти, убитый лучом смерти, поставленным на пол волны) — открывают ход мысли великого печальника о смертной судьбе человечества.
Не для того, чтобы показать бесконечное одиночество людей, которых легкомысленно называют футуристами, приведен был выше отрывок о смерти Хлебникова, но потому что там есть слова о Гайявате и о Хлебникове, заботящемся о всем мире. Хлебников кажется нам странным героем, вышедшим один на борьбу со смертоносными силами; странным кажется, что борьба эта началась с удара по поколениям; храбро и умно возвещается вражда возрастов; разделяется то, что не было никогда делимо. Уместно спросить, почему Хлебников, который всегда, последовательно собирал и сам был всегда полно собран, разделяет. Спрашиваем об этом, зная, что страшная гибель-распад, это то, что есть XIX век.
Кроме того, что вражда возрастов, есть первое деление во времени, она имеет и еще одно, в книгах Хлебникова, пожалуй, мало сказанное значение. Уже в «Письме к японцам» мы цитировали: если есть понятие отечества, то может быть и понятие сынечества.
По мере того как обнажаются лучи судьбы, исчезает понятие народов и государств и остается единое человечество, все точки которого закономерно связаны.
И еще:
1922
Подготовка текста А.Е. Парниса
 Имя Николая Николаевича Пунина, хрестоматийное в профессиональной искусствоведческой среде, знакомо и широкой читательской аудитории. Его деятельность была удивительно многогранна: блестящий художественный критик, исследователь, педагог, музейный работник, администратор — Пунин оставил яркий и своеобразный след во всех отраслях своего профессионального призвания. Работы Пунина посвящены византийскому и древнерусскому искусству, японской гравюре, русским художникам XIX и XX веков; его лекционные курсы по искусству Западной Европы охватывали время от раннего Возрождения до эпохи постимпрессионизма; целые поколения ленинградских искусствоведов с гордостью считали себя его учениками. В последние годы редкая книга по истории русского художественного авангарда обходится без упоминания имени Пунина.
Имя Николая Николаевича Пунина, хрестоматийное в профессиональной искусствоведческой среде, знакомо и широкой читательской аудитории. Его деятельность была удивительно многогранна: блестящий художественный критик, исследователь, педагог, музейный работник, администратор — Пунин оставил яркий и своеобразный след во всех отраслях своего профессионального призвания. Работы Пунина посвящены византийскому и древнерусскому искусству, японской гравюре, русским художникам XIX и XX веков; его лекционные курсы по искусству Западной Европы охватывали время от раннего Возрождения до эпохи постимпрессионизма; целые поколения ленинградских искусствоведов с гордостью считали себя его учениками. В последние годы редкая книга по истории русского художественного авангарда обходится без упоминания имени Пунина. По мере перелома в ходе гражданской войны и укрепления власти большевиков к ним потянулись уже совсем не романтически, а вполне практично настроенные силы. Самые консервативные, академические художники, которые были недавно столь нетерпимы к большевистскому правительству, устремились в организацию с самым революционным именем, в «Ассоциацию художников революционной России». Характерно уже то, что эта организация была создана в 1922 г., через пять лет после революции, когда вполне определилась расстановка новых сил и не было никакого риска в приближении к власти. Члены АХРР изображали на своих картинах революционные события, выступления вождей на съездах и, конечно, писали их портреты. Это искусство оказалось гораздо понятней и ближе коммунистическим правителям, чем искусство “футуристов”. По мере того как новая власть утверждалась и находила новых сотрудников для своего культурного строительства, она последовательно “вычищала” аппарат Наркомпроса от тех, кто первыми откликнулись на призывы большевиков к сотрудничеству, но оказались для них чужими.
По мере перелома в ходе гражданской войны и укрепления власти большевиков к ним потянулись уже совсем не романтически, а вполне практично настроенные силы. Самые консервативные, академические художники, которые были недавно столь нетерпимы к большевистскому правительству, устремились в организацию с самым революционным именем, в «Ассоциацию художников революционной России». Характерно уже то, что эта организация была создана в 1922 г., через пять лет после революции, когда вполне определилась расстановка новых сил и не было никакого риска в приближении к власти. Члены АХРР изображали на своих картинах революционные события, выступления вождей на съездах и, конечно, писали их портреты. Это искусство оказалось гораздо понятней и ближе коммунистическим правителям, чем искусство “футуристов”. По мере того как новая власть утверждалась и находила новых сотрудников для своего культурного строительства, она последовательно “вычищала” аппарат Наркомпроса от тех, кто первыми откликнулись на призывы большевиков к сотрудничеству, но оказались для них чужими. Может быть, еще удивительнее читать такой пассаж в письме Пунина: „Сегодня у меня живой и острый глаз, я чрезвычайно чуток к живописи, знаете, как это бывает иногда. Я обошел музей и был совершенно поражен — передвижниками, Богдановым-Бельским. У него стол написан так, как пишет дерево Штеренберг, а теперь Лебедев. Я записал в дневнике: „Передвижников необходимо восстановить, мы возвратимся к ним““. Это письмо написано в 1920 г., в период, когда Пунин заявлял себя решительным сторонником левого искусства. Уже из этих замечаний видно, что Пунин не страдал догматизмом и предвзятостью суждений.
Может быть, еще удивительнее читать такой пассаж в письме Пунина: „Сегодня у меня живой и острый глаз, я чрезвычайно чуток к живописи, знаете, как это бывает иногда. Я обошел музей и был совершенно поражен — передвижниками, Богдановым-Бельским. У него стол написан так, как пишет дерево Штеренберг, а теперь Лебедев. Я записал в дневнике: „Передвижников необходимо восстановить, мы возвратимся к ним““. Это письмо написано в 1920 г., в период, когда Пунин заявлял себя решительным сторонником левого искусства. Уже из этих замечаний видно, что Пунин не страдал догматизмом и предвзятостью суждений. Сам Пунин так оценивал общую направленность своей критической деятельности: „Некоторое время тому назад, когда меня выгоняли из Академии, некий И.А. Бартенев, заключая партийное собрание, сказал: „Итак, Пунин — стопроцентный формалист, стопроцентный западник и стопроцентный идеалист“. Я, конечно, польщен таким крепким настоем, но если бы этот Бартенев прочитал мои аполлоновские статьи, может быть, он подыскал бы иные формулировки для определения моей неблагонадежности. Меня, во всяком случае, удивило, когда я перечитал эти статьи, как рано и с какой, относительно, точностью я понял и определил болезнь искусства предреволюционной поры: гипертрофированный индивидуализм, импрессионизм, формализм и западничество! И я теперь вижу, что против этих “болезней” я не переставал бороться в течение всей жизни начиная с 1913 года“.5
Сам Пунин так оценивал общую направленность своей критической деятельности: „Некоторое время тому назад, когда меня выгоняли из Академии, некий И.А. Бартенев, заключая партийное собрание, сказал: „Итак, Пунин — стопроцентный формалист, стопроцентный западник и стопроцентный идеалист“. Я, конечно, польщен таким крепким настоем, но если бы этот Бартенев прочитал мои аполлоновские статьи, может быть, он подыскал бы иные формулировки для определения моей неблагонадежности. Меня, во всяком случае, удивило, когда я перечитал эти статьи, как рано и с какой, относительно, точностью я понял и определил болезнь искусства предреволюционной поры: гипертрофированный индивидуализм, импрессионизм, формализм и западничество! И я теперь вижу, что против этих “болезней” я не переставал бороться в течение всей жизни начиная с 1913 года“.5„29-го его похоронили на уголке кладбища в Ручьях.форма Х-ва не говорит им
Священник было не пускал в ограду кладбища, т.к. мы устраивали гражданские похороны.
Но т.к. тут нет другого кладбища, то исполком распорядился пустить в ограду и ему отвели место в самом заду со старообрядцами "верующими". На крышке гроба изображен голубой земной шар, и надпись:Председатель земного шара
Велемир 1
Положили гроб в яму и закурив "трубку мира", я рассказал мужикам про друга Велемира, Гайявату, который также заботился о всех людях полсвета, а Велемир о всем свете; в этом разница.
И зарыли, а на сосне рядом написали имя и дату“.
(Из письма П. Митурича)
Это похоронили В.Хлебникова. В Петербурге только одна газета отметила его смерть.
Менее чем за год до этого умер А.Блок. "Еще с утра весть о кончине поэта разнеслась по Петербургу и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, но совершенно посторонние люди ... В великолепный солнечный день двигалась несметная процессия, запрудившая всю Офицерскую до улицы Глинки." (М.Бекетова. Александр Блок).
Две судьбы, два мира, два века и две меры, которыми отмерены эти две жизни: мера пространства и мера времени.
Блок не принадлежит ни нашему поколению, ни нашему времени; он по ту сторону революции, в том тяжелом конце гумманизма, который есть XIX в. Это мир пространства, нас не знавший и отвергнувший; как страстно эти люди — люди этого века — не предчувствовали чудесный переход в новый мир, в новую меру мира, — они не нашли выражения своей предчувствовавшей тоске; форма, которую Хлебников лаконично выразил словами:
„кольцо юношей, объединившихся не по соседству пространства, но в силу братства возрастов“ — не была для них самой полной, общей и наиболее чистой формой для выражения полной, общей чистой и единственной особенности двадцатого века: его нового чувства времени.Как понималось время до сих пор.
Все свидетельства царств и эпох, которые мы только знаем, указывают на то, что время с тех пор как его впервые ощутили и до сих пор понималось как последовательная, и как бы плоская непрерывность, точно будто-бы идущая сквозь мир, как его жизнь. Однородно этому некогда понимали и пространство.тоже пространство
Архаические египетские тексты рассматривают: "Солнце, как Око бога, тучи, туманы и грозы, ночной мрак — как его врагов." (Тураев. 34).Текст Тураева
Ночь, подобно тучи, поглощает Солнце, пока бог не прогонит ее. В таком представлении о смене дня и ночи нет отчетливо чувствуемого пространства, ибо солнце не опускается за черту, подымаясь в другой стороне на утро, а как бы стоит в небе, поглощаемо на ночь мраком. Памятники доисторического искусства, даже в эпоху острого и сознательного реализма, точно также не развертывает пространства; смутно отмечено правое и левое, и ничем не выражена глубина.свидетельство доисторического ис-тва
Пространство воспринималось, как плоская и замкнутая непрерывность, как кусок места, где стоял человек.Время до сих пор тоже не знало
До сих пор время также не знало ни своего правого и левого, ни своей глубины; оно определялось непрерывным прошлым, ушедшим, как-бы по плоскому и прямому пути и неведомым будущим, находящим плоскостью на то (ребро) что сейчас.XX в, детонируя ставит нас перед проблемой времени.
Начало XX века одновременно в разных областях знания и познания, как-бы по закону детонации, сделало проблему времени основной проблемой века. Наиболее богатые результаты получены, повидимому, физикой и, думаю, в художественном творчестве.физика искусство
Так что мне вновь представляется, что по одну сторону ворот, ведущих в нашу эру, стоит теория Минковского-Эйнштейна, по другую теория государства времени В.Хлебникова.По имеющимся у меня, но непроверенным сведениям Эйнштейн
Хлебников прежде всего поэт, поэт чудесный, вскормленный гораздо более глубокими традициями, чем русский (пушкинский) классицизм. Насколько могу судить, он дошел в работе над языком до дна русско-славянских традиций, и, как поэт (речетворец), творец слов, глубже идти не мог: глубже не шло русское слово; не смотря на то, что сам он, Хлебников, был одним из наиболее древних людей нашего времени, вспоминающим куски мира из времени до стоянок и царств. Он различал за бытовым солнечным значением слова, его ночной звездный разум; (понятие о самовитом слове) вскрывал через мудрость языка световую природу мира; и говорил солнцу:Стихотв. формы гумманизма
Оно (т.е. дитя любви — Амур)
о Солнце старче кум
Нас ранило шутя
Можно думать, что он был древнее Солнца.
Такая древность позволяла ему проникать в более глубокие времена, чем те, в которых терялись славяно-русские традиции, и, уйдя за пределы солнечной системы, (в миры самовитых слов), искать законов судьбы и находить их.
Таким образом, этот человек сам был Гаммой Будетлянина, о которой он писал, что она одним концом волнует небо, а другим скрывается в ударах сердца.
Новое чувство времени, как общая и единственная особенность ХХ века, заострило оба эти конца, и в своих последних работах Хлебников излагал уже стихами "законы рока", говоря:
"Но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки
Этой чудесной швеи?"
Уместно поэтому начать изучение времени, как новой меры мира, при том меры, в данном случае, установленной (данной) искусством, со стихов Хлебникова.
Все стихотворные формы, сложившиеся в традициях классического гумманизма не знали времени, как элемента поэтического опыта; они пользовались временем лишь в том виде и в той форме, какие свойственны ему в жизни, т.е. за пределами поэтического опыта; в стихах было столько времени, сколько фактически требовалось на прочтение или произнесение их, иначе говоря, ноль поэтического времени.Форма была в пространстве
Форма развертывалась в пространстве. Покажем, что это так хотя-бы на стихах Блока, характерного гумманиста, трагически замкнувшего круг русских гумманистических традиций. Рассмотрим два его стихотворения, развертывающие разнородные пространства; ну, хотя-бы вариант "Незнакомки" и первое стих. из цикла "Возмездие".Ритмическое однообразие.
Не говоря уже о ритмическом однообразии этих двух стихотворений, качающихся как золотые иглы мачт неподвижного паруса, но и отдельные мотивировки тем, приемы их развертывания и, наконец, сами темы замкнуты в пространстве, соответствующем всегда одной единице времени — мгновению.Стихотворение начинается описанием пейзажа:
Действительно:описание могло унести поэта от места
"Вариант" построен на (мотивированном) развертывании пейзажа в плоском пространстве, и не имеет другого времени, кроме того, каким владеет сам поэт, в момент его созерцания (написания).
Там дамы щеголяют модами,
Там всякий лицеист остер —
Над скукой дач, над огородами,
Над пылью солнечных озер.
Место описано; как-бы очерчено кругом, следующая строфа раскрывает его качество:
Туда манит перстами алыми
И дачников волнует зря
Над запыленными вокзалами
Недостижимая заря.
Затем следует личное отношение поэта к месту (пространству)
Там, где скучаю так мучительно,
Ко мне приходит иногда
Она — безстыдно — упоительна
И унизительно горда
Может показаться, что "Ее" приходом рождается действие, т.е. какая-то временная последовательность; но во первых — поэт этого действия не показывает, а только рассказывает о нем, а во вторых описание действия (показывание его) не может дать чувство поэтического времени, подобно тому как быстрое перебирание ног при ходьбе не ускоряет течения времени. Замечательно то, что поэт, в дальнейшем явно желая изобразить Незнакомку, описывает не "ее", а то, как "она" приходит, т.е. не вынимает ее из этого замкнутого пространства "загородных дач", а, наоборот, называет только те ее черты, которые именно здесь в этом ландшафте стали ему известны и привычны; с этой целью, — сохранить образ в заданном пространстве, перебиты четвертая и шестая строфа пятой, где характеристикой личного отношения образ Незнакомки снова притягивается к личности поэта, к мгновению его созерцания.
но описание все таки вырывает ее
Чего-же жду я, очарованный
Моей счастливою звездой,
И оглушенный и взволнованный
Вином, зарею и тобой?
Открытой и недоумевающей восторженностью этой строфы дается выход той бьющейся жажде описать Незнакомку, которая наростает в четвертой и кипит в шестой строфах. Выход этот необходим, т.к. описание Незнакомки может вывести ее из очерченного пространства; и это тем более вероятно, что в шестой строфе поэт видимо бессознательно стремится описать ее и глагол (оглушена), который возвращает Незнакомку ландшафту оттянут в самый конец строфы против третьей строчки четвертой строфы. Конечно, он только оттянут и единство временное единство пейзажа в конце концов, не нарушено ничемПОШЛОСТЬ
Шестая строфа почти на грани этого выхода, т.к. глагол (оглушена), который возвращает Незнакомку ландшафту, оттянут в самый конец строфы (против третьей строчки в четвертой строфе — глагол "сквозит"), но тем не менее поэт, покорный законам своих вековых традиций, не выходит за круг предначертанного ему и очерченного им: временное единство пространства не нарушено и в этой строфе ничем.
Вздыхая древними поверьями,
Шелками черными шумна,
Под шлемом с траурными перьями
И ты вином оглушена?
И как бы на‹поминая› о круге поэт намеренно в следующей строфе употребляет эпитет, обобщающий качества описываемого ландшафта, стягивая
таким образом тему кольцом безвременного пространства.В целом — ноль поэтического времени
Средь этой пошлости таинственной,
Скажи что делать мне с тобой,
Недостижимой и единственной,
Как вечер дымно — голубой?
Таким образом вся тема развернута в мгновении в плоском пространстве очерченного пейзажа.
Сложнее показано пространство во втором из названных стихотворений — из цикла "Возмездие".
Стихотворение начинается описанием воспоминания поэта о чувствах, некогда им владевших:
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Намечена как-бы одна пространственная плоскость:
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Дана как-бы вторая пространственная плоскость
Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
Это как-бы третья плоскость; четвертая занимает полторы след. строфы.
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Наконец, след. строфа намечает как-бы пятую плоскость:
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий
В котором ты в сырую ночь ушла...
Но эта пятая плоскость есть — настоящее, именно то мгновение, в которое поэт заключил тему; поэтому стихотворение не сопоставляет пространства различных реальных времен, а только собирает воспоминания в одно реальное время, в мгновение воспоминания. И как бы подтверждая это поэт кончает, замыкая кольцо возвращением к теме первой строфы
"Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола."
В стихотворении нет места действия, во всяком случае оно не показано, но тем не менее тема развернута только в пространстве и никакой другой протяженности не имеет; в целом форма дана в мгновении воспоминания т.е. именно в том времени, которым владел поэт в момент его написания (читатель в момент его произнесения или чтения), иначе говоря в ноль поэтического времениВременной сдвиг.
Блок не знал, да и не мог знать поэтической формы другой меры времени. Для этого нужно было выйти за пределы его века, его рока, или, говоря языком Хлебникова, заняться похищением времени. Все поэтическое творчество Хлебникова есть восхитительная охота на различных глубинах времени.
К периоду 1906–8 г. относится небольшая поэма "Училица", где "училица Бестужевских учин" (т.е. курсистка) показана героиней романа с боярским с-ном Володимирко. Поэма кончается словами:
"Так тщетно силились разорвать
цепи времен два любящих сердца."
Это наиболее простой прием объединения сюжетом двух различных временных эпох, то, что обычно называется временным сдвигом. Простой прием такого сдвига изучаем в рассказе "Мирсконца": герои живут (действуют) от смерти и рождению. Рассказ кончается на V главе двумя строками: "Поля и Оля с воздушными шарами в руке молчаливые и важные пр/оезжают/ в детских колясках."В ранних Х-ва много врем. сдвигов
В ранних произведениях Хлебникова простых приемов временного сдвига очень много, это первые молодые удары по спине неподатливого времени. Повесть "Ка" вся построена в различных временных слоях и это мотивировано исчерпывающе самим Хлебниковым: "Ему нет застав во времени, Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен). В столетиях располагается удобно, как в ‹...› качалке. Не так ли и сознание соединяет времена вместе, как кресла и стулья гостиной."Уменье собрать Х-ва
Синтетическое (интегрированное) сознание и есть сознание новой эры, в теоретической литературе определенное, как кубизм. Девятнадцатый век легко зачертить индивидуализирующими стрелками, стремящимися в разные направления от некоторой точки. Их нельзя собрать, вычеркивая то одно, то другое направление, но следует, освободив их от того, что можно определить как одежду прошлого, интегрировать в душе ‹которая для этого должна у›же быть более чем когда либо сосредоточенной, ясной укладчицей в кратчайшие сроки.
Таков Хлебников. Его уменье собрать не повторено в поэтической литературе Европы. Отметим то, что нет таких четырех строчек, в которых вновь не была собрана вся душа Хлебникова, между тем, как такие большие мастера, как Пикассо этого не достигают.Самостоятельная роль времени
Общность методов и Хлебникова и Пикассо-Брака заслуживает особого внимания — (эту последнюю о Хлебникове, как поэте, отметку необходимо сделать, т.к. она выясняет пределы значения отдельных приемов, постепенно передвигая нас к цели нашей работы: изучению государства времени).
Как выше сказано в пределах поэтического, равно и живописного, опыта время не играло до сих пор самостоятельной роли. Кубизм определил эту роль, найдя, что поэтическое время, т.е. время вызванное поэтическими приемами не совпадает с реальным временем, причем это творческое время получается либо, как это уже показано, от произвольного сопоставления различных временных плоскостей, либо от обработки элементов формы, напр. матерьяла, фактуры. В первом случае, тем резче несовпадение времен (реального и художественного), чем меньше произвольное сопоставление мотивировано (чем оно менее иллюзорно), Такие, напр. стихи Хлебникова:Роль мировой войны
"Котенку шепчешь не кусай
Когда умру свои дам крылья.
Писал устало Хокусай
А брови — матери Мурильо."
Мы различаем здесь по числу строк четыре временных плана, немотивированно собранных в один подцвеченный рисунок; каждая строка соответствует в реальности обособленному восприятию, имеющему свое время; вместе с тем такие слова-образы, как котенок, крылья и брови, Хокусай и Мурильо своими контрастами при сопоставлении дают чувство глубины во времени; благодаря чему все стихотворение воспринимается как более не менее прозрачная форма в воздухе, форма имеющая различные плоскости разного преломления, так что мир исторический и мир настоящий просвечивают сквозь них, или ложатся на них тенями, с различной отчетливостью: почти осязаемой становится тень в строчке: А брови — матери Мурильо, и как тень от облака звучит первая строка четверостишия Временное построение формы богато развито в следующем,например, стихотворении.
"Где волк воскликнул кровью:
Эй! я юноши тело ем.
Там скажет мать "дала сынов я" —
Мы старцы, рассудим, что делаем.
Правда, что юноши стали дешевле?
Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?
Ты, женщина в белом, косящая стебли,
Мышцами смуглая, в работе наглей.
"Мертвые юноши! Мертвые юноши!
По площадям плещется стон городов.
Не так ли разносчик сорок и дроздов,
- Их перья на шляпу свою нашей.
Кто книжечку издал: — "песни последних оленей"
Висит, рядом с серебряной шкурою зайца,
Продетый кольцом за колени
Там, где сметана, мясо и яйца.
Падают брянские, растут у Манташева.
Нет уже юноши, нет уже нашего
Черноглазого короля беседы за ужином.
Поймите он дорог поймите он нужен нам.
Эти великие стихи, прозрачные для чувства страдания и смерти в бессмысленном бою, смело и метко взяты как форма временного построения. Если волку прилично говорить "ем", то ведь у матерей иное чувство к сыну, не следовало-ли об этом подумать нам старцам. Поэт начиная стихотворение от своего лица одновременно говорит как бы от лица людей старых, казалось-бы мудрых; в этом уже есть двухвременность формы; вместе с тем временную глубину дает "план волка" и "план матери". Четыре слоя. Чудесный образ смуглой смерти, все более наглеющей в работе дает пятый слой времени.
Мертвые юноши! мертвые юноши.
Стон городов, как бы покрывающий эти слои прозрачной плоскостью боли, и затем после этих влажных и почти патетических строк сухая и резко контрастирующая строка о разносчике сорок и дроздов, которая быстро эавертывается как по спирали в следующих строках, резких фактурными контрастами:
их перья на шляпу свою нашей.
в особенности же:
"Кто книжечку издал: — "песни последних оленей"
"серебряная шкурка зайца", "кольцо в колене", "сметана (мясо) и яйца". Эта тонкая и неожиданная игра, в глубине которой все время бьетса нежное чувство как будто правда, к последним оленям, дает целый ряд мелких временных кулис, по отношению к которым следующая строфа как-бы вырвана из глубины города, из самых мощных и самого темного его логова:
"Падают брянские, растут у Манташева. Нет уже юноши, нет уже нашего...
Стихотворение кончается строками:
"Черноглазого короля беседы за ужином "Поймите он дорог поймите он нужен нам
вынося тему к широким обобщениям, на которых сложилась знаменитая Хлебниковская теория о государстве юношей.
Когда-нибудь будет вычислено сыграла ли мировая война решающую роль в сложении этой теории. Во всяком случае манифест юношей: "Труба марсиан" вышел во время войны, равно как к 16 г. относится и знаменитое письмо к японцам.Футуристическое ложное понимание
"Пусть млечный путь расколется на млечный путь изобретателей и млечный путь приобретателей" — эти первые "слова священной вражды" марсиан определили с беспощадной точностью два временных слоя в настоящем. "Пусть возрасты разделятся и живут отдельно".
"Государство молодежи, ставь крылатые паруса времени; перед тобой второе похищение пламени приобретателей."
Разделение это мотивировано разностью задач поколений:
"Им утонувшим в законы семей и законы торга, им у которых одна речь: —
ем (ср. с волком), не понять нас, не думающих ни о том, ни о другом, ни о третьем." Мрачность такого отношения к старшему возрасту вызвана небывалой гибелью юношей и мертврую Х. сохранил и много позже.
"Но цепкие руки оттуда схватили нас и мешают нам совершить прекрасную измену пространству. Разве было что пьянее этой измены? ... Это новый удар в глаза грубо пространственного люда. Вот почему — заключительные слова Трубы марсиан — изобретатели в полном сознании своей особой породы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство ВРЕМЕНИ (лишенное пространства) и ставят между собой и ими железные прутья. Будущее решит кто очутился в зверинце, изобретатели или приобретатели? и кто будет грызть кочергу зубами."
Это будущее, которое в то время казалось неверным и далеким, видимо, уже под нашими ногами, и думаю, мало кто станет отрицать теперь, что в клетке — оказались люди пространства.
Письмо к японцам ‹не› менее страстно и со-всею прелестью Хлебниковского языка также определяет две плоскости возрастов.
"Ведь у возрастов разная походка и языки. Я скорее пойму молодого японца говорящего на старо-японском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском ... Ведь если есть понятие отечества, то есть понятие и сынечества, будем хранить их обоих. Как кажется дело заключается не в том, что бы вмешиваться в жизнь старших, но в том, чтобы строить свою рядом с ними."
Это примиряющее спокойствие вносит величие в поступь хлебниковской идеи; она становится чистой идеей временных слоев, рассекающей мир на две эры: эру пространственного сознания человечества и эру времени, которое можно назвать "пространством поставленным на затылок".
В период написания "Трубы Марсиан" и Письма к японцам никто из нас еще не оценивал этого деления, частью принимая его за футуристическую концепцию борьбы с пассеизмом. Страстность манифеста способствовала этому. Но в "Трубе Марсиан" уже есть мысль, которая могла бы избавить теорию Хлебникова от каких-бы то ни было сближений с Маринетти. Она загадочна, эта мысль, знал-ли Хлебников сам ее полное содержание. Мысль заключена им самим в скобки:Дальнейшие работы
(О уравнения поцелуев — вы! О луч смерти, убитый лучом смерти поставленным на пол волны).
В своей последней, еще не вышедшей из печати работе "Доски судеб", Хлебников пишет:
"Первое решение искать законов времени явилось на другой день после Цусимы, когда известие о Цусимском бое дошло в Ярославский край, где я жил тогда в селе Бурмакине, у Кузнецова.
Я хотел найти оправдание смертям."
Была-ли невыносима для Хлебникова мысль о полном исчезновении мира в смерти? Вся работа этого ума направляется в дальнейшем на борьбу со смертью; что есть ни что иное, как борьба со временем; разделения и вражда возрастов в этой борьбе есть лишь "первая истина о времени". Вот что говорится в названных "Досках судьбы":
"Первые истины о пространстве искали общественной правды в очертаниях полей, определяя налоги для круглого поля и треугольного, или уравнивая земельные площади наследников", То есть возникновение государств пространства, тех, в которых мы до сих пор живем, зависело от изучения площадей пространства и им обусловлено; если бы далекие предки не научились делить полей, измерив пространство, мы не знали-бы ни немецкого, ни русского места (государства). В одинаковой мере:
"Первые истины о времени ищут опорных точек для правильного размежевания поколений, и переносят волю к равенству и правде в новое протяжение времени. Но толкачем и для них была та же старая воля к равенству, делению времени на равные времявладения."
Делить время, различая его, подобно тому как узнавать Восток и Запад было первым шагом нахождения законов движения Солнца для египтян — для нас есть первый шаг измерения смерти.
"День измерения русла Волги — пишет Х. — стал днем ее покорения, завоевания силой паруса и весла, сдача Волги человеку ... плавание по Волге стало легким и безопасным ремеслом после того, как сотни буянов алыми и зелеными огнями отметили опасные места, камни, отмели и перекаты речного дна. Также можно изучать трещины и сдвиги во времени. Давно стало общим местом, что знание есть вид власти, а предвидение событий — управление ими."
Таким образом мысль о вражде поколений поднята Х. как первый камень в лицо времени — молчаливого спутника, до сих пор не показавшего нам ни одной своей черты. *)
*) Кто-нибудь, не подумав скажет, а циферблат часов, но часы это мера пространства. "Хожу час" это значит, что в то время как я прошел версту пространства стрелка прошла полный круг пространства на циферблате — и ничего другого оно не значит. Время же остается попрежнему темным и неумолимым потоком, находящим на наше лицо.
Но теперь, во всех областях знания мы поставлены перед этим лицом.Религия, как система борьбы со смертью.
После того, как Х. определил нашу эру, как эру познания времени, его усилия продолжают находить новые и новые черты времени. Не могу изложить всех законов времени, установленных Хлебниковым, отсылая к его книгам. (Многих уравнений не понимаю из за скудности знания и развития.) Но нельзя умолчать о последних мощных ударах, определяющих основные законы времени, согласно которым событие делается противособытием, а также о том, как Х-ым определяется взаимоотношение времени и пространства.
"Чистые законы времени, пишет Х., мною найдены 20 года, когда я жил в Баку, в стране огня, в высоком здании морского общежития, вместе с Добраковским, именно 17/ХI."
Уравнение *) внутреннего пояса светил солнечного мира найдено им 25/IХ — 20 г. на съезде Пролеткульта в Армавире, на задних скамьях помещения собрания, когда во время зажигательно-деловых речей, вычислял на записной книжке времена этих звезд.
"Я полон решимости, — пишет затем Х — если эти законы не привьются среди людей, обучать им порабощенное племя коней."
Решится ли кто-либо прибавить что нибудь к этому достаточно одинокому чувству?
*) Об этом уравнении я еще ничего не знаю, повидимому оно в неизданных еще рукописях.
Закон времени, согласно которому событие делается противособытием можно, вслед за Хлебниковым, назвать также законом добра и зла, этих двух колов, вбитых в пространство рукою времени для проведения границ. Если понять религию, как систему борьбы со смертью, придуманную людьми пространства, то добро и зло есть пространственные меры религии. Хлебников пишет об этом так:Совершенно уясняются
"Человечество, как явление протекающее во времени, сознавало власть его чистых законов, но закрепляло чувство подданства посредством повторных враждующих вероучений, стараясь изобразить дух времени краской слова.
Учение о добре и зле, Аримане и Ормузде, грядущем возмездии, это были желания говорить о времени, не имея меры, некоторого аршина, ведром как краска.
Итак, лицо времени писалось словами на старых холстах Корана, вед, Доброй Вести и других учений. Здесь (т.е. в "Досках Судьбы") в чистых законах времени, тоже великое лицо набрасывается кистью числа и таким образом применен другой подход к делу предшественников. На полотно ложится не слово, а точное число, в качестве художественного мазка, живописующего лицо времени."
Это точное число выведено Хлебниковым после долгих вычислений времени прошлого; не приводя их назовем его.
"Через 3n событие делается противособытием." — так гласит первый закон. Все прошлое рассекается этим законом на волны времен, из которых каждое в какой либо степени кратно трем.
Один пример, на выбор:
26 Х 1581 Ермак начал движение на Восток, через 310 + 310, т.е. 26/II 1905 г. была битва при Мукдене, остановившая движение на восток. Три в любой степени (или 3 + 3 в любой степени) есть "скрепа времени соединяющая событие и противособытие во времени."
"То о чем говорили древние вероучения, грозили именем возмездия, делается простой и жесткой силой этого уравнения; в его сухом языке заперто: "Мне отмщение и аз воздам" ...
Скрепы с большими степенями согласно вычислению Х-ва "заняты пляской и плеском государств", мировых событий, веков, малые же степени относятся к жизни отдельных людей, управляя возмездием, или сдвигами в строении общества, давая в числах древний подлинник, древние доски своего перевода на язык слов.
"Мне отмщение и аз воздам."
"Так военный деятель Мин подавил воставшую 26/ХII — 1905 — Москву;
через 35 дней 243 он был убит 26/III 1906 года. Карающей рукой Коноплянниковой или сама судьба дергала собачку браунинга во время выстрела" — говорит Х-в.
Таков первый закон рока.
Второй закон гласит:
"Через 2n дней объем некоторого события растет."
Например: 11/ХI 1917 утвердилась Советская власть; через 211 — резкое полевение власти, через 210 — укрепление С.В. на востоке (Съезд Народов Востока), через 29 — Советская Бавария, через 28 — Советская Турция. Таким образом 3 и 2 есть числа, на которых покоятся чистые два закона времени.
Замечательно то, что эти числа суть наименьшие четные и нечетные числа и что в то-же самое время они суть степени для измерения двухмерного и трехмерного пространственного мира. Если мы измеряем какую-либо плоскость, мы возводим в квадрат единицу пространственной меры; для объема мы принуждены прибегать к 3.
А3 — есть объем некоторого пространственного тела А, так, что 2 и 3 в мерах пространства служат степенями, в мерах-же времени твердыми величинами, могущими иметь произвольные степени.
"Казалось время у пространства, пишет Х-в — каменный показатель степени, он не может быть больше трех, а основание живет без предела; наоборот у времени основание делается "твердыми" двойкой и тройкой, а показатель степени живет сложной жизнью, свободной игрой величин."
Таким образом:
"уравнения времени казались зеркальным отражением уравнений пространства" "Можно ли назвать время поставленным на затылок пространством? — спрашивает Х-в.
и еще:
"Как то радостно думалось, что по существу нет ни времени ни пространства, а есть два разных счета, два ската одной крыши, два пути по одному зданию чисел."
Эти два закона, открытые Хлебниковым, являются первыми числами — чертами, живописующими лицо времени. Мы еще ничего не знаем о степени их значения для человечества, но сам Хле-в пишет:
"Открыв значение чета и нечета во времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в которой испуганным зверьком дрожит древний рок."
и затем, как предисловие к "Доскам Судьбы" след. стихи:
"Если я обращу человечество в часы
И покажу, как стрелка столетий движется,
Неужели из нашей времен полосы
Не выпадет война как ненужная ижица?"
и еще
Таким образом меняется наше отношение к смерти; мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на временное купанье в водах небытия".
Вещие слова "Трубы марсиан", взятые в скобки:О всем мире
(О, уравнения поцелуев — вы! О луч смерти, убитый лучом смерти поставленным на пол волны) — открывает ход мысли великого печальника о смертной судьбе человечества.
Не для того, что-бы показать безконечное одиночество людей, которых легкомысленно называют футуристами, приведен был выше отрывок о смерти Х-ва, но потому что там есть слова о Гайявате и о Хлебникове, заботящемся о всем мире. Хлебников кажется нам странным героем, вышедшим один на борьбу со смертоносными силами; странным кажется, что борьба эта началась с удара по поколениям; "храбро и умно" возвещается вражда возрастов; разделяется то, что не было никогда делимо. Уместно спросить, почему Х-в, который всегда, последовательно собирал и сам был всегда полно собран, разделяет. Спрашиваем об этом, зная, что страшная гибель-распад, это то, что есть ХIХ в.
| 1) учение об отцах и сынах 2) единение 3) электроход 4) Воскрешение |
Кроме того, что вражда возрастов есть первое деление во времени, она имеет и еще одно, в книгах Хлеб-ва, пожалуй, мало сказанное значение. Уже в письме к японцам мы цитировали. Если есть понятие отечества то может быть и понятие сынечества.О всем мире — Гайявата
1) 2) 3) 4) | Федоров учение об отцах и детях единение электроход Воскрешение | Х-в вражда возрастов нота примирения текст Госуд. времени безсмертие полет в небеса |
По мере того, как обнажатся лучи судьбы исчезает понятие народов и государств и остается единое человечество, все точки которого закономерно связаны.
Сивка
Ну, тащися, Сивка
— Шара земного
Айда понемногу.
Я запрег тебя сохой звездною,
Я стегаю тебя
Плеткой грезною.
Что пою о всем
Тем кормлю овсом,
Я сорву кругом траву отчую
И тебя кормлю, ее потчую.
Не за тем кормлю,
Седину позорить:
Дедину люблю
И хочу озорить!
Полной чашей торбы
Насыпаю овса,
До всеобщей борьбы
За полет в небеса.
Я студеной водою
Расскажу где иду я.
Что великие числа —
Пастухи моей мысли
и т.д,
и еще
"Понять волю звезд это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти доски грядущих законов и не в том ли состоит путь деления, что-бы избавиться от проволоки правительств между вечными звездами и слухом человечества
Пусть власть звезд будет беспроволочной
| Дрова дрова пища ‹?› Лебедеву Д.С‹...› Ла‹ш..?› Ах Саше Я. и ‹?› ‹нрбрч› маме Ан. Як. | 1 1 1 | 0 р. 4 р. 4 р. 3 р. ‹зачеркнуто› 6 р. 2 р. 5 р. ‹А.А.Ахматовой, зачеркнуто› 1 р. 25 k. 0 р. 0 р. 2 р. ‹зачеркнуто› 5 р. ‹зачеркнуто› 62 р 80 |
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 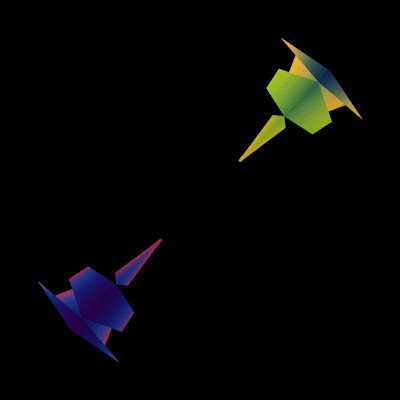 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||