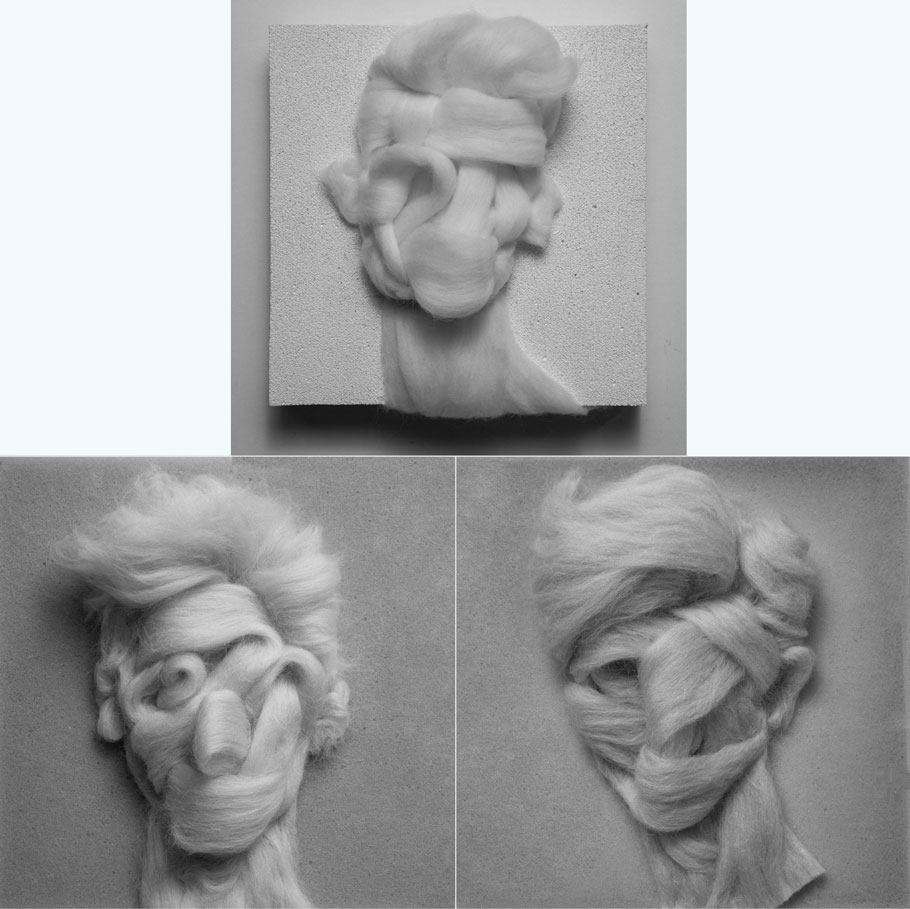
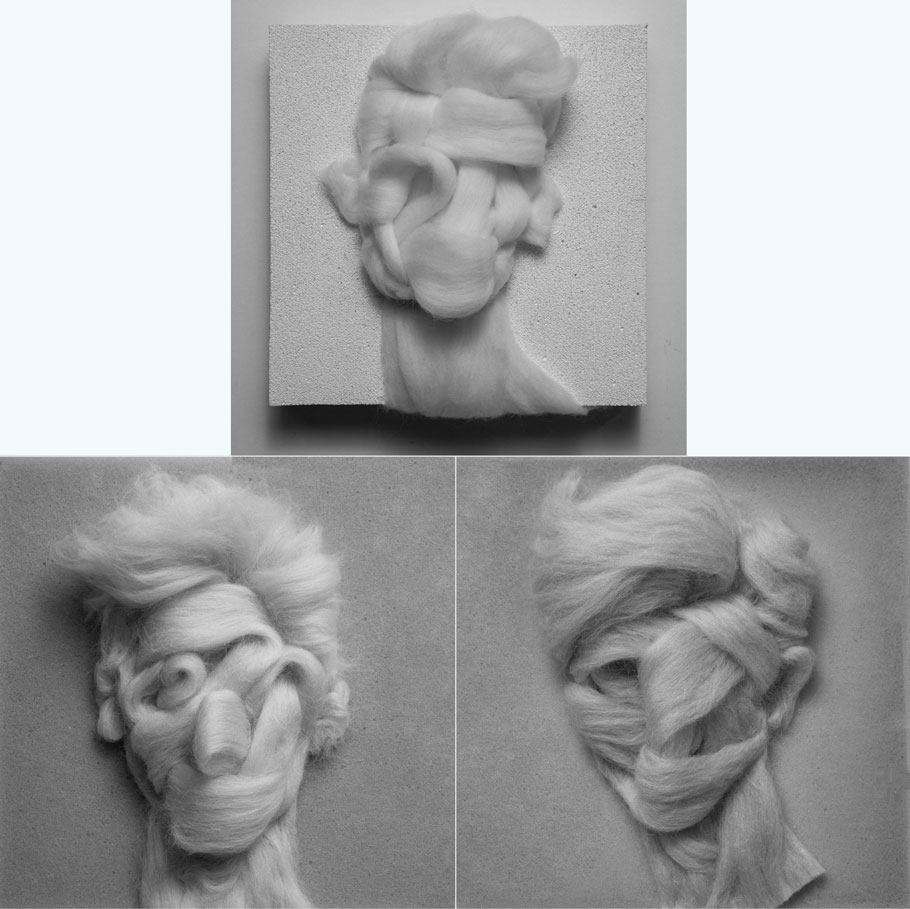
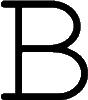 ряд ли нужно предупреждать, что имя Хлебникова обязывает к особому чтению его стихотворных опытов. Прежде всего, не нужно требовать так называемого “порядка”, не нужно удивляться непонятному. Единственный последовательный экспериментатор и изобретатель в области слова имеет право и на беспорядок, и на непонятность. Это право за ним укреплено и обосновано тем, не подлежащим оспариванию, дарованием, которое дойдёт и до литературного консерватора, хотя бы на последних десяти страницах «Зангези». Для «Зангези» не придумаешь определения — это и поэма, и драма, скорее трагикомедия, ещё правильнее — автобиография! Она вполне соответствует духовному миру Хлебникова, в котором так причудливо сочеталось доисторическое чутьё к слову с инстинктом какого-то первобытного гадателя, прорицающего о судьбе племён, — по звёздам, конечно... Участвуют — Зангези-поэт, птицы, боги, буквы, слушатели, горе, смех.
ряд ли нужно предупреждать, что имя Хлебникова обязывает к особому чтению его стихотворных опытов. Прежде всего, не нужно требовать так называемого “порядка”, не нужно удивляться непонятному. Единственный последовательный экспериментатор и изобретатель в области слова имеет право и на беспорядок, и на непонятность. Это право за ним укреплено и обосновано тем, не подлежащим оспариванию, дарованием, которое дойдёт и до литературного консерватора, хотя бы на последних десяти страницах «Зангези». Для «Зангези» не придумаешь определения — это и поэма, и драма, скорее трагикомедия, ещё правильнее — автобиография! Она вполне соответствует духовному миру Хлебникова, в котором так причудливо сочеталось доисторическое чутьё к слову с инстинктом какого-то первобытного гадателя, прорицающего о судьбе племён, — по звёздам, конечно... Участвуют — Зангези-поэт, птицы, боги, буквы, слушатели, горе, смех.Зангези живет в разных плоскостях: он подслушивает птичий говор, при помощи букв раскрывает смысл войны и революции, пророчествует о прошлом и будущем. Всё кончается шуткой после прекрасного диалога Горя и Смеха. Передать содержание всего этого — значит целиком перепечатать поэму. Её основа в словах Зангези:
Об этом прохожий мог только сказать: он врёт, как соловей ночью.
Обои человеческой жизни Хлебников героически хотел переплавить в песне самой напряжённой ощутительности, — песне из зёрен слов-ощущений, возвращённых не только к своему корневому смыслу, но и к означающему звуку:
Но не разрешил и не мог разрешить поставленных задач. То, что он слышал в слове и звуке, осталось его тайной, — большинство читателей воспринимает его словотворчество, как стихотворную эвфонию.
При желании Хлебников свободно владел прекрасным русским стихом, восходящим в лучших отрывках к Пушкину. В его судьбе есть что-то глубоко привлекательное. Безумец или юродивый для одних, поэт редкого дарования для других — он до конца был предан поэзии и слову.
 лебников пользуется в данное время большой известностью. Вокруг этого имени выросла и продолжает развиваться легенда, и кажется, легенда о Хлебникове пользуется в наши дни большей популярностью, чем стихи этого основателя кубо-футуризма. Недаром «ЛЕФ», начал свою деятельность не с печатания поэмы своего первоучителя, а с редактирования одного варианта легенды о Велемире.
лебников пользуется в данное время большой известностью. Вокруг этого имени выросла и продолжает развиваться легенда, и кажется, легенда о Хлебникове пользуется в наши дни большей популярностью, чем стихи этого основателя кубо-футуризма. Недаром «ЛЕФ», начал свою деятельность не с печатания поэмы своего первоучителя, а с редактирования одного варианта легенды о Велемире.Она открывается двойным стихотворным введением. Первая его часть написана с той блестящей патетикой, которую впоследствии удачно упростил Маяковский, и даёт нам манифест мага, открывшего законы, управляющие жизнью человечества. Знание этих законов, по утверждению Хлебникова, в первую голову уничтожит возможность войн, а потому, заключает он, упразднит необходимость в существовании каких-либо правительств, кроме некоторой группы во главе с предземшаром (председателем земного шара) Хлебниковым. Можно подумать, что мы находимся при проявлении одного из симптомов мании величия у параноика. Но параноиком Хлебников не был.
Он был только дегенератом в самом типичном толковании этого термина, и мысль его, как и его редкий поэтический талант, способна была совершать только очень короткие усилья, падая затем в область механического процесса нанизывания подобных самим себе элементов. С восторгом “блаженненького” Хлебников упивался количеством подобранных бирюлек, и эту свою радость считал долгом передать современникам, хотя бы при помощи невинного обмана. Возможность предсказывать счастливые и несчастные дни предприятий, к которой сводится система Хлебникова, конечно, не исключает возможности самих предприятий, и история стоит перед нами живым тому свидетелем. У Хлебникова были предшественники, а в старину ни одно сражение не начиналось без вопрошения оракулов не менее авторитетных, чем В. Хлебников: тем не менее, война благополучно дожила до времён, далёких от птице- и кишкогаданий. Да и сам поэт лукаво проговаривается: я знаю, что вы — правоверные волки, пятёркой ваших выстрелов пожимаю свои, и, в сущности, далеко не так убеждён в необходимости отмены войн, как в отмене собственной мобилизации, — вещи, по отзыву биографов для него совершенно нестерпимой. К концу этой вступительной поэмы патетика декларации, по обычаю, слабеет, во второй же части предисловия мы имеем характерное для дефективности поэта топтание вокруг однажды найденного образа, удачность которого забивается бестолковым его вдалбливанием. К счастью, процесс здесь не доведён до любимых пределов Хлебникова, образ не распался на слова, а слова — на части слóва, которые и подлежали бы дальнейшей вертячке, к вящей славе заумничанья.
В затруднительные минуты стихописания: в начале письма или при его заминке это перебирание элементов слова (в порядке подбора рифмы, ритма, инструментовки) известно каждому стихотворцу, но поэту оно служит только побочным средством организации речи. Природный недостаток Хлебникова лишал его критерия по различению важности элементов слова, а бездарные его имитаторы, в роде Крученого или Терентьева с графоманом Зданевичем, возвели в принцип то, что являлось только патологическим аффектом дегенеративной природы крупного поэта.
Не менее типичным примером дегенерации является прозаическая часть книжки. Вокруг неё тоже имеется легенда, и она занимает центральное место в сказаниях о Хлебникове. Хорошо, в конце копцов, что она напечатана: мистика любит темноту и издыхает на солнце, как мокрица. Теперь мы имеем возможность сами убедиться в ценности великих прозрений современных странников и юродивых. Они удивительны.
К счастью рядового читателя, математические познания Хлебникова, вопреки его агиографам, не простирались за пределы элементарной арифметики, и анализ их не требует специальной подготовки. Как и следовало ожидать, открываются истины давно известные. А именно: всякое число может быть изображено в виде суммы или разности двух или более чисел. Всякое число может быть изображено через другое число, возведённое в некоторую степень (если читателю угодно вспомнить, показатель этой степени называется логарифмом). Вот и вся математика Хлебникова. Это теория, а эмпирика такая: между событием и противособытием проходит число дней, выражающихся или числом три в некоторой степени, или суммой двух троек, возведённых в одну или разные степени, или подобный же разностью, или суммой тройки в некоторой степени с двойкой в некоторой степени или их разностью. Если принять во внимание, что длительность года исчисляется автором и в 365 и в 365¼, дней, причём применение того или иного исчисления ничем не обусловлено, мы легко поймём, как нетрудно получить искомые показатели степеней в целых числах. Если принять во внимание, что контрастными событиями являются такие, как: разгром Атиллы и битва при Мукдене или разграбление Рима Аларихом и Куликовская битва, — младенческая хитрость Хлебникова станет самоочевидной. Не менее детской хитростью является попытка связать рассказанное упражнение с предсказанием. Хлебников не только не скрывает, а даже настаивает на том, что периодичность событий не уследима: постоянным является основание 3, а логарифм наперёд установить нельзя — значок степени возрастает совершенно произвольно. К чему бы и огород городить? По не таково мнение Хлебникова: для него мыслить было величайшей отрадой, а мышление дегенерата подчинено особым законам: это символически ассоциативное мышление. В жизни отдельных людей, — пишет Хлебников, — я заметил особое гремучее время (блестящий эпитет — И.А.) строения 213 + 132. Оно вызывает подвиги под небом Марса или Венеры, всё равно каким.
Возраст этот в общем 23 года. Немудрено найти в нём подвиги под небом Венеры, а воинская повинность обеспечивает и участие в деле неба Марса, но для нашего автора сущность в том, что имеется сумма двух чисел: первое в степени основания второго, а второе в степени основания первого. Для нас это не довод, по для Хлебникова это величайшее ощущение присутствия истины. Он не подозревал ещё большей глубины упоения от созерцания этой даты гремучего возраста (22 года 331 день). Почтим его намять и порадуем друзей его учения. Если считать его гремучий срок равным 23 годам, имеем: 23 = 27 – 4 = 33 – 22, если же приравнять его 22 годам, то получим нечто ещё более потрясающее, а именно: 33 – 22 – 11. Как же возрасту, попавшему между двумя такими удивительными границами, не быть решающим в жизни человека? Увы, нет числа, которое не могло бы писаться таким или ещё более эффектным образом, но для того, чтобы подобная симметрия обладала принудительной доказательностью для сознания, носитель этого сознания должен быть или сумасшедшим, которым Хлебников не был, или дегенератом, которым он был. Находить же удовольствие в чтении подобного рода чепухи и считать её делом важным могут тоже или сумасшедшие, или дегенераты, или же люди, сознательно возненавидевшие разум за последнее время и по всем понятным причинам. Они своё обожание беспредметных построений иногда проводят в иных, чем Хлебников, формах, но сущность самодовлеющего жонглёрства остается неизменной.
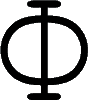 утуризм в собственном смысле — история вчерашнего дня. Поэтому естественны всякие книжки, подводящие итоги движению уже закончившемуся. Теперь было бы не бесполезно осмотреть совершённое, расставить точки над кое-какими буквами и подвести некоторые итоги. Так поступил, например, Якобсон в своей книге о Хлебникове. Однако авторы, четыре статейки которых составили эту брошюрку, придают ей совершенно иной смысл, а именно: рекламно-агитационный. Может быть, этому причина то обстоятельство, что все они, исключая Бурлюка, давшего коротенькую заметку, познакомились с футуризмом сравнительно недавно, и он им так же нов, как все “впечатленья бытия”. Только этим можно объяснить некоторые странности вроде такой: Третьяков упрекает какого-то критика в нечуткости, потому что тот подошёл к Кручёныху с точки зрения содержания, в то время как „единственным содержанием была форма” и проч. Несколько странно слышать эти анахронистические апологии форме, ныне, когда возня с нею — дело футуризма — уже закончена. В этом отношении правы “пролетарские” поэты, когда утверждают существенный для нашего времени примат содержания в искусстве, — и кажется каким-то старым-старым старьём, отзывающим довоенным эпатажем, эта болтовня о форме.
утуризм в собственном смысле — история вчерашнего дня. Поэтому естественны всякие книжки, подводящие итоги движению уже закончившемуся. Теперь было бы не бесполезно осмотреть совершённое, расставить точки над кое-какими буквами и подвести некоторые итоги. Так поступил, например, Якобсон в своей книге о Хлебникове. Однако авторы, четыре статейки которых составили эту брошюрку, придают ей совершенно иной смысл, а именно: рекламно-агитационный. Может быть, этому причина то обстоятельство, что все они, исключая Бурлюка, давшего коротенькую заметку, познакомились с футуризмом сравнительно недавно, и он им так же нов, как все “впечатленья бытия”. Только этим можно объяснить некоторые странности вроде такой: Третьяков упрекает какого-то критика в нечуткости, потому что тот подошёл к Кручёныху с точки зрения содержания, в то время как „единственным содержанием была форма” и проч. Несколько странно слышать эти анахронистические апологии форме, ныне, когда возня с нею — дело футуризма — уже закончена. В этом отношении правы “пролетарские” поэты, когда утверждают существенный для нашего времени примат содержания в искусстве, — и кажется каким-то старым-старым старьём, отзывающим довоенным эпатажем, эта болтовня о форме.Разговоры о форме были заведены символистами, они были усвоены футуризмом, как некоторая редукция к абсурду: футуристы упрекали символистов в том, что те мало занимались формой и не с той точки зрения, с какой требовалось. Это перевело стих в лабораторию, с лёгкой руки символистов началось откапывание уже вовсе немыслимых и никому не потребных редкостей, закон символистов был подменён новым, — где грубость и анти-изящество выдавали “патент на благородство”. В результате стихи футуристов или погибали в их собственных тетрадях, или футуризм переставал быть самим собой. Талантливейший Хлебников, человек с признаками гениальности, убивал время на составление неисчислимых списков слов, образованных от корня ‘люб’, он их навыдумывал так много, что типография затруднялась набрать его стихотворение: не хватало в кассах буквы ‘л’. А потребность в таких экзерсисах чрезвычайно невелика, — на всего Толстого вы найдете таких словечек с дюжину, и как редкость, они терпимы, но не более того. Но Хлебников был поэтом, несмотря на все эти выкрутасы, так характерные для довоенного времени, когда он писал просто:
Поэты, вышедшие из футуризма в публику — Маяковский, Пастернак и Асеев — или просто, как первый из них, отказались от формы для формы, либо, как два последних, никогда ею и не занимались. Хлебников, Кручёных, Петников, Бурлюки, Терентьев и др. навсегда останутся курьёзами, любопытными и показательными, по ничего общего с поэзией не имеющими. Только люди очень отставшие от современности и не чувствующие своего читателя могут теперь пропагандировать форму.
История Кручёныха — печальная история. Сперва, в начале футурных времен, — это культивирование сплошной бессмыслицы, к которой автор питал какую-то болезненную нежность, в роде знаменитых „дыр-бул-щыл” (даже прочесть нельзя: ‘ы’ после ‘ща’ — какая чуткость к языку), странные песенки вроде «Помады», нарочито-поганенько изданные, с не то подражаниями, не то пародиями на писарскую лирику, вроде:
„Как бы не относиться к Кручёныху, — пишет Третьяков, — нельзя отказать ему в том, что „разработка слова” производится им неуклонно, добросовестно.” Эти качества — неуклонность и добросовестность в составлении никому не нужных вещей, — разумеется, очень характерны для Кручёныха, и в них ему нельзя отказать... но при чём тут поэзия?
Статьи Толстой и Рафаловнча очень бледны.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||