

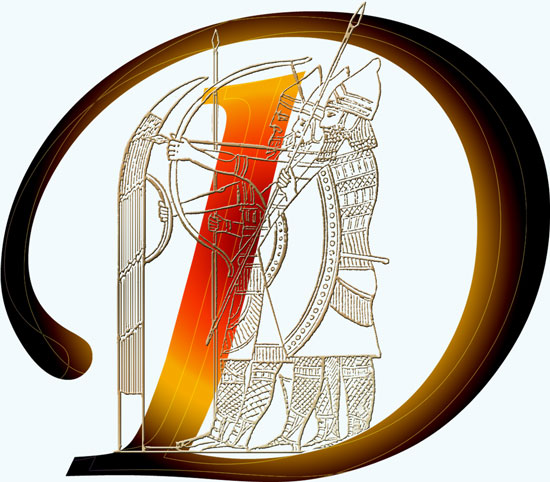 искуссия о состоянии сегодняшней русской советской поэзии, открытая статьями В. Чепкунова и Ал. Михайлова (ЛГ, №22), развивается не только вглубь, но и вширь. Об этом свидетельствуют позднее появившиеся статьи, в которых затронуты вопросы философской оснащённости современной советской поэзии. Подобное расширение характера дискуссии даёт, мне кажется, право высказать и ещё одну точку зрения на проблему традиции и новаторства. Так сказать, седьмую точку зрения. Почему именно седьмую? А потому, что в классической ирано-таджикской литературе бытует постулат: всякое подлинно поэтическое произведение должно иметь не менее семи толкований. Разумеется, толкования эти вовсе нет нужды понимать как взаимоисключающие, скорее они дополняют друг друга.
искуссия о состоянии сегодняшней русской советской поэзии, открытая статьями В. Чепкунова и Ал. Михайлова (ЛГ, №22), развивается не только вглубь, но и вширь. Об этом свидетельствуют позднее появившиеся статьи, в которых затронуты вопросы философской оснащённости современной советской поэзии. Подобное расширение характера дискуссии даёт, мне кажется, право высказать и ещё одну точку зрения на проблему традиции и новаторства. Так сказать, седьмую точку зрения. Почему именно седьмую? А потому, что в классической ирано-таджикской литературе бытует постулат: всякое подлинно поэтическое произведение должно иметь не менее семи толкований. Разумеется, толкования эти вовсе нет нужды понимать как взаимоисключающие, скорее они дополняют друг друга.Как бы ни была велика традиция, без искателей она возвращается на круги своя. Показательно в этом отношении творчество поэтов современного Ирана. Может ли кто-нибудь назвать сегодня одного-двух иранских поэтов, получивших известность за пределами своей страны, как это случилось, скажем, с С. Айни и М. Турсун-заде? Что-то не слыхать таких имён. А ведь в самом Тегеране существуют более сорока поэтических школ — школа Хафиза и школа Фирдоуси, школа Саади и школа Баба Тахира… Но последователи каждой из этих школ все свои устремления и силы направляют не на поиски новых форм и тем, а та то лишь, чтобы достигнуть уровня мастерства своих учителей. Да, в Иране чтут традиции, но нет здесь школы искателей, школы новаторов.
Это и неудивительно. Фанатики всегда считали, что нет бога, кроме бога, и пророка, кроме пророка, потому что иных быть не может. Нелюбопытство — вот основа всякой схоластки. Впрочем, нелюбопытство порой происходит из элементарного незнания в силу тех или иных объективных причин. Так, в Карачи, где мне довелось в дни юбилея Амира Хосрова Дехлеви беседовать со многими пакистанскими интеллигентами, общее представление о русской литературе ограничивалось лишь именами Толстого и Достоевского. Правда, назывался ещё и Пушкин, но как прозаик. Как же было возражать этим людям по некоторым вопросам и проблемам советской литературы, особенно поэзии, если фактически они о ней ничего не знают? Я попросил устроить мушоиру — поэтическое состязание, где каждый из участников должен читать стихи своих любимых авторов, да и свои собственные. Ведь таджикский — классический фарси — понимали все. Мушоиры не вышло. Получился обыкновенный поэтический вечер, по поводу которого иронизирует Владимир Чепкунов. Я читал классиков таджикско-персидской литературы Саади и Хафиза, Бедиля и Руми, а следом стихи Мирзо Турсун-заде и Лонка, Пушкина, Маяковского и Тихонова в таджикском переводе, наконец, свои. Самое интересное, что никто со мной не стал состязаться. Не отпускали со сцены два часа. И ещё пять раз пришлось мне выступать в Пакистане в эту поездку. И остальные выступления были похожи на первое. Зато после них разговоры о советской литературе не ограничивались уже демонстрацией “эрудиции” собеседников, а превращались в вопросы и ответы…
Эмоциональная жизнь человека, как и его духовный мир, постоянно пребывает в неустойчивости, в поиске. Существует математическая формула движения потока воды, математическая модель движения звёзд, предпринимаются попытки увязать движение воды с движением звёзд, но какому компьютеру под силу создать универсальный код взаимодействия движений человеческой души со всеми иными видами движений во Вселенной?
Нет нужды лишний раз повторять, что „стихия свободной стихии” дала русской поэзии очень многое. Урок новаторства в том числе. В этом Юрий Левитанский совершенно прав. Но следует помнить, что Пушкин — новатор прежде всего в поэтическом освоении новых тем, в широте кругозора, в глубине постижения современной ему жизни. Посмотрите, как меняется на протяжении нескольких лет не только строй стихов, но и тематика поэта: «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», а затем «Полтава», «Маленькие трагедии», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Медный всадник»… Право же, школа Пушкина — это не школярское подражание его стиху, в прежде всего наука постигать будущее и выражать современность, чаяния и движения народной души. Не назад к Пушкину, как считает (и призывает Чепкунов), а вперёд с Пушкиным движется русская поэзия.
Прав Ал. Михайлов, когда пишет о том, что наша сегодняшняя поэзия „в заботе о судьбах человека и человечества ‹...› проявляет непростительную робость”. Однако о всей ли поэзии говорит Михайлов или лишь о той, на которую обратила внимание критика? Куда же девать сегодня в русской советской поэзии таких её ярких представителей, как А. Вознесенский, Р. Рождественский, Е. Евтушенко? Уже отошли в небытие разговоры о поэзии “тихой”. Однако именно на эту, “усреднённую” поэзию всё ещё продолжают ориентироваться критики. “Тихая” поэзия — явление, на мой взгляд, скорее социальное, чем литературное. “Тихие” поэты пишут так, будно не существует завоеваний сегодняшней науки, проблем сегодняшнего дня, забот современного советского человека…
В истории фарсиязычной поэзии тоже известно немало казусов, иллюстрирующих сложность взаимоотношений традиций и новаторства. К примеру, в подражание «Шахнамэ» Фирдоуси была написана история монгольского нашествия. Право же, лишь два-три знатока в мире знают имя её автора. А сколько было подражателей у Хафиза! Или ещё пример. Из десяти с лишним тысяч поэтов, оставивших после себя диваны, в памяти народной сохранились лишь те, авторы которых отталкивались от своих великих учителей, а не подражали им. Великий Бедиль когда-то заявил: „После меня поэтов не будет”. Заявление, разумеется, нескромное… Но Бедиль сделал, казалось бы, невозможное по средневековым меркам: вложил в канонический стих новый смысл, новую философию. “Индийский стиль” — так говорили о стихах Бедиля его эпигоны, забывая, что он объединил в своём творчестве мировосприятие разных народов, что поэт осознавал себя сыном человечества. Прошло время, и дело Бедиля продолжил другой фарсиязычный поэт Индостана Мухаммад Икбал. Продолжил уже в ХХ веке, на уровне нового человеческого опыта, новых знаний, новой социальной этики. Продолжил, не повторяя.
Думается, что многих сегодняшних поклонников давних кумиров смущает не столько форма новых песнопений, сколько их содержание. Уже высказывалась мысль о том, что В. Хлебников давно перестал быть „поэтом для поэтов”. Хотелось бы ещё раз обратить внимание на то, что вместе с В. Хлебниковым в русскую поэзию пришло понимание слова как первоосновы стиха наперекор мелодике. Причём пришло с Востока. В подтверждение можно сослаться на такие произведения поэта, как «Кавэ-кузнец», «Труба Гуль-муллы» и другие стихотворения и поэмы. В. Хлебников, по существу, достиг того, о чём мечтал Гёте, — западно-восточного синтеза в поэзии. Правда, тема эта пока недостаточно разработана в нашем литературоведении. Хотя уже сегодня можно сослаться на интересную статью П. Тартаковского «Поэт. Роволюция. Восток. (Творчество Велимира Хлебникова и ирано-таджикское художественное наследие)», опубликованную в июльском номере журнала «Памир».
Показательно, что до В. Хлебникова восточные мотивы в русской поэзии носили характер либо прямых реминисценций, либо подражаний. А. Фет переводил Хафиза ямбом, а попытки передать поэтику восточного стиха не выходили за пределы чисто формальных упражнений, как это было, например, у Брюсова. Сегодня восточный катрен и двустишие бейт прочно вошли в арсенал поэтики русского стиха. Заслуга эта целиком принадлежит русским советским поэтам, в частности, Н. Тихонову, И. Сельвинскому, А. Тарковскому, С. Липкину, А. Кочеткову, сумевшим передать не только поэтическое, но и формальное, ритмическое своеобразие таджикско-персидской поэзии. И эта их работа оказала благотворное влияние на самое русскую поэзию.
Попутно хочу привлечь внимание ещё к одной проблеме. В союзных и автономных республиках страны за последние двадцать лет появилось немало интересных поэтов, пишущих по-русски, но на национальном материале и в национальных традициях. Так, например, в издательстве «Современник» вышла книжка бурята Намжила Нимбуева «Стреноженные молнии», написанная по-русски.
Возникает вопрос: к какой литературе относить творчество подобных поэтов? К русской или родной? Или делать вид, что этих поэтов вообще не существует?
По моему мнению, всё это явления русской поэзии. Думается, что серьёзный критический разбор их творчества, как и процессов взаимовлияния в многонациональной советской поэзии, поможет глубже понять и состояние современной русской поэзии, и соотношение в ней традиции и новаторства.