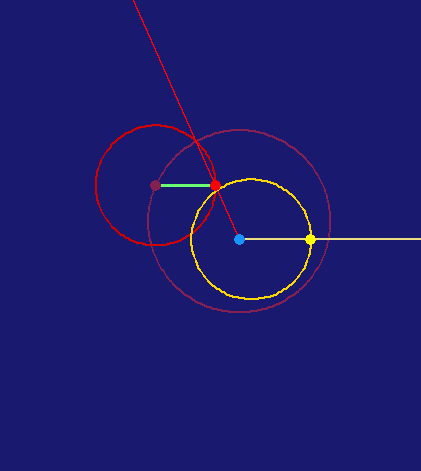В.А. Маринчак
“Самовитое слово” Велимира Хлебникова
Примечания В.В. Маяковского, В.С. Молотилова и др.

узнал о статье В.А. Маринчак (В.А. Маринчака?) из присланной мне тридцать семь лет назад Ларисой Класс-Фесенко библиографии (ныне в фондах астраханского Музея В. Хлебникова). Запросто можно было заказать в областном книгохранилище, насторожили выходные данные: «Русская речь» за 1978 год. То есть манная каша в кисельных берегах.
— Жевотина старых котлет, — усугубляет В.В. Маяковский.
А чтó не жевотина или не старых? Извольте: Russian Literature, Wiener Slawistischer Almanach, Umjetnost Riječi (Časopis za znanost o književnosti), TSQ. Тут я на раз-два-три мухой обернусь. Оно того стоит: базар, самовар, застолье, неожиданная откровенность собеседника. Любого рода ответка не затмит этих приятностей, лю-бо-го. А «Русская речь» за 1978 год не стоит полёта к ней ни жуком, ни мотыльком, ни шмеликом.
— А вы могли бы? — оживляется на шмелика В.В. Маяковский.
И тому подобные пререкания все тридцать семь лет, вплоть до позавчера.
Но покамест речь не о смене вывесок и верований, а о запасниках. Отечественные запасники слывут фондами просто потому, что таковые ещё со времён римских катакомб любят обнаружить себя всплытием спустя затопление. Разве фонды астраханского Музея В. Хлебникова налегли на пограничный крыше потолок? Нет. Чердак подобного рода учреждений должен быть пуст, как череп бедного Йорика. Иначе пожарники опечатают и крыльцо, и — дабы пресечь соблазн проникновения иными путями — кассу. Не знаю как ты, а я в Астрахани залегаю ниже уровня местного водоёма, известного со времён хазар как Сигай.
Спорное утверждение, вот именно. Лучше так: ногаи переназвали какой-нибудь Тетис, в бытность их пришлой с Керулена ордой. Ногай, Мамай, Сигай. Как бы то ни было, приходится обитать заведомо ниже уровня угодного мне восторга ногаев и сомнительной чистоплотности хазар, а именно: по-над спёртыми, подобно старику Хоттабычу до вызволения Волькой, клубами природного газа. И вся эта удушатина жаждет вылета в трубу за так называемый бугор. Надо же, мол, кому-то просветить насчёт преисподней Германию, родину Мефистофеля. И тому подобные страсти-мордасти у меня под боком. Неуютненько, но за двадцать пять лет притерпелся: левая ступня в Астрахани, но правая всё-таки на Урале. Правая толчковая.
Урал — опорный край державы. Стало быть, держава эта — я. А ты поезжай в Дублин, парень. И переговори там с Джонатаном Свифтом. Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Вопрос:
— Не кажется ли вашему высокопреподобию, что Прикамье в границах Западного Урала смахивает на то самое, что сперва обнадёжило, а затем напугало Робинзона Крузо?
Ответ:
— Если кажется, детка, не поленись перекреститься и плюнуть на Сатану и аггелов его, перекреститься и плюнуть, перекреститься и плюнуть. Что же до следов на песке — у Даниэля слишком приземистое (too landed) воображение. Не Шекспир.
А теперь ответь мне с последней прямотой: кем чаще воображал себя в детстве — Гулливером или Робинзоном Крузо? То-то и оно. Выдумка должна порхать не выше разнотравья. Иначе детям асфальтовых гнёзд на поймать её сачком, не наколоть на булавку и не любоваться, не любоваться, не любоваться, не любоваться.
Вдруг меня смутило подозрение, что прерванный полёт шмеля к «Родной речи» ты вообразил на пушкинский лад в переложении Н.А. Римского-Корсакова: бочка сбила с толку. Где ты видел у греков бочки, родной. У них козы объели Элладу на корню ещё при Солоне. Поэтому Диоген и перемогался в ёмкости вроде хоттабычевой, но без укупорки. Подобные вместилища изготовлялись так. Навертят и отлощат здоровенную крынку, обожгут на козьем кизяке и зароют в тенёчке. Поперечник горловины не должен ставить в тупик самого рослого раба, засылаемого выбрать одонки квачом или губкой. А то и нижней губой поработает, если хозяин вольноотпущенник. Веками пользуются, бывало, пока не треснет усталое днище, и всё их дионисийство тю-тю. В такую-то западню чуть не сверзился Диоген с его привычкой задуматься при ходьбе. Тут бы и перелом позвоночника, но нет: друг спас жизнь друга. Барбос (
βαρυ-βóας, глухо рычащий) не первый день подвизался поводырём в странствиях Диогена. Верный страж был начеку, то бишь наготове тяпнуть за лодыжку или щиколотку, смотря по запрокидыванию головы мыслителя. На этот раз он тяпнул выше. Ещё выше. Ещё. В исток ноги, да. Другой бы ускорился куда подальше, но Диоген изощрил себя на знаки судьбы: где не издох без покаяния, там погребай гордыню, человек. Сказано — сделано: сам, бывало, посапывает внутри, а коврик снаружи. И подушка. И хитон. Догадайся с трёх раз, кто под ним. Вскоре весь Коринф ходил задравши нос: наш-то не чета ихнему Платону с его всхлипами о частной собственности. Позволю себе напомнить высказывание Диогена, ошибочно приписываемое Маймониду: единственное богатство человека — его досуг. Пока не вышел на заслуженный отдых — прозябай, как Лиза Карамзина: твой случай. Поэтому перелёт в Дублин отменяется. Держи Молотилова за туземца, и всё. За Пятницу, хотя бы и так. Ты же не Гулливер, надеюсь. Не гуляешь с Наполеоном по больничному садику.
А раз так, должен иметь понятие, кем Пермская область переназвана Пермским краем. Туземцами, совершенно верно. Тайным голосованием граждан с местной пропиской. Тайна сия велика есть, но трудящиеся завода «Стеклодув» мзду за подписи под опросными листами получили сполна и без проволочек. Следовательно, из державы согласие на то, чтобы Пермское областное книгохранилище стало краевым, калёными клещами никто не тянул. Из Пятницы, прошу прощения.
Пятница же не знал, что краевое книгохранилище и край пропасти дружат семьями.
Люди с тонким вкусом к жизни говорят: после нас хоть потоп. То есть непотопляемый Ной получается олух царя небесного. И все, кто готовит сани летом, а телегу зимой — тоже. Стало быть, русские старопрежние хлеборобы — почётные олухи, а не презренные лохи. По мнению людей самого тонкого развития, повторяю.
Эту новость усугублю повторением пройденного: русские старопрежние хлеборобы не славились книжным любомудрием, но иноземных грамотеев привечали всегда. Если не удавалось заманить жалованьем втрое кёнигсбергского — захватывали силой, вместе со средой обитания. Вот почему Иммануил Кант — гордость российской науки, хотелось это Ломоносову или нет.
А разве я не хлебороб? Не дядя же вкалывает на Хлебникова поле. Вкалывает и вкладывается, вкалывает и вкладывается, вкалывает и вкладывается. «Межвузовский сборник научных трудов», «Учёные записки», «Известия Академии Наук СССР» — только успевай пот утирать да мошну растрясать. А тут какая-то «Русская речь» за 1978 год. Тьфу на неё.
Вот и приехали к далековатому сопряжению Пермского края и края пропасти: переназванное книгохранилище возьми да и затопись. Без предварительного ковчега.
Нынче к пермским фондам я не имею малейшего касательства, но во время переписки с Ларисой часто и подолгу приобщался. Трудов 3-й Краснодарской клинической городской больницы, правда, обнаружить не удалось, но в отношении прочего — только успевай крыжики в путеводителе ставить.
И вот намедни я решил возобновиться и добрать остатки прежней роскоши. Включая статью харьковчанина В.А. Маринчака в «Русской речи» за 1978 год, так уж и быть. Выписывают (почему-то не спрашивая уровня подготовки к предмету изучения, о котором отнюдь не любопытствуют) пропуск, проникаю в святилище разума.
Святилище, оно как? Дух отлетел — и добро пожаловать в мерзость запустения. Выморочное имущество, потом бесхозное, а там и берёзки на руинах. Раньше, бывало, притомишься за бирочкой в раздевалке, нынче так: отцы-пустынники и жёны непорочны. То есть дух всё-таки витает. Или наведывается. Я же наведался.
В последний раз. Потому что из прежней роскоши — шаром покати. Затопило без предварительного ковчега.
Все знают, что Молотилов и Гутенберг — Сталин и Гитлер современности. Пакт о ненападении, а там кто кого перехитрит. Перехитрю, даже не вопрос. Все до единого выпуски «Русской речи», например, целёхоньки, см.
здесь.
Кланяюсь в пояс благоустроителям сайта: что за чудо, и как вовремя!
Вовремя, потому что Велимир Хлебников предвидел
победу глаза над слухом. Включая слух о том, что рукописи не горят, а книги не тонут.
* * *
Мне дорог пример из Хлебникова не как достижение,
а как дорога.
В. Маяковский. Война и язык. 1914.
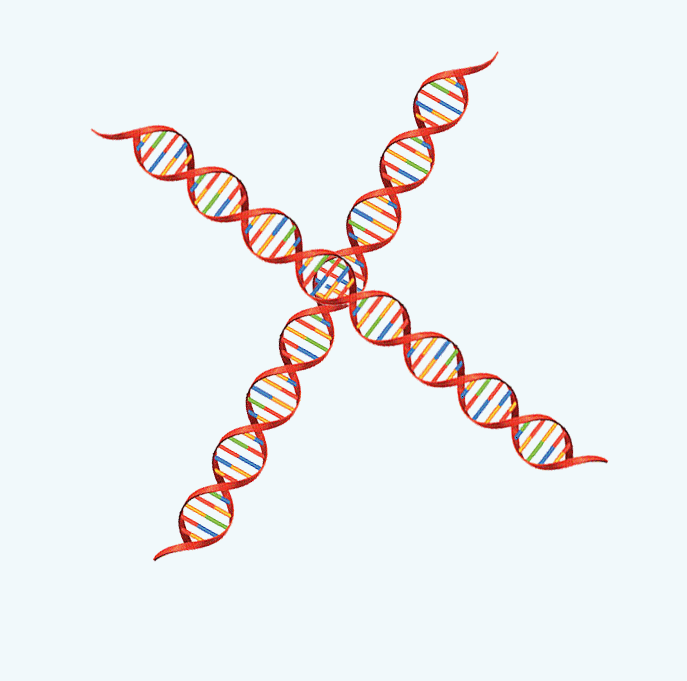
лебников — русский советский поэт, представитель литературного течения футуризма (от лат. futurum — будущее). Футуристы требовали от поэзии современности, активности, обновления поэтического словаря и предельной силы выразительности. На деле же поэзия футуристов, лишённая глубокого содержания и далёкая от жизни, была одной из разновидностей декадентства. Всё поэтическое “бунтарство” футуристов ограничивалось лишь областью стихотворной формы. Хлебников писал:
Учитесь: на язык бросает тень будущее (цитируется по изданию:
В. Хлебников. Собрание произведений. Т.5. Л., 1933). Адресатом его поэтического творчества были не столько современники, сколько будущие поколения.
Об ошибках, преувеличениях, произвольности в построениях Хлебникова писали многие. Он сам именовал себя
узником созвучия, иронизировал:
Я слова божок. Но в то же время остро чувствовал
чары слова и в своей
ваяльне слов хорошо изучил их.
Понимание того, что сделано художником, мыслителем приходит к читателю порой не сразу. Для этого бывает нужно накопление опыта, развитие эстетических представлений, появление новых течений в науке и искусстве. И вот в наши дни оказывается, что его рассуждения о заумном языке и самовитом слове созвучны идеям современных теорий массовой коммуникации, речевого воздействия, звукового символизма. Поэт-будетлянин (будетлянство — хлебниковское название футуризма) по-своему разрабатывал теорию воздействия посредством речи, изучал источники её силы, при этом обнаруживая не использованные резервы — глухонемые пласты языка.
Языковед и сегодня найдёт для себя много близкого и интересного в творениях Хлебникова, если внимательно и вдумчиво прочитает их. За сложностью и метафоричностью языка, условностью терминологии откроется самобытная система идей, до сих пор не потерявшая своей актуальности. Исходные позиции, с которых Хлебников оценивал искусство слова, определял высокое назначение поэзии, таковы:
Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа.
У Хлебникова речь идёт не только о красоте слова, языка, но о гораздо более важном — об идейном воздействии с помощью речи: Общественные деятели вряд ли учитывали тот вред, который наносится неудачно построенным словом. (Нужно учесть, что у Хлебникова ‘слово’, ‘словотворчество’ часто понимается как ‘речь’, ‘речетворчество’). И поэт волнуется:
Нет путейцев языка ‹...› Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка книжного языка свободна от таких путешествий? Это потому, что нет науки словотворчества.
Здесь декларируется необходимость сознательного отношения к речи, рассчитанной на воздействие. Именно поэтому Хлебников резко разграничивал целенаправленную и естественную, непроизвольную речь:
Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли.
Думая о целесообразно организованной речи, поэт осмыслял её сущность через её назначение — люди общаются, чтобы направлять друг друга в совместной деятельности:
Мы учим: слово управляет мозгом, мозг — руками, руки — царствами.
Здесь уже учтена опосредованность речевого воздействия, направленного прежде всего на сознание. Механизм эмоционального воздействия, основанный на подражании, на „заражении чувствами”, когда определенные эмоции вызывают сходное переживание, был для Хлебникова ясен:
Искусство всегда хочет быть знаком душевного движения, властным призывать его.
В. Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940, с. 334.
Оставалось выяснить, от чего зависит эмоциональная и идейная сила речи. В поисках ответа на этот вопрос Хлебников основное внимание сосредоточил на изучении роли слова как основной единицы речи. Предложение строится из слов, значения их объединяются, в итоге формируется содержание высказывания. Каким оно будет, зависит прежде всего от того, какие слова взяты. От этого же зависит воздействие, сила речи. Главное — в слове. В этом смысл того пафоса, с которым поэт утверждал „слово как таковое”, самовитое слово. Чтобы понять, как воздействует речь, нужно прежде понять, как воздействует слово, в чём его сила.
Основной фактор силы слова поэт видит в его образности.
Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл.
Здесь говорится об образности, связанной с появлением переносных значений у слов. Это могут быть и самые широко распространенные ‘орёл’ или ‘сокол’ о человеке, и глубоко индивидуальные, сугубо хлебниковские вещун слова, путеец языка. Кстати, именно с помощью таких вторых смыслов Хлебникову удавалось передать свою безграничную и искреннюю веру в силу слова и речи:
Ты возницей стоишь
И слова гонишь бичом
Народов взволнованный круг ‹...›
Образность может быть связана и с прозрачностью “внутренней формы” слова. В стихах Хлебникова часто можно встретить слова: плетень, колун, ухват, темница, полоснуть, тайновидец. Чтобы подчеркнуть их образность, поэт часто сопоставляет: ухват — хватать, взор — зрил — зазор, отточен — точен. Он играет “внутренней формой”, когда создает свои неологизмы: будетляне, творяне, словельщик, смеярышня. Размышляя об этом факторе словесного воздействия, поэт пишет:
“Крылышкуя” и т.д. потому прекрасно, что в нём, как в коне Трои, сидит слово ушкуй (разбойник) ‹...› Крылышкуя скрыл ушкуя деревянный конь.
Как видно, Хлебников оставлял за собой, да и за читателем, большую свободу в осмыслении “внутренней формы” слов, открывая простор для “народной этимологии”:
Не есть ли число семь усечённое слово семья? Число пять можно выводить из слова пинки (распять, распинать).
Такие осмысления могут и казаться, и быть на самом деле произвольными. Но наличие, пусть даже неверно осмысленной, внутренней формы у слова — фактор его образности и силы.
Пожалуй, самое крупное открытие, сделанное Хлебниковым в процессе изучения факторов речевого воздействия, — это заумный язык. Именно здесь вскрываются глухонемые пласты языка. Речь идёт о выразительности звуковой формы слова. Хлебников верил, что каждый звук имеет значение, что звучание и значение слова накрепко связаны, что достаточно вскрыть это, и откроется бездна неиспользованных возможностей выразительности. Им был предложен своеобразный и остроумный метод изучения значения звука:
Если взять одно слово, допустим, чашка, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т.д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч.
Ассоциативные связи звука со значениями этих слов, иногда как будто неуловимые, могут определять восприятие звука и его образность. Хлебников говорил об этом:
Слово живёт двойной жизнью ‹...› То разум говорит „слушаюсь” звуку, то чистый звук — чистому разуму.
Во всём, что сделано Хлебниковым в этом направлении, ошибочны лишь произвольные истолкования значений звуков. Принципиальные же положения в наше время нашли экспериментальное подтверждение и обоснование в работах советских исследователей “фонетического символизма” А.П. Журавлёва и В.В. Левицкого (см.: А.П. Журавлёв. Фонетическое значение. Л., 1974; В.В. Левицкий. Семантика и фонетика. Черновцы, 1973). Они доказали, что звуки действительно имеют символическое значение. Читатель не обязательно осознает это, но скопление определённых звуков может вызвать при восприятии текста особую реакцию. Таким путём можно, как об этом пишет А.А. Леонтьев, управлять восприятием текста и даже “диктовать” читателю оценку содержания речи (см.: А.А. Леонтьев. Слова “холодные” и “горячие” // Наука и жизнь, 1974, № 4, с. 78). Прямо об этом же в начале двадцатых годов говорил и Хлебников:
Если различать в душе правительство рассудка и бурный народ чувств, то заговоры и заумный язык есть обращение через голову правительства прямо к народу чувств.
Особенно важно то, что подтверждается роль выразительности звуковой формы слова, яркость и образность звучания, взаимосвязь символики звуковой формы и значения слова увеличивают его действенность. Примеры таких слов приводит А.П. Журавлев в книге «Фонетическое значение»: дылда, жуть, кошмар, любовь, очарование, хиляк, хлюпик, хрыч и т.п.
Определив некоторые важные факторы силы слова как такового, Хлебников попытался ответить на вопрос, от чего зависит сила конкретного употребления слова.
Сила слова (если найти величину), походит на действие луча на пороховой погреб под большой столицей ‹...› Детонация зависит не от силы, а от меры (точности) — шаг пехотинца разрушает мост, по которому он идёт.
Здесь схвачено нечто важное: воздействие может быть скрытым, завуалированным, большой эффект возникает часто за счёт вроде бы слабых слов. И точность обозначения играет здесь главную роль, затем целесообразная эффективность, экономность, когда максимум выразительности достигается за счёт минимума средств, ибо песня родственна бегу, в наименьшее время надо слову покрыть наибольшее число вёрст образов и мысли!.
Итак, опыт поисков Хлебникова очень интересен. До сих пор актуальны открытия поэта: важнейшие факторы силы слова как такового — звуковая, морфологическая (“внутренняя форма”) и смысловая (перенос значения) образность слова; факторы силы слова в контексте — точность и экономность употребления, иногда — скрытность эффекта воздействия.
Хлебников думал о многом. Ошибался, иногда проходил мимо важных проблем и задач, не на все вопросы успел найти ответ. Остались строки:
Каменский в прекрасной вещи «Стенька Разин» искусно работал над задачей так разместить на цветущем кусте сто соловьёв и жаворонков, чтобы из них вышел Стенька Разин.
Это одна из попыток ответить на вопрос, как самовитое слово живёт в речи, как объединяется сила слов и создается содержание и сила текста. В написанном — нераскрытая тайна и предчувствие открытия. Достижения нет, но есть дорога.
Воспроизведено по:
Русская речь. 1978, №2. С. 58–62.
www.russkayarech.ru/archive/1978-2/58-62
* * *

переиздал статью В.Я. Маринчака совершенно такой, какова она в закромах сайта «Русской речи». Только там facsimile, а у меня hypertext. Но ты наверняка наслышан о шутках Велимира Хлебникова. Хлебников шутит, никто не смеётся. Он и так, и сяк — не дрогнут эти постные, как у гоголевского зятя Мижуева, рожи. А то и переймут насупленность Собакевича над осетром.
Я, главным образом, перейму. Чему радоваться-то? Верчусь Коробочкой о Филиппов пост, а оно валит и валит. Одна и та же буква Ша, дескать. Шутка, шабашка, шевелись, шибче, швыдче, шустрей. А ко мне уже вывих аорты ломится, будто я дверь общественной уборной. Эдак и высадит с косяками, для удобства выноса тела. Молись за меня, блаженный.
Позавчера, например (тридцать семь лет предварения, заметь), Хлебников пошутил опечаткой. Помнишь мой отзыв о сайте «Русской речи»? Что за чудо, дескать, и как вовремя! Как вовремя ляп вёрстки оглавления второго за 1978 год выпуска: «
Сановитое слово» Велимира Хлебникова. Нарочно не придумаешь, будь ты семи пядей во лбу или даже сам Алексей Елисеевич Кручёных.
Почему даже сам? Потому что
самовитым слово
будетлян стало в пору его тесного сотрудничества с Хлебниковым. Тесного («Игра в аду») и беспримерного: никто из современников таким одиначеством не похвастает. Ни-кто.
Поэтому я, в отличие от проф. В.П. Григорьева, с опаской отношу прилагательное
самовитый к хлебниковским находкам. А ну как не хлебниковская находка, а крýчина выходка?
Терпеть не можешь проф. В.П. Григорьева? Придётся, голубчик. Я же терплю, когда обзываешь Пятницей. Как это ну и что. Мы же оба людоеды, я и профессор. Только я людоед в прошлом, а он почти: подранок. Тигру-подранку прямая дорога в человекоубийцы, спроси у Бернгарда Гржимека. И этот подранок осколками вражеской мины прорычал, отползая в ИРЯ имени В.В. Виноградова РАН:
‹...› собрав всё множество фактов, на первый взгляд, мало связанных со словом сыновеет, автор впервые задумался над неологизмом сыновитый (60: 43 об.), ранее десятки раз пробегая его глазами. Вдруг возник вопрос не только о возможности/невозможности трактовать его основу как форму род. п. мн. ч. (ср. сыновний), но и о таком фрагменте словотворческой системы, как сановитый> сыновитый, а может быть, и >самовитый. Ведь в этом случае отношение сановитый – самовитый было бы параллелью социально заострённому дворяне – творяне.
Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М.: Наука. 1986 г.
Где же тут алчба человеческой плоти, спросишь ты. Слушай ответ Пятницы: сытый по горло грызнёй с А.Е. Парнисом проф. В.П. Григорьев не склонен причислять А.Е. Кручёныха к повивальным бабкам
будетлянского самовитый, а я даже натощак исключаю из таковых Велимира Хлебникова. Редкий случай, когда оба правы, но высечь того и другого не помешает. Железное правило Василисы Егоровны Мироновой, так точно. Умела сплотить личный состав не хуже батьки Махно.
• самовитый И.И. Евтушенко из Гурьева заинтересовался прилагательным
самовитый, которое встретилось ему однажды в журнальной статье: [Литература Сибири] „является
самовитой частью общерусской культуры, её органическим продолжением и развитием”. («Знамя», 1970, № 11), и которое, он помнит, употребляла его мать, уроженка Запорожья: „Чого крычыш, як нысамовытый!”. „Хотелось бы знать точнее смысл этого не очень распространенного слова, с такой явно необычной географией: Украина и — Сибирь!” — заключает своё письмо И.И. Евтушенко.
Прилагательного
самовитый мы действительно не найдём ни в одном словаре русского литературного языка, потому что оно не относится к числу общеизвестных и общеупотребительных. Но оно встречается в юго-западной группе русских говоров, в говорах Украины и Белоруссии (его можно, видимо, встретить и в Сибири, русское население которой составили выходцы из самых различных областей). Слово засвидетельствовано, например, в «Смоленском областном словаре» В.Н. Добровольского (Смоленск, 1914):
самовитый — самостоятельный, разумный. Его найдём в «Словаре белорусского наречия» И.И. Носовича (СПб., 1870):
самовитый — настоящий, самый лучший.
Изредка прилагательное
самовитый в качестве особого стилистического средства используется современными писателями и журналистами. В картотеках Словарного сектора Института языкознания АН СССР (Ленинград) засвидетельствованы, помимо приведённого И.И. Евтушенко, следующие употребления: „Андрей смотрел ему [Василию] вслед: — Хорош! А пока не наберётся опыта, глаз с него спускать нельзя. Чересчур “самовит”, властен, горяч” (Николаева. Жатва); „Слово — самовитое, кондовое, подчас подчиняющее себе всё и вся в некоторых произведениях, не является для писателей самоцелью” («Знамя», 1970, № 3); „Валера подрастал. В седьмом классе ездил в пионерский лагерь и привёз оттуда грамоту чемпиона по планерам, уверенный тогда был, самовитый. Повесил в коридоре бумагу: „Ребята, я буду вами руководить” («Комсомольская правда», 11 июня 1970).
В приведённых цитатах самовитый означает ‘самостоятельный, уверенный в себе’ (там, где употребляется по отношению к человеку) и ‘имеющий самостоятельную ценность, значение’ (при употреблении по отношению к неодушевленным предметам, явлениям).
Подобно многим областным словам, прилагательное
самовитый не имеет единого, общего значения, его значение варьируется по отдельным говорам (ср., например, определения этого слова в словарях Добровольского и Носовича). Однако общая основа значения, по всей видимости, есть, и она так или иначе проявляется в отдельных частных значениях, присущих тем или иным говорам. Прилагательное
самовитый образовано с помощью суффикса -
овит-, значение которого формулируется в грамматике русского языка как “обладающий в большой степени тем, что названо мотивирующим словом”, например: даровитый, плодовитый, сановитый и под. («Грамматика современного русского литературного языка».
М.: Наука. 1970, стр. 197). В нашем случае мотивирующим (производящим) словом является местоимение
сам.
самовитый — отличающийся большой степенью “самости” (ср. в Словаре В. Даля:
самость — самоличность, подлинность; самостоятельность и стойкость).
В употреблении матери И.И. Евтушенко также проявилось одно из диалектных значений слова
самовитый (в данном случае — диалекта украинского языка) — ‘разумный’;
нысамовытый — ‘неразумный, несмышленый, глупый’
И.Н. Шмелёва. Самовитый // Русская речь. 1975, №4. С. 91–92.

воспроизвёл статью И.Н. Шмелёвой в рассуждении покрасоваться и блеснуть на чужой счёт. Поступок не ахти, кто бы спорил. А глядя из Дублина — хуже некуда. Почему Джонатан Свифт. Не Свифт, а Вакх: „Опечатка вдруг даёт смысл целой вещи и может быть приветствуема как желанная помощь певцу”.
В немытой России подобного рода вспомоществование сопряжено с прелюбопытным напутствием: хорошо поёт, где-то сядет. Смысл такой: жить играючи можно и на ходу, припеваючи — только сидя. Примостись, и будет тебе счастье. Вон их сколько, дескать, на пеньке. Не дураки сидят. Где ты видел в опёнке червоточину? По мне, например, что
самовитый, что
сановитый — без разницы. Выше надо глядеть. Ещё выше.
Всё выше, и выше, и выше. Запрокинув голову следить полёт
наших птиц, вот как надо. Хотя бы потому, что полёты
не наших (не нами сотворенных) приелись Вакху ещё в Восточном Тиморе.
Бессмертноветь Вакх начал внезапно, в возрасте двадцати лет. Отец его посвятил свою жизнь пернатым и перепончатокрылым, и достиг выдающихся успехов: красная шапочка баронета украсила седины учёного. К своей науке он приобщал Вакха с младых ногтей. Чтобы изучить птицу, надо её убить. Потом осторожно снять шкурку с пёрышками, заменить плоть паклей. Всё, птица изучена. Главное — убить.
Изучать летучих мышей и ползлётов ничуть не легче, а надо. Ползлёты это крылатые змеи, драконы. Довольно неприятные на вид и очень опасные существа. У страха, как известно, глаза велики: ползлётам приписывают пару голенастых лап толщиной с телеграфный столб, оснащённых аршинными когтями. На самом деле никаких конечностей, кроме перепончатых крыльев, у драконов нет. Пламя они действительно изрыгают, если поднести к пасти зажжённую спичку: сероводород весьма горюч. За это открытие отец Вакха и удостоился титула баронета.
Вакх был метким стрелком. Огнестрельное оружие учёные-птицебои не применяют ни при каких обстоятельствах. Лук, праща, бумеранг. Вакх предпочитал индейскую выдувную трубку. Он попадал в глаз колибри за сто шагов, коршуну — за триста. В искусстве выделывания чучел попугаев ему не было равных. Поэтому University of Dublin Trinity College и послал Вакха изучать райских птиц Восточного Тимора. Джунгли Восточного Тимора — сущий ад, но райские птицы водятся только там.
Именно там и тогда произошло преображение (The Transformation) Вакха.
В. Молотилов. Вакх // Сказания о Велимире Хлебникове.
Не чувствуя позыва и далее прельщать кого бы то ни было тороватостью дублинской науки, ставлю вопрос ребром: почему слащаво-умильные возгласы, будто Велимир Хлебников обогатил родную речь словом лётчик, слышны по сию пору? Ответ плашмя: имеются выгодополучатели. Подзуживают кого ни попадя, лишь бы не дать народу вникнуть в Доски судьбы. Попутно забалтывая самовитое слово Хлебникова о воздухоплавании.
Спешу высказаться, М. Г., по весьма замечательному, Вами затронутому вопросу.
“Летатель” удобно для общего обозначения, но для суждения о данном полёте лучше брать “полётчик” (переплётчик), а также другие, имеющие свой, каждое отдельный, оттенок, например, “неудачный летун” (бегун), “знаменитый летатай” (ходатай, оратай) и “летчий” (кравчий, гончий). Наконец, ещё возможно “лтец”, “лтица” по образцу чтец (читатель). Для женщин удобно сказать “летавица” (красавица, плясавица).
В. Хлебников. Образчик словоновшеств в языке. ‹1909› // Пощёчина общественному вкусу. 1913.
———————
Маяковский в неслыханной вещи «Облако в штанах» заставил плакать Горького. Он бросает душу читателя под ноги бешеных слонов, вскормленных его ненавистью. Бич голоса разжигает их ярость. Каменский в прекрасной вещи «Стенька Разин» искусно работал над задачей так разместить на цветущем кусте сто соловьёв и жаворонков, чтобы из них вышел Стенька Разин. Хлебников утонул в болотах вычислений, и его насильственно спасали. ‹...› От Божидара, который продолжает быть спутником двух или трёх людей к Земному Шару, осталась редко прекрасная речь о „едином познавательном снаряде” и „соборе внечувственных добыч”. Он разбился, летя, о стены прозрачной судьбы. Вот птица падает, и кровь капает из клюва. „В нас неотвязно маячит образ снаряда”, „лёгкими лётчиками крылим мы, всё единя, для единого покрывала всеведения” — вот его прекрасные слова. Мы постигаем Божидара через отражённое колебание в сердцах, знавших его.
В. Хлебников. Ляля на тигре // Северный изборник. 1918.
«Распевочное единство» Божидара (Богдана Петровича Гордеева, 1894–1914) напрашивается на гораздо больший, нежели отваленный Хлебниковым (обратил внимание на самооценку? Скромность паче гордыни, но дело не в этом. Постичь во всей полноте лётчиков Божидара, оказывается, способны двое-трое: Хлебников и ты. И я, твоими молитвами), пласт мыслезёма.
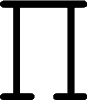
ознавательная сноровка: единый снарядъ познаванія обращать во множество познавательныхъ орудій, дабы такъ познать предметъ во вс
ѣхъ его мелочахъ, — лежитъ въ природныхъ свойствахъ челов
ѣка, и, если вообще всякая жизнь есть познаваніе или собираніе вн
ѣчувственныхъ добычъ опыта, все окружающее насъ бытіе, безъ конца дробящееся, ведетъ рядомъ огромный прим
ѣръ той же сноровки. В
ѣдь что вселенная, — какъ не безудержное напряженіе воли н
ѣкаго всец
ѣлаго нутренняго ума?
Но, если и правы науки, все разв
ѣтвляясь, все разб
ѣгаясь на ловитву за частностями и странностями, все же постиженіе лишь тогда становится истымъ познаніемъ, когда каждое изъ познавательныхъ орудій, въ силу достатка усовершенствованій, д
ѣлается уже полнымъ подобіемъ первичнаго и исходнаго снаряда. Однако, должно же сознаться, — никогда и ни у какого в
ѣщуна, а т
ѣмъ мен
ѣе ученаго, не было въ рукахъ того прозрительнаго чудеснаго снаряда, которымъ различается и изыскивается сама суть познаваемости,
но всегда вс
ѣ искатели истины обладали неточными орудіями, и только мнилось имъ, что когда то влад
ѣли они снарядомъ познаванія, когда то знали его чертежи — и такъ изъ своего мн
ѣнія совершенствовали свои приборы.
Итакъ, истинно и естественно, что единый совершенный снарядъ познаванія есть только призракъ, который р
ѣетъ надъ своими подобиями — орудіями, сказываясь все же въ каждомъ.
— Ежели домыселъ этотъ в
ѣренъ, явственно нам
ѣчается
дальн
ѣйшее: вс
ѣ орудія, приспособленныя къ д
ѣйствованію въ одной опред
ѣленной плоскости и для т
ѣхъ же все конечныхъ задачъ, сведеніемъ къ мнимому прообразу, сбрасываются въ своеродное единство, при чемъ т
ѣмъ самымъ возмогается зам
ѣна въ познавательныхъ пытаніяхъ одного другимъ — въ случаяхъ самыхъ необычныхъ. Изысканіе самого того снаряда становится древней бредней колдуновъ о н
ѣкомъ мудростномъ камн
ѣ; важно лишь помнить, что въ насъ неотвязно маячитъ образъ снаряда, что и ободряетъ насъ на дерзновенн
ѣйшія обобщенія. На д
ѣл
ѣ мы вдохновляемъ
прообразъ въ любое изъ орудій, обращаемъ его такъ, въ образчикъ къ которому единствомъ нац
ѣла д
ѣйствія сводимъ вс
ѣ иныя; впрочемъ, для того объединенія случается перекидывать наичудесн
ѣйшіе мосты отправныхъ точекъ.
Такъ д
ѣйствуя, мы якобы об
ѣдняемъ наши собранія орудій, но — въ явь: ц
ѣлостно-многообразно обогащаемъ весь орудійный двигъ. Тогда властны мы говорить о томъ, что не къ постиженію только идемъ мы, какъ будничные и досужіе поискиватели, но и не на ходуляхъ учености, — легкими летчиками къ познанію крылимъ мы — все единя для
единаго покрыла
всевѣдѣнiя.
Божидаръ. Распѣвочное единство. Редакцiя, предисловiе, комментарiи Сергѣя Боброва. М.: Центрифуга. 1916. С. 13–14.
Твоими молитвами трижды отрекаюсь от обезлички сопряжения сановитый / самовитый: тусклое, тухлое, трухлявое верхоглядство. Правильно Собакевич насупился. Пора доехать осетра, пока все тут расслабились. Приступим.
Даже беглое сличение высказываний Хлебникова и Божидара на стыке слова лётчик помогает уразуметь порядок подчинённости этих понятий. Сановитость в изящной (книжной) словесности ни в коем случае не равна вальяжной осанистости, но прямо подразумевает беспокойство и охоту к перемене мест. Самовитое слово есть слово сановитое в самораскрытии. Сановитое — корень оливы, самовитое — оливковая ветвь в клюве голубки Пикассо.
Пробуем подыскать глагол к прилагательному сановитый. Невозможное дело. А к прилагательному самовитый? Витийствовать, что и требовалось доказать. Хлебников даже имя переменил, чтобы никто не присоседился: Витя и я, Витя и я, Витя и я.
Витийствуя, следует отличать полёт вообще — в пространстве (из точки А в точку В), во времени (от события к событию), полёт мысли, наконец — от полёта в частности, на именно этом летательном снаряде: для суждения о данном полёте лучше брать полётчик.
Для Хлебникова самолёт — сановитое (стародавнее, живое целую вечность) слово русской сказки. Неприкосновенный запас. Посему именно этот летательный прибор (снаряд) должен обозначаться самовито: снасть Блерио (1909), Сикорский (плавал из пыли Коперника в пыль Менделеева под шум Сикорского, 1915), бабочка Фармана (1916). Никакого самолёта, вплоть до 1920 года (И рвался воздух / Из лёгких самолёта). Скатерть-самобранка, самолётова жена ¦ самолёты на Западе ¦ напеву самолёта внемля ¦ самолёт чётко вырезал четыре — всё это помечено 1921 годом. Решился-таки. Почему не раньше?
Потому что неправда. Здесь в водах русла Невского / Крылом сверкает самолёт, / Там близ кумира Лобачевского / Мятель мятежная поёт. Из «Песни мне» 1910 года. А годом раньше сановитость во всей красе:
Пронзая с свистом тихим выси,
Касаясь головой златистой тучки,
Летит, сидя на хребте рыси,
Внучка Малуши ‹...›
Старинных не стирая черт,
Сквозь зóрю шевелился чёрт.
Он ей умильно строил рожи,
Чернявых не скрывая рожек.
И с отвращеньем в речи звонко
За хвостик вышвырнула гадёнка.
Послушен, точен оборóтень
Людмилы воли поворотам.
Сидит, надувши губки,
Княжна в собольей шубке.
Уж воздух холоден, как лед,
Но дальше мчит их самолёт.
Напоминаю Дон-Кихота с поединке с мельницей: никто ведь и не говорит, что самолёт в русской речи ХХ века — немеркнущая заслуга Велимира Хлебникова, наподобие трогательно Тургенева и стушеваться Достоевского. Говорили и говорят о лётчике.
• самолёт и лётчик
1803 год. В Петербурге возле Малой Охты (в ту пору на этом месте еще шелестели леса) опустился воздушный шар, поднявший в небо России людей, едва начавших обретать крылья.
Шли годы... На исходе XIX века «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона уже упоминал (в статье «Аэронавтика») „так называемую авиацию, то есть подражание полёту птиц”. Эти ранние сведения об авиации ещё расплывчаты и туманны, но автор статьи справедливо считал, что „нельзя отрицать абсолютной возможности авиации, и, может быть, она является воздухоплаванием будущего”.
А это “авиационное будущее” властно вторгалось в жизнь России. Оно разрушало неверие, рождало самые фантастические мечты, и человек, поднявшийся в небо, казался изумлённому россиянину каким-то новым божеством. „Так, в Крестцах, — сообщал в сентябре 1911 года журнал «Воздухоплаватель», — при спуске одного авиатора некоторые из окружившей его толпы со слезами на глазах бросались перед ним на колени, целовали ему руки, а какой-то старик молился вслух, благословляя судьбу за доставленный ему случай увидеть настоящее чудо”.
Правда, кое-кому полёты в небо на аппаратах тяжелее воздуха представлялись не более чем модной забавой. „Тысячи нянек суетятся вокруг хилого, по-видимому, недоношенного ребёнка — авиации, вскармливают его, водят на помочах”, — скептически писал в том же, 1911 году корреспондент журнала «Автомобиль». Но „дитя” росло и мужало с непостижимой быстротой: вспомним, что приведённые слова были сказаны за два года до “мёртвой петли” Михаила Нестерова!
А пока что “крылатое чудо” продолжало вызывать горячие споры — вплоть до дебатов в Государственной думе по поводу изданного царским правительством приказа, запрещавшего подниматься в воздух без разрешения и присмотра полиции. „Что же тут дурного? — кипятился один из депутатов. — Понятно, что прежде чем научить людей летать, надо научить летать за ними полицейских...”.
Оживлённые споры возникали и в связи с вопросом о том, как назвать “крылатого человека”. Отголоски их сохранил до наших дней один из протоколов заседания Всероссийского аэроклуба. К тексту этого протокола мы вернемся несколько позже.
«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, давая одно из первых толкований нового понятия авиация, указывал, что „сторонниками авиации, или авиаторами, являются все теоретики-воздухоплаватели, математики, инженеры, физиологи и техники”. Название авиатор, родственное французскому aviation, надолго закрепилось за людьми, поднявшими в воздух первые аэропланы, тем более что слово это было интернациональным. Так, в июле 1910 года газета «Утро России» сообщала, что недавний полёт Б.И. Российского „поставил его в ряд вполне законченных авиаторов”. Вспоминая те годы, известный русский учёный и литератор, шлиссельбуржец Николай Морозов с глубокой симпатией писал в автобиографической повести об „авиаторе Ефимове”, с которым мечтал подняться на новом моноплане. Сам М.Н. Ефимов в письмах 1910 года называл себя „первым русским авиатором”. Слово авиатор преобладает в газетах, журналах, рапортах начальника воздухоплавательного парка. Именно это название бытует в художественной литературе и публицистике тех лет: „Володя, голубчик, может, ты знаешь денежного человека, авиатора какого-нибудь?” (Л. Андреев. Профессор Сторицын). Авиатором называет А.И. Куприн в очерке «Мой полёт» одного из легендарных русских асов, волжанина Ивана Заикина, человека удивительной отваги и дерзости (с ним писатель совершил в 1910 году полёт на аэроплане «Фарман»). «Авиатор» — так озаглавил Александр Блок стихотворение, написанное в 1912 году.
Однако чужеземный, нерусский облик слова заставлял искать название более родное и близкое, к тому же такое, которое бы с предельной точностью выражало понятие ‘летающий человек’, ‘человек, который сделал полёты в небо своей профессией’. Так появляются слова летун и лётчик, образованные от исконно русского глагола летать. Все три слова — авиатор, лётчик, летун — довольно долго сосуществуют, обозначая одно и то же понятие (если не считать некоторых смысловых оттенков).
Вот как описывала, например, «Петербургская газета» (1910) катастрофу с аэропланом Морана: „Аэроплан, снижаясь, продолжал лететь на публику. В паническом страхе бежали во все стороны судьи, сигнальщики и просто любители... Летун отделался благополучно”. В одном из номеров журнала «Воздухоплаватель» (1911) анализировались причины несчастных случаев, „жертвою которых пали весьма опытные летуны”. Позднее тот же журнал в отчёте о первом крупном перелёте Петербург – Москва с гордостью констатировал, что перелёт этот „явился серьёзным опытом для наших летунов”.
Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.
Так начинал стихотворение «Авиатор» А. Блок. В том же, 1912 году А. Грин писал в рассказе «Тяжёлый воздух»: „Внизу, под ногами летуна, время от времени шумел игрушечный поезд, а стрелочник с флагом в руках задирал голову вверх, что-то крича стремительно несущемуся аэроплану”.
Невольно бросается в глаза, как охотно используют слово летун русские писатели и поэты начала века.
Но словообразовательный облик этого слова вызывал некоторые нежелательные ассоциации (ср. существительные типа лгун, болтун), что, естественно, было серьёзным препятствием для более основательного закреплении этого слова в языке. Вот почему наибольший интерес представляет конкуренция двух других слов — авиатор и лётчик, которые чрезвычайно широко входят в обиход уже в первые десятилетия XX века. Следует сразу подчеркнуть, что слово лётчик на первых порах имело более узкое, специальное значение: оно служило названием военных авиаторов-профессионалов. Поэтому в отчётах за 1911 год старейшей в России Качинской авиационной школы люди, управляющие аэропланом, названы лётчиками. Имея в виду именно нужды военной авиации, изобретатель парашюта Г. Котельников сообщал в 1912 году военному министру: „Я представил в Воздухоплавательный отдел ‹...› чертежи изобретенного мною ‹...› ранца-парашюта для лётчиков”. Годом позже «Петербургская газета» информировала читателей о событии, составившем эпоху в истории русской авиация: „Сегодня в 6 часов вечера военный лётчик 3-й авиационной роты Нестеров в присутствии других лётчиков, врача и посторонней публики сделал, на высоте 600 метров, “мёртвую петлю”.
Теперь вернёмся к тому “лингвистическому спору”, о котором упоминалось в начале статьи.
17 ноября 1910 года состоялось 59-е заседание Совета Всероссийского аэроклуба, на котором среди прочих дел обсуждался вопрос об условиях получения призов, учреждаемых великой княгиней Анастасией Михайловной. Касаясь номенклатуры, предложенной в её рескрипте, один из членов Совета указывал на то, что “не следует делать различия между военными и штатскими авиаторами, называя первых лётчиками, а вторых летунами”. Следующий оратор добавил, что вообще „кличка летун является унизительной для невоенных авиаторов” (очевидно, по причине, о которой говорилось ранее). Третий из выступавших, напротив, считал, что „предпочтительнее русское слово летун иностранному авиатор”, Высказывалось и такое мнение: не целесообразнее ли сохранить единое название „как для военных авиаторов, так и для невоенных?”. Результатом столь необычного спора явилась, следующая любопытная резолюция: „Не употреблять слов летун и лётчик и называть как военных воздухоплавателей, так и невоенных — авиатор”. Однако очень скоро небольшое смысловое различие (военный лётчик — спортсмен-авиатор) начинает стираться, и в апрельском номере за 1911 год того же старейшего русского авиационного журнала «Воздухоплаватель», который сохранил до наших дней текст протокола, мы находим упоминание о лётчиках-любителях. Таким образом, слово лётчик, вопреки каким бы то ни было резолюциям, расширяет сферу употребления и начинает обозначать не только военных лётчиков, но и авиаторов-спортсменов.
Правда, процесс его окончательного закрепления в языке, в результате которого слово лётчик стало обозначать любого человека, управляющего самолётом (и военного, и простого любителя, и представителя гражданской авиации), был не таким уж кратким и прямолинейным. Достаточно сказать, что ещё в первом издании Большой Советской Энциклопедии различаются авиатор — „лицо, получившее специальную теоретическую и практическую подготовку и совершающее полёты на летательных аппаратах тяжелее воздуха” и лётчик — название, применяемое в военной авиации. Впрочем, в статье «Авиация» в том же издании лётчик используется уже не только по отношению к военным авиаторам.
Какие же факторы способствовали окончательному закреплению слова лётчик в русском литературном языке?
По всей вероятности, дело обстояло следующим образом. Жгучий интерес к авиации, этому подлинному чуду XX века, привлекал к чтению статей, посвящённых вопросам авиации, обширный круг читателей. Такой “средний читатель”, не будучи специалистом в этой области, едва ли обращал внимание на то, какого авиатора имеет в виду автор статьи: военного или штатского. Для него слова лётчик и авиатор не имели никакого смыслового различия. Примечательно, что статьи специалистов в области авиационного дела нередко выходили далеко за рамки только военной авиации, затрагивая вопросы морального плана. Так в ноябрьской книжке «Воздухоплавателя» за 1911 год была опубликована заметка под названием «Авиация и брак», автор которой серьёзно ратовал за то, чтобы в военные авиационные школы не принимали женатых: „Гибель Матыевича [русского военного лётчика] поднимает очень интересный вопрос: может ли быть лётчик женат? Я думаю, — пишет автор заметки, — что нравственно женатые люди не могут летать”. Учитывая постановку столь широкой моральной проблемы, можно с уверенностью утверждать, что читатель журнала едва ли обратил внимание, что речь идёт о военном авиаторе.
К тому же — и это едва ли не решающее обстоятельство — русский облик слова не мог не импонировать и читателям, и самим публицистам, в силу чего слова лётчик и авиатор начинают использоваться как синонимы.
Русская художественная литература также ускорила процесс окончательного закрепления слова лётчик в русском литературном языке. Уже упоминавшийся рассказ А. Грина «Тяжёлый воздух» первоначально (в черновых вариантах) назывался «Лётчик Киршин». В тексте этого небольшого рассказа, написанного в редкой для А. Грина реалистической манере, мало напоминающей стиль его романтических феерий, употребляются все три слова: авиатор (27 раз), лётчик (13), летун (1). Несмотря на столь очевидное преобладание слова авиатор, очень существенно, что все три слова выступают как синонимы, тем более что герой рассказа — не военный лётчик, а любитель-спортсмен. Варьирование этих слов в тексте — результат стремления избежать некоторой “стилистической монотонности”: „Теперь, когда никто больше не летел впереди него и, следовательно, от прочности аппарата, состояния погоды и выносливости самого лётчика зависел окончательный успех состязания, авиатор, пугаясь назойливых представлений, отталкивая их, но этим ещё более подчиняясь их власти, увидел себя падающим стремглав головой вниз”.
В отличие от Грина, в рассказе Куприна «Сашка и Яшка» речь идёт именно о военном лётчике, мичмане Прокофьеве, чем, видимо, объясняется и безусловное преобладание в тексте слова лётчик. Однако для читателя эта специфически “военная” сторона повествования, конечно, пропадала.
Существенным было лишь представление о лётчике как о человеке, управляющем аэропланом. А это тоже не могло не укреплять позиций слова лётчик в общенародном языке.
Отметим еще один фактор: семантическую близость слова к глаголу летать и продуктивный в русском языке суффикс -чик, служащий для обозначения лиц по их профессиональной принадлежности (водопроводчик, прокатчик). Всё это, вместе взятое, привело к окончательному закреплению слова лётчик в русском литературном языке. Начиная со словаря под редакцией Д.Н. Ушакова, оно входит во все словари русского языка.
Тем не менее, и слово авиатор не было утрачено русским языком: этому способствовали “родственные узы”, связывающие его со словом авиация, и известное расширение его употребления, своего рода “возвращение” на те исходные позиции, которые были отведены для него ещё «Энциклопедическим словарем» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. В наши дни авиатор обозначает любого человека, имеющего отношение к авиации, не только лётчика, но и авиаконструктора, инженера-авиатора, обслуживающий персонал на аэродроме и так далее.
Летательный аппарат, которым управляет лётчик, как известно, в наши дни называется самолётом. Судьба этого слова сходна с историей слова лётчик: и в этом случае исконно русское слово вытесняет иноязычное.
А в 1853 году корреспондент Русского географического общества П. Троицкий, рассказывая о жизни крестьян села Липиц Тульской губернии, писал: „Некоторые ткачи недавно придумали способ ткать холст самолётом”.
Но какое отношение имеет самолёт к ткачеству? Какая связь между летательным аппаратом тяжелее воздуха, который все мы называем привычным словом самолёт, и тем „самолётом”, о котором упоминает П. Троицкий?
В ту пору, когда Троицкий изучал быт тульских крестьян, самолёта в современном смысле слова ещё не существовало; люди только пробовали подниматься в небо в гондолах воздушных шаров, и почти тридцать лет отделяло это время от того момента, когда морской офицер А.Ф. Можайский получил патент на изобретение „воздухоплавательного снаряда” — первого русского самолёта.
Что касается слова самолёт, то оно появилось значительно раньше: по крайней мере, уже В. Бурнашев приводит его в своем «Опыте терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного» (1843–1844), но, разумеется, с иным значением: „В ткацком стане — челнок, который бросают не рукою, а посредством погонялки”.
Именно о таком челноке мечтают крестьяне в очерке Н. Гарина-Михайловского «На ночлеге» (1898), завидуя тем, кто работает у предприимчивого купца, который „челнок-самолёт устроил: сам челночок перепрыгивает, а здесь, видишь как, — изломаться пять раз на минуту всем телом надо...”. „Что же у себя не заведёте такого самолета? — интересуется автор очерка. — Где завести? десять рублей такой челнок стоит. Где их взять?”.
„Самолёт, — писал в 1894 году «Правительственный вестник», — новый ткацкий прибор, при котором можно получать ткань в несколько рисунков”. Такие усовершенствованные ткацкие станки (самолёты) упоминает и Г.В. Плеханов в известной работе «Наши разногласия». То же значение слова отмечают «Русский энциклопедический словарь» И.Н. Березина (1875) и «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1900).
Однако приведённое значение слова самолёт не было единственным. В некоторых губерниях России самолётом называли примитивное орудие для пахоты, типа сохи. Сошлёмся хотя бы на свидетельство Словаря В. Бурнашёва: „Самолёт — в Ярославской губернии — косуля, несколько отличная от косули обыкновенной”. „Ярославская косуля, или “самолёт”, — читаем в многотомном издании «Кустарная промышленность России», — имеет отвал, скопированный, очевидно, с какого-нибудь английского плуга”. Это значение отмечено и «Энциклопедическим словарём» С.Ю. Южакова (1904).
В середине прошлого столетия в Пермской губернии называли самолётом детскую игрушку: деревянную стрелу с зазубриной в середине, запускавшуюся с помощью гибкого прута и нити, конец которой закреплялся за зазубрину. Приводя это значение в своем большом рукописном словаре, пермский священник Александр Луканин сопроводил его следующим примером: „Тятька! Дай-ко мне мой самолёт. Лучок-от жидок; найди пруток потолще, а то с эким лучком самолёт худо летает”.
Существовали и другие значения. Так, Словарь 1847 года, энциклопедии Березина и Южакова указывали, что “самолётом” называется паром, прикрепляющийся канатом к якорю в реке и передвигающийся не вручную, а силой течения и с помощью особой системы рулей. Такой паром использовали в военной практике. Пароходное общество, учреждённое в прошлом веке на Волге и Каме, также носило название «Самолёт»...
Таким образом, задолго до создания летательного аппарата тяжелее воздуха (аэроплана, самолёта) в языкерусского народа существовало то слово, которое способно было с предельной точностью выразить самую идею этого аппарата. Вспомним и давнюю волшебную мечту — ковёр-самолёт русских сказок, так памятный каждому с детства. Прошли века, прежде чем воплотилась в жизнь эта пленительная мечта русского сказочника!.. А слово жило в народе, будто ожидая появления того летательного аппарата, идею которого оно как бы таило в себе.
К тому же самый словообразовательный тип этот был издавна чрезвычайно характерен для русского языка. Например, в Пензенской, Вятской, Симбирской губерниях, на Кубани велосипед назывался самокаткой, в Сибири, Псковской и Архангельской губерниях — самокатом, в Воронежской— самоездкой, на Урале (1934) — самоходом. Жители Курской области (1915) и калужане (1928) называли самокатом автомобиль; на Тамбовщине так назывался паровоз. В Новосибирской области в наши дни машину для косьбы хлеба называют самоброской. Вологжанин употреблял слово самодуйка в качестве названия шведской спички. Таких примеров можно привести великое множество.
И, тем не менее, самолёт отнюдь не сразу стал называться самолётом. Во всяком случае, ни А.Ф. Можайский, ни Н.И. Кибальчич этого слова ещё не употребляли. В патенте Можайского (1881) самолёт назван „воздухоплавательным снарядом”.
В первые десятилетия существования русской авиации будущий самолёт называли либо просто аппаратом, либо аэропланом. Впрочем, и слово аэроплан поначалу имело иное значение — „воздушный змей, употребляемый обыкновенно для метеорологических наблюдений” (Брокгауз и Ефрон). Но уже один из первых русских самолётостроителей, мастер сестрорецкого оружейного завода В.П. Коновалов, назвал сконструированный им летательный аппарат аэропланом. Это слово употребляют писатели и публицисты начала века, нередко наравне с синонимичным ему аппарат: „Ещё быстрее, чем мчался над невидимой землёй аппарат, быстрее винта, делающего сотни оборотов в минуту, летела тревожная мысль, опережая аэроплан” (А. Грин. Тяжёлый воздух).
„Воздушные шары, вместо того, чтобы увенчать изобретение воздухоплавания, стали на дороге его тормозом, задержав на много лет изобретение самолёта, который без них, может быть, в настоящее время уже был бы найден, если принять во внимание механические средства, которыми мы владеем”. Казалось бы, куда как современно звучит слово самолёт в приведённом отрывке! Так мог бы, пожалуй, написать в наши дни историк авиации...
Действительно, с этим можно было бы согласиться, если бы не одно “но”: эти строки написаны репортёром газеты «Голос» в... 1863 году, то есть за восемнадцать лет до изобретения первого русского самолёта! Вновь слово как бы опережает, как бы “предугадывает” появление самолёта.
Одним из первых стал употреблять самолёт (в его современном смысле) русский изобретатель В.В. Котов — шестидесятилетний помощник столоначальника в министерстве финансов, которого, несмотря на солидный возраст, страстно увлекла идея создания летательного аппарата. Самолётом называет он такой аппарат на страницах книги «Устройство самолётов-аэропланов» (1895–1896). Д.И. Менделеев, высоко ценивший работы Котова и написавший предисловие к его книге, также (очевидно, вслед за Котовым) использует это слово. Правда, поначалу Менделеев заключает его в кавычки, однако к концу текста кавычки исчезают.
Постепенно самолёт становится всё более употребительным, тесня и отодвигая слово аэроплан. В августовской книжке журнала «Воздухоплаватель» (1911) корреспондент, анализируя результаты перелёта Петербург — Москва, писал: „Есть основание, думать, что не все аэропланы (самолёты) ‹...› отвечали по своим качествам столь серьёзному испытанию”. В ноябрьском номере журнала находим уже вполне свободное употребление термина самолёт в статье о перелёте поручика Андреади из Севастополя в Симферополь и обратно: „В это время со стороны Балаклавских гор неслись навстречу самолёту облака ослепительной белизны ‹...› получалась картина, в которой самолёт парил над местностью, покрытой снеговыми горами. По временам аэроплан должен был приближаться к городу”. Легко заметить, что в приведённом тексте аэроплан и самолёт — равноправные синонимы.
Возможно, русское слово самолёт в терминологическом отношении оказалось более удобным, чем аэроплан: оно как бы объединяло, покрывало собой различные типы первых самолётов — монопланы, бипланы и пр.
В тридцатые годы в СССР начал выходить журнал «Самолёт», само название которого как нельзя лучше свидетельствует в пользу окончательного усвоения слова литературным русским языком. Однако путь слова, как правило, извилист и сложен. И этот случай не представляет исключения. Еще в 1934 году «Краткий технический словарь» даёт такое определение: „Самолёт. См. Аэроплан”, по-прежнему отдавая предпочтение последнему. Но тот же словарь в других случаях вполне свободно использует и самолёт: „Авиэтка — лёгкий маломощный самолёт”.
С течением времени самолёт весьма заметно потеснил слово аэроплан. Не случайно в недавно вышедшем «Словаре синонимов русского языка» (Л., 1970) мы не находим синонимического ряда на аэроплан. В наши дни вслед за прочно укоренившимся в русском языке термином самолёт, по образцу этого термина возникают новые слова, появление которых обусловлено стремительным развитием авиации и космонавтики, — вертолёт, звездолёт, космолёт.
Е.Н. Этерлей. Самолёт и лётчик (из истории слов) // Русская речь. 1971, №6. С. 79–89.
* * *
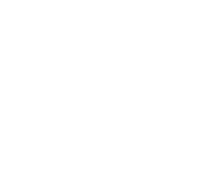
так, ни
лётчиком, ни тем более
самолётом Велимир Хлебников русскую речь не обогатил.
Ибо работал на упреждение. А где упреждение, там и перехлёст. Сравни:
перелётчик 1909 года и выпускник авиационной школы в Каче
лётчик (1911 год, исторически первое применение). А уж с летательными снарядами перехлёст прямо сказочный: когда ещё Сикорский выдумает вертолёт, а у Хлебникова готово средство передвижение по суше, в воздухе и под водой
ходнырлёт («Мы взяли √–1...». 1916).
Имею намерение устроить очную ставку Велимира Хлебникова и Аркадия Горнфельда. Но не сейчас. Ограничусь покамест выдержкой из показаний противной стороны. Кто такой Аркадий Горнфельд? Самый ненавистный Осипу Эмильевичу еврей, Шура. Это золотое сердце жаждало мщения, как Риголетто, Яго или граждане города Удоева, будь они прокляты! А Виктор Борисович разве не золотое сердце? И тоже ненавидел Аркадия Горнфельда. Пилите, Шура, пилите!
Принято думать, что новые слова — и при этом не однодневки — заслуга выдающихся творцов. Нередко и сам изобретатель новинки рассчитывает на благодарность потомков. Вообще говоря, уверенность эта неосновательна. Почти у каждого крупного писателя найдутся новые и действительно превосходные слова, которые так и не вошли в обиход, не укоренились. Прививается другое, и заслуга писателя отнюдь не в обогащении словаря. ‹...›
При оценке мастерства поэта часто забывают, что проявляется оно не только в способности создавать новые формы, но и в способности их не создавать. Рука мастера узнаётся по умению обходиться без новых слов и формальных изысков, но в едва заметных отклонениях, в тонкой молекулярной работе усовершенствовать избранную форму. Чары искусства одновременно и в новаторстве, и в подчинении канону. В этом и великое сходство искусства с игрой, и колоссальное с ней различие. Произведение искусства, где потрясены основы, законодательствует; игра не по правилам становится бессмысленной. Можно выиграть партию в шахматы накануне поражения, выставив на поле требуемую фигуру. Но смысл игры именно в том, что произвол участников невозможен: правила потому и строги, что любое нарушение их лишает игру смысла. Искусством правит совершенно та же необходимость: новаторством признаются лишь комбинации в очерченных пределах. Но признаются ровно до тех пор, пока граница не будет кем-то прорвана (попытка революции) или перенесена (органическая реформа). Реформа бывает весьма успешной, а итог революции — ничтожным. ‹...›
Как и следовало ожидать, итогом деятельности футуристов явился очевидный провал попыток насильственно обогатить словарь, причём всего лишь словарь литературного языка (не более чем набор образчиков, предназначенных для выражения особых форм мысли). Новообразования в литературном языке весьма затруднены: он связан с устойчивой традицией больше, нежели устная речь. Зато это язык письменности: печатный станок не только распространяет новое слово, но и обеспечивает большее, нежели при устной передаче, доверие к нему. ‹...›
Да и так ли уж самобытны словечки футуристов? Нет ли в них, наряду с кощунственным попранием стародавнего обычая, некоторой этому обычаю покорности? Нашли же мы у Даля десятки глаголов, словно сочинённых Игорем Северянином. Легко, конечно, сказать, что эти новшества не войдут в обиход потому, что слишком неожиданны, слишком смелы, слишком оскорбляют правила грамматики и хорошего вкуса. Но это не вполне верно. Имеются, конечно, у футуристов словесные новинки, которым не дано укорениться в языке; они на это и не рассчитаны. Когда Кручёных вминает в ухо вселенной будетлянский вопль „Дыр бул щур”, он бесконечно далёк от желания обогатить словарь: он провозглашает новое Слово. ‹...›
Составители манифеста в «Пощёчине общественному вкусу», рьяно проповедующие увеличение словаря произвольными (и производными, в чём суть бессмыслицы) словами одновременно с неопреодолимой ненавистью к современному языку, не дали себе труда уразуметь, что производные слова должны от чего-нибудь да производиться; стало быть, без опоры на первоисточник нечего и браться за дело.
И точно: сборник «Пощёчина общественному вкусу» начинается с заявки на снос города, а кончается строительством дома на улице Воздухоплавателей. «Образчик словоновшеств» представляет собой несколько десятков новых русских слов в области авиации — и, право, некоторые из них недурны. Во всяком случае, не хуже слова лётчик, которое появилось в русском языке вместе с военной авиацией и, почти вытеснив слово авиатор, едва ли окажется ненужным. Могли бы найти применение, например, летбище вместо аэродром, двулётка или двукрылка вместо биплан, парило вместо планер, леток — седок на аэроплане и т.д. Очевидны и промахи строителей чудотворных: летоука — учение о полётах, летеса — дела воздухоплавания, летутные народы — искусные в воздухоплавании, летины — день полёта.
Но дело не в спорных удачах или явных срывах, а в том, что каждое из этих слов образовано по аналогии с давным-давно известным словом, и автор сам скромненько ссылается на эти уподобления. Предлагая летун, он в скобках прибавляет бегун, предлагая летоба напоминает, что есть учёба и так далее: летавица от красавица, летава — держава, лета — бега, лтение — чтение.
Таким образом, начав с „непреодолимой ненависти к существовавшему до сих пор языку”, «Пощёчина общественному вкусу» кончает ученическим подражанием современному словарю. Если бы не было слова веялка, Хлебников не посмел бы сказать реялка, если бы не было белизны, он не сочинил бы летизны. Какая же это пощёчина? Это подобострастие, это задние лапки, а не пощёчина.
А.Г. Горнфельд. Новые словечки и старые слова.
Речь на съезде преподавателей русского языка и словесности в Петербурге 5 сентября 1921 г.
Петербург: Колос. 1922. С. 27–46.
Воспроизведено с незначительной стилистической правкой.
Что делать, Шура, такова юдоль жизни: в ответ на пощёчину жди оплеуху.
Ожидая, готовься к ответным действиям. Снова по мордасам или как. Называется жестоковыйность, если снова. Если нет — смирение. Где находился Велимир Хлебников 5 сентября 1921 года? Между Баку и Пятигорском, причём близ Хасавьюрта был ограблен и выброшен из поезда. Следовательно, в указанное время ему было не до споров с Аркадием Горнфельдом.
Но возразить — не преподаватель русского языка и словесности, не проживает в Петербурге — не удалось и В.В. Маяковскому. На языке Шейны Шендель из Касриловки, Шура, это звучит невесело: куда пойдёшь, кому что скажешь.
„Железовут”, „льтец”, „льтица”. Неправда ли, какие нерусские слова?
Встреться они вам в литературном произведении — и вы сейчас же забракуете последнее, как футуристическую чепуху.
Отчего?
Оттого ли, что они и на самом деле не нужны и логически бессмысленны, или, доверясь протесту вашего консервативно настроенного уха, вы хотите задержать необходимейшее развитие речи.
Возьмите две пуговицы на спине вашего сюртука. Вы тщательнейше следите за ними. Именно без этих-то двух пуговиц вы не берёте сюртука у портного… А в сущности зачем они вам? Затем, чтоб было чему отрываться? Когда-то, когда ваши отдалённейшие предки полжизни проводили на лошадях, они пристёгивали к ним путающиеся фалды, но ведь теперь вас носят трамваи, — так зачем вам эти пуговицы? Конечно, вы оправдаетесь, — вам некогда спороть, а так они не мешают. Может быть, на сюртуке и нет, а на каком-нибудь другом предмете или ощущении — да!
Возьмите какой-нибудь факт!
Ну, скажем, проводят рельсы, берут вагон, прицепят коней. Если подобный факт облечь в звуковой костюм, получится слово ‘конка’. Жизнь работает.
Коней заменят электричеством, а люди, не умеющие придумать нового названия, еще долго говорят “электрическая конка”. На словесной одежде ‘электрический’ слово ‘конка’ — это две ненужные пуговицы.
Вы скажете, что так теперь уже никто не говорит. Возьмите другое общеупотребительное выражение “красные чернила”.
Очевидно, то, что называется ‘чернила’, было раньше только чёрное. Теперь появилось красное, лиловое. Название этому предмету придумать не могли, и вот склеили два слова, друг друга исключающие. На слове ‘красные’ слово ‘чернила’ — это та же мешающая пуговица. ‹...›
Поймите! Каждое чувство, каждый предмет вырастает вон из одежды слова. Одежда треплется. Надо менять.
Возьмите какое-нибудь слово. Вот сейчас все треплют слово ‘ужас’. Какое истрёпанное слово! Кто из вас не говорит на каждом шагу: „Я ужасно люблю фиалки”, „Ужас, как хочется чаю”. Вот поэтому-то понятно, отчего Толстой, прочтя андреевский «Красный смех», начинающийся словами: „Безумие и ужас…”, сказал, улыбаясь: „Он пугает, а мне не страшно”. Не страшно потому, что ‘безумие’, ‘ужас’ — это слова писательские, не связанные с настоящей жизнью. Очевидно, когда-то слово ‘ужас’ соответствовало какому-то цельному ощущению, а теперь это слово обветшало, впечатление, вызываемое когда-то им, надо назвать другим именем. Что делать?
На одной лекции г. Шкловский приводил такой грубый, но очень умный пример. Один математик всё время звал ученика: дурак, дурак и дурак. Ученик привык, смотрел тупо и равнодушно. Но когда раз вместо ожидаемого „дурак” учитель ему бросил „дура”, мальчик расплакался. Отчего? Оттого, что, изломав слово, математик заставил понять, что оно ругательное.
Эти житейские примеры в теории языка показывают, что слова надо менять, ломать, изобретать ежедневно новые определения, новые сравнения.
Вот почему мне ничего не говорит слово ‘жестокость’, а „железовут” — да. Потому что последнее звучит для меня такой какофонией, какой я себе представляю войну. В нём спаяны и лязг железа, и слышишь, как кого-то зовут, и видишь, как этот позванный лез куда-то.
Для меня величайшим чувством веет поэтому от таких строчек В. Хлебникова:
Железовут играет в бубен,
Надел на пальцы шумы пушек.
Если вам слово „железовут” кажется неубедительным, бросьте его. Придумайте что-нибудь новое, яснее выражающее тонкие перепутанные чувства. Мне дорог пример из Хлебникова не как достижение, а как дорога.
Это — первое требование жизни.
Второе — сделать язык русским. Конечно, это не имеет ничего общего с желанием называть калоши мокроступами, потому что делается это не произвольно, а сообразно общим законам рождения слов.
Пример:
В жизнь вводится совершенно новая сила — воздухоплавание. Отчего имена всем его возможностям даны иностранные?.. Авиатор, авиационный день. Если слов, определяющих эти новые предметы, раньше не было, то обязанность поэта ввести их в речь.
Возьмите глагол ‘крестить’, от него производное день крещения — ‘крестины’; в сходном глаголе ‘летать’ день летения, авиационный день, должен называться — ‘летины’.
Читать — чтец, чтица. Летать — льтец, льтица.
Повторяю. Я предлагаю эти слова не как единственное разрешение задачи (глаголы ‘читать’ и ‘летать’ разнятся — они разны по залогам), а как путь словотворчества.
Русский язык — второе требование жизни.
Пересмотр арсенала старых слов и словотворчество — вот военные задачи поэтов.
На вчерашней странице стояло Петербург. Со слова Петроград перевернута новая страница русской поэзии и литературы.
В. Маяковский. Война и язык // Новь. М., 27 ноября 1914 г., № 126.
А теперь позволь предаться любимому занятию. Голову морочить? Сами нарываются, при чём здесь любовь. Работа над ошибками. Прямая страсть, как у Собакевича к добротности житейского уклада. Медленно-медленно смаковать свою писанину. Или мурыжить, если язык отсох. А мы его чайком, а мы его чайком, а мы его чайком. Готово. Первое, на чём поперхнулся: неуверенность в половой принадлежности автора статьи в «Русской речи» необоснованно исчезает; второе — промашка с Борисом Годуновым. Молись за меня, блаженный — его слова, следовало указать источник заимствования. Вдруг Шура подумает, что я его с Николкой путаю.
Молись за меня, блаженный — это я падам до ног В.А. Маринчака, дружок. И его высокопреподобие Джонатан Свифт неспроста: оба настоятели храма. Неспроста и приходы наперекосяк: в католическом Дублине англиканский, в московско-патриаршем Харькове — филаретова церква. Очередная шутка Велимира Хлебникова, даже не вопрос.
Кандидат филологических наук, доцент В.А. Маринчак (1945 г.р.) трудится в Харьковском госуниверситете (ныне ХНУ им. Каразина) на кафедре русского языка. И совмещает преподавание со службой в УПЦ Киевского патриархата. В 2018 году (ровно сорок лет спустя статьи о Велимире Хлебникове в «Русской речи») служение настоятеля харьковского храма Иоанна Богослова отмечено высокой наградой — орденом «За заслуги» II степени. Заслуги о. Вiктора таковы.
Всё-таки предварю их заслугами В.А. Маринчака в хлебниковедии.
Чем славен для этой науки 1978 год? Ничем. Ещё вопрос, увидит ли свет прорывное, хотя и весьма спорное исследование Р.В. Дуганова «К реконструкции поэмы Хлебникова «Ночь в окопе» (Известия Академии Наук СССР, серия литературы и языка, т. XXXVIII, № 5, 1979). А пока так: наладонник Велимира Хлебникова издан 18 лет назад. Разумеется, никто не подозревает, что возврат события (тоже наладонник) состоится только в 1985-м (Элиста). Разгар замалчивания — и вдруг «Самовитое слово Велимира Хлебникова» в журнале для преподавателей русского языка и словесности.
— Глас народа — глас божий, товарищи (все мы тут с понятием и насчёт прописных истин, и относительно прописных букв). Заметка И.Н. Шмелёвой вызвала небывалый отклик. Уступаю бум и ажиотаж акулам газетного пера: вал писем. Это с одной стороны. С другой — в каждом один и тот же вопрос: почему ни гу-гу о русском футуризме. Самовитое слово и русский футуризм — две стороны одного пятака за сочинение о ранних стихах Маяковского. Который назвал В. Хлебникова одним из своих учителей. Зарядив Маринчаком план 1978 года, убьём двух зайцем разом. Кто за? кто против? принято единогласно.
Выясняется, что «Самовитое слово Велимира Хлебникова» есть акт гражданского мужества «Русской речи», но всколыхнул стоячие воды преподаватель из Харькова тридцати трёх лет. Возраст Иисуса Христа начала Его проповеди. Памятуя о принятии сана В.А. Маринчаком тринадцать лет спустя обнародования статьи о самовитом слове (обратная в сравнении с изящной словесностью причинно-следственная зависимость), перехожу к его служению на церковном поприще.
И опять с подвигами о. Вiктора придётся повременить. Оказывается, «Самовитое слово Велимира Хлебникова» писал не мирской невеглас, а приуготовляющий себя в духовные пастыри прихожанин.
— ‹...› как так случилось, что Вы решили стать священником и именно священником Киевского патриархата? Насколько я помню, это одна и из первых церквей на востоке тогда у нас была. ‹...› В каком возрасте это у Вас случилось?
— У меня это произошло очень поздно, я стал священником в 46 лет, но шёл к этому полжизни. И захотел, безусловно, за 20 примерно лет до того быть священником. Но это было невозможно в условиях советских, это было связано с очень большими моральными потерями. И поэтому я ждал своего часа и дождался.
Виктор Маринчак: „Завоюй свободу вместе со своим народом, а не пользуйся чужой свободой”.
Беседа с Н. Княжицким а телеканале «Еспресо» в цикле программ «Метанойя» 11 февраля, 2018 г.
В.А. Маринчак принял духовный
сан в 1991 году, неизбывно мечтая об этом ещё во время работы над «
Cамовитым словом Велимира Хлебникова». Того самого Хлебникова:
Ежели скажут: ты бог, /
Гневно ответь: клевета, /
Мне он лишь только до ног! (III, 357)
Вложено в уста Зангези, таки да. Один из двойников Хлебникова. Сын Выдры, седок Ходнырлёта, Аменофис (Эхнатон), Зангези. Последние двое — богоборцы. Чем богоборец отличается от безбожника? Безбожник — бородавка на теле человечества, богоборец — родинка: боже упаси трогать. Я нарочно привёл безопасный для самокопания пример: строка
Мне он лишь только до ног — не более чем перепев Пушкина. Через леса, через моря / Колдун несёт богатыря. Пушкинский Черномор — волхв небольшого росточка, то есть в будущем божок. Обоготворят, куда денутся: божество и плюгавость превосходно сочетаются (
божестварь Хлебникова). Зихи, насельники северо-восточного побережья Чёрного моря, рассказали Иосафату Барбаро про испов, неодолимых в бою человечков. Эти коротышки были так исполнены отваги, что ни при каких обстоятельствах не ховались по схронам. Жили на широкую ногу при умеренных (кому меньше в жизни треба, тот ближае вс
ѣх до неба) запросах: в каменных конурках. От Анапы до Бергена. Как тот Черномор и его богатыри на побывке, если всосаться в Пушкина не мухой, а шмелём.
Справедливо полагаясь на обширность познаний Велимира Хлебникова, В.А. Маринчак не заостряет:
слова божок — и кончено. Все бы так.
Повторим пройденное. Богоборец не просто верит в Бога — он узрел Невидимое. Узрев, не счёл Его всеблагим. Прометей противостал Зевсу, и жестоко поплатился. Велимир Хлебников был наказан куда как показательно:
до ног, говоришь? Ну-ну. И приковали. Ну и что не скала. А ты шагни,
путеец языка. Тогда хотя бы присядь.
Добрым молодцам урок, о-хо-хо. А чем разнятся добрый молодец и дурень с писаной торбой? Понятливостью и смёткой. Поэтому сомнительного благочестия изысканиям В.А. Маринчак (см. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/8328/2/Bibliografiya.pdf) после 1978 года отнюдь не предавался.
Одновременно в Луганске, тогда Ворошиловграде УССР, становилась на крыло уже знакомая тебе Лариса Класс. Фесенко — её муж, известный в будущем исследователь творчества В.И. Даля. И вот они под сенью Казака Луганского наперегонки то витийствуют, то слагают, то витийствуют, то слагают, то витийствуют, то слагают. Высказалась — обнародуй, не таи сокровище под спудом. А ей говорят: почему слагаешь на русском, а витийствуешь на мове. Ты же украинка. Вот и соответствуй, а не то увидишь.
Это Лариса так оправдывалась передо мной за присылаемое в столбик. При этом на мове мне нравились больше, уж не знаю почему.
Нет, знаю. Вот я задремал, а ты подкрался, да как гаркнешь: Кириченко! Не Молотилов или Пятница, а именно Кириченко. И дрёму как рукой снимет, вскочу и радостно доложу: я!
Называется врождённая память. Однако мы отклонились от перечня заслуг о. Вiктора перед православием. Бросаю прощальный взгляд на принудительный во всех отношениях Ворошиловград: туда и дорога. Счастливый конец «Руслана и Людмилы», лично я так этот полный назад понимаю. А о. Вiктор как местных потомков Руслана именует?
С оттенком пренебрежения. Разве
матросня, малышня, солдатня уважительные слова? И не только в частной беседе о. Вiктор такое пренебрежение выказывает. Хорошо это или плохо? Глядя из Киева — лучше некуда. Он русист, они (мы) — русня. Мы с тобой. Шутка Велимира Хлебникова. Который хотя и не откликался на дуже поширене прізвище Вербицький, зато — спросите у А.Е. Парниса — иной раз подписывался.
 узнал о статье В.А. Маринчак (В.А. Маринчака?) из присланной мне тридцать семь лет назад Ларисой Класс-Фесенко библиографии (ныне в фондах астраханского Музея В. Хлебникова). Запросто можно было заказать в областном книгохранилище, насторожили выходные данные: «Русская речь» за 1978 год. То есть манная каша в кисельных берегах.
узнал о статье В.А. Маринчак (В.А. Маринчака?) из присланной мне тридцать семь лет назад Ларисой Класс-Фесенко библиографии (ныне в фондах астраханского Музея В. Хлебникова). Запросто можно было заказать в областном книгохранилище, насторожили выходные данные: «Русская речь» за 1978 год. То есть манная каша в кисельных берегах.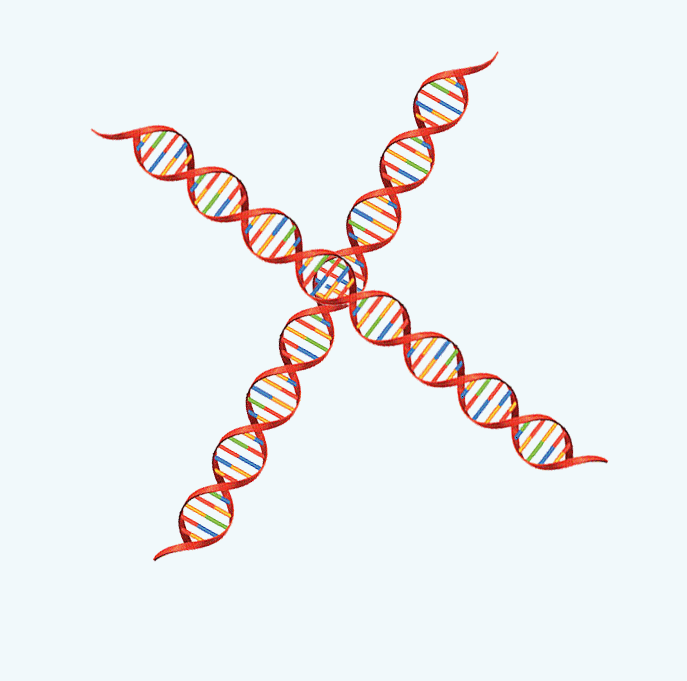 лебников — русский советский поэт, представитель литературного течения футуризма (от лат. futurum — будущее). Футуристы требовали от поэзии современности, активности, обновления поэтического словаря и предельной силы выразительности. На деле же поэзия футуристов, лишённая глубокого содержания и далёкая от жизни, была одной из разновидностей декадентства. Всё поэтическое “бунтарство” футуристов ограничивалось лишь областью стихотворной формы. Хлебников писал:
лебников — русский советский поэт, представитель литературного течения футуризма (от лат. futurum — будущее). Футуристы требовали от поэзии современности, активности, обновления поэтического словаря и предельной силы выразительности. На деле же поэзия футуристов, лишённая глубокого содержания и далёкая от жизни, была одной из разновидностей декадентства. Всё поэтическое “бунтарство” футуристов ограничивалось лишь областью стихотворной формы. Хлебников писал: 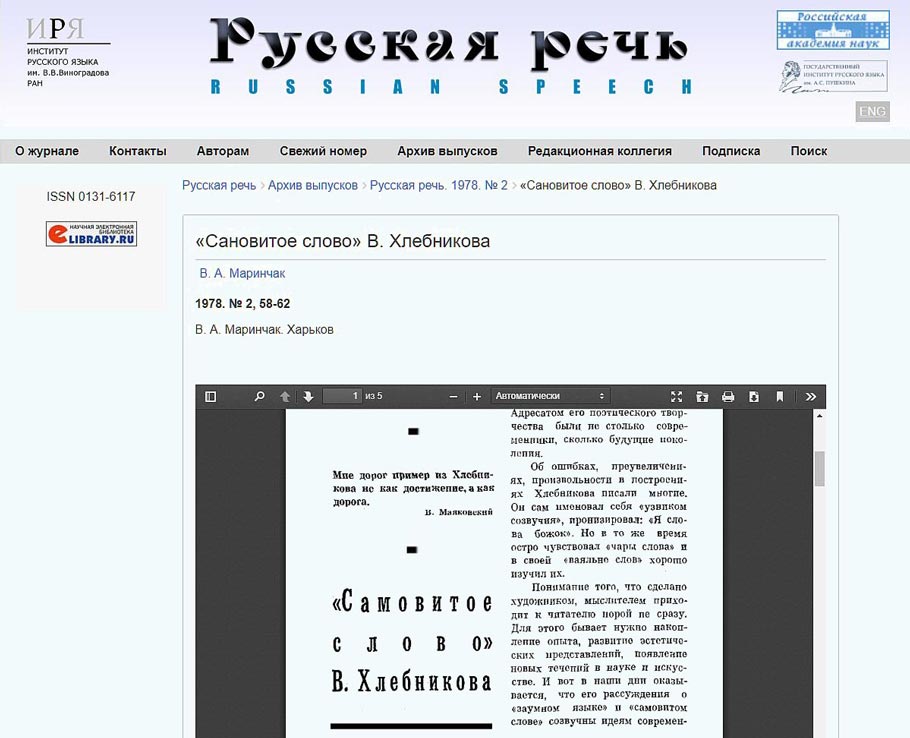
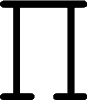 ознавательная сноровка: единый снарядъ познаванія обращать во множество познавательныхъ орудій, дабы такъ познать предметъ во всѣхъ его мелочахъ, — лежитъ въ природныхъ свойствахъ человѣка, и, если вообще всякая жизнь есть познаваніе или собираніе внѣчувственныхъ добычъ опыта, все окружающее насъ бытіе, безъ конца дробящееся, ведетъ рядомъ огромный примѣръ той же сноровки. Вѣдь что вселенная, — какъ не безудержное напряженіе воли нѣкаго всецѣлаго нутренняго ума?
ознавательная сноровка: единый снарядъ познаванія обращать во множество познавательныхъ орудій, дабы такъ познать предметъ во всѣхъ его мелочахъ, — лежитъ въ природныхъ свойствахъ человѣка, и, если вообще всякая жизнь есть познаваніе или собираніе внѣчувственныхъ добычъ опыта, все окружающее насъ бытіе, безъ конца дробящееся, ведетъ рядомъ огромный примѣръ той же сноровки. Вѣдь что вселенная, — какъ не безудержное напряженіе воли нѣкаго всецѣлаго нутренняго ума?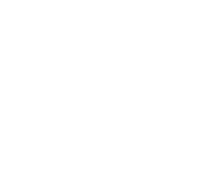 так, ни
так, ни