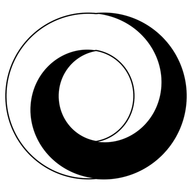
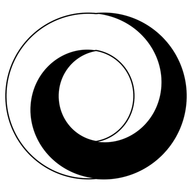
Основная часть книги восходит к: Barbara Lönnqvist. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem Poet. Stockholm, 1979 / Stockholm Studies in Russian Literature, [vol.] 9. Отсюда вошли целиком глава IV (Поэма «Поэт») и 6 разделов в первых трех главах.
В гл. I («Космос и слово») это главки: 1. “Закон качелей”; 2. Мир чисел; 3. Карнавал как праздник равенства, главка I.4. «Мифология начала» = К значению дня рождения у авангардных поэтов // Культура русского модернизма: В приношение В.Ф. Маркову / Readings in Russian Modernism: To Honor Vladimir Fedorovich Markov. Ed. by R. Vroon, J. Malmstad. M., 1993 / UCLA Slavic Studies, N.S., vol. 1. В гл. II: 1. «Противоположности» и 2. «Два в одном»2![]()
В основной своей части — а ею и теперь остался анализ поэмы «Поэт» (она же «Карнавал», «Зеленые святки» и др.) — работа представляет собой построчный подробный комментарий и разбор, медленное чтение поэмы. Это один из первых образцов такого анализа крупных вещей Хлебникова (ему предшествовала неизданная диссертация Хенрика Барана о «Детях Выдры» 1976 года). Важность подобного подхода трудно переоценить: Хлебников относится как раз к тем поэтам, у которых ответ на вопрос “о чем это”, т.е. выявление хотя бы самого поверхностного тематического уровня, как правило, вовсе не прост. Если бы Хлебникова и подобных ему не было, их следовало бы выдумать в назидание самоуверенному читателю и тем более исследователю.
Существенно отметить, что в качестве метода прочтения (понимания) выбирается не столько установление реалий и толкование слов, сколько нахождение их контекстов (см. Предисловие), прежде всего у самого Хлебникова, — подход если не прямо, то все же ближайшим образом связанный, на наш взгляд, со школой Тарановского. Книга Л давно и заслуженно известна, ссылки на нее стали непременным компонентом последующих работ,3![]()
В остальном ограничимся некоторыми маргинальными замечаниями, тем более что книга дает повод к обсуждению множества тем, в ней затронуты самые разнообразные — и принципиальные — проблемы поэзии и поэтики Хлебникова, так что рецензент при наличии места и времени мог бы найти повод написать о чем угодно, имеющем отношение к Хлебникову и/или к поэтике. Тем более трудно “разбирать” разбор поэмы; сам жанр детального комментария потребовал бы от рецензента “метатекста” едва ли не соизмеримой длины (если, конечно, речь не шла бы о перечне грубых ошибок, что в данном случае неприменимо). Далее стихи цитируются со ссылкой на страницы рецензируемой книги, а не на издания Хлебникова.
Нужно оговорить, что в разных главах, особенно новых, специально разбираются еще несколько тестов, кроме «Поэта». Помимо краткого анализа семи пьес, который сближает с основной частью книги фольклорный подход, это, во-первых, «Немь лукает луком немным» (с. 64–74).4![]()
В стихах Голгофа / Мариенгофа. ‹...› / Воскресение / Есенина имя Мариенгофа связывается с Распятием, а Есенина — с Воскресением. Не следует ли учесть, что Хлебников мог воспринимать остзейскую фамилию имажиниста как еврейскую? Во всяком случае, Голгофа — чужое, изначально еврейское (арамейское) слово — ассоциируется с “чужой” фамилией, а Воскресение — с русской (даже “более чем” русской — ср. архаичное Е- в фамилии Есенина). Конечно, мотив имаго и соположение Голгофы с Воскресением в контексте тех ритуальных мотивов, которым посвящена основная часть книги, можно рассматривать как “конспективное” воспроизведение схемы rite de passage, т.е. перехода (см. об этом термине ниже).
Закон качелей, обсуждаемый в первой главке, имеет, среди прочих, такую формулировку: “высокое становится низким, глубокое высоким” (с. 12). Помимо евангельского образца (будут последние первыми
— Мф. 19:30, 20:16, Мр. 10:31, Лк. 13:30) и на его фоне интересно отметить асимметрию: глубокое явно “ниже” низкого; речь идет не о перевороте, взаимном обмене знаками,5![]()
![]()
На с. 14 приводится цитата из «Слова о полку» — не понимаю, почему не в подлиннике, а в переводе, причем заведомо позднейшем (Д.С. Лихачева) и, кажется, расходящемся с пониманием Хлебникова: у него рядом с деревом чисел упомянута мышь, что, помимо прочих ассоциаций (например, индийской притчи о мышах, грызущих дерево — в русской традиции: «Варлаам и Иоасаф», «Исповедь» Толстого, Лесков и др.), заставляет предполагать чтение „растекался мысию по древу“.
„Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла ‹...› и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл. Слова сравниваются со слюдою“ (c. 15–16), — как видно из цитаты, не сами слова, а их узуальный смысл.
Узнать, что будет Я, когда делимое его единица (с. 15) не означает, что „поэт уподобляет себя числу 1“ (с. 19), как это имеет место в соседнем примере корень взяв из нет себя, (т.е. из –1), здесь он уподоблен всей (любой) дроби с единицей в числителе, т.е., как справедливо сказано далее, „то что в мире его „Я“ соответствует дробям (1/2, 1/3, 1/4…)“.
Свидетельство Д. Петровского о том, что Хлебников хотел принести на Марсово поле чучело Керенского и высечь у могил „павши[х] в феврале с его именем на устах“ (с. 25).7![]()
Самовитое слово осмысляется как сложение само- и вить (к извитию словес?), я, признаться, всегда воспринимал это как суффикс, а не корень, может быть, тут каламбур на лат. vita?
Любопытен вопрос о границах неологизмов: Л относит к неологизмам слово гордей (с. 53) от гордый, так же поступает Н.Н. Перцова, но производит его (справедливо) от глагола гордиться,8![]()
![]()
И обувь разума разую / И укажу на пальцы пота — последнее словосочетание трактуется как “потная (=щедрая) рука” (с. 86), однако рядом с обувь разую скорее речь идет о пальцах ног.
Отметим некоторые хлебниковские контексты и подтексты других поэтов (рискуя, разумеется, в этой чужой области повторить уже известное). Сладкий ‹...› загробный мир Магомета (с. 39) подробнее описан в «Ка». В примерах слов на Т и на Д (с. 37—38), кажется, недостает Это шествуют Творяне, / Заменивши Д на Т. Любопытно совпадение слов звездный ужас (с. 30) с названием стихотворения Гумилева (чуть ли не того же года?). Высокой раною болея (с. 41), кажется, контаминирует пушкинские строки „высокой страсти не имея“ («Онегин») и „страдая раной, Карл явился“ («Полтава»). Пушкинские ассоциации есть и у последней даты «Поэта» — 19 октября (с. 134), на этом фоне, видимо, с Пушкиным можно связать и русалку в этой поэме. В таком случае и стихи 420–421 На Богоматерь указал: / „Вы сестры. В этом нет сомненья“ могут отражать пушкинское игривое послание: „Ты богоматерь, нет сомненья“ (1826).
Особенно любопытный пример находим рядом в словах русалки: И раки кушают меня, / Клешнею черной обнимая? (ст. 396–397) — это перифраз лермонтовского «Пророка»: „И звезды слушают меня, / Лучами радостно играя“ в сочетании с «Утопленником» Пушкина, где раки выступают как знак смерти: „И в распухнувшее тело / Раки черные впились“ (ср. и название «Поэт» у Пушкина и у Лермонтова). Сопоставляемые Л с этими строками (с. 186) слова из «Детей выдры»: поймав ‹...› Клешнею нежные умы, в свою очередь, отражают пушкинский „нежный ум“.
Любопытный пассаж в «О современной поэзии»: Эта борьба миров, борьба двух властей (с. 47); здесь первое словосочетание имеет литературное происхождение (роман Уэллса), второе — политическое или историческое (ср.: Вся власть уравнениям через вычисление — с. 15). Ниже брачное время языка, месяц женихающихся слов напоминает (видимо, чисто типологически) юношеские стихи Мандельштама „И дышит таинственность брака / В простом сочетании слов“, которых Хлебников знать не мог (но в поздних стихах Мандельштама слово “двоевластие” появляется рядом с брачной темой, а здесь влияние Хлебникова вполне возможно). Мирооси данник звездный (с. 51) ретроспективно можно связать с Вяч. Ивановым, а проспективно — опять-таки с Мандельштамом. Интерпретация слова словесо в этом тексте интересна, но оно ведь может оказаться и не существительным, синтаксис (я учусь словесо) указывает, скорее, на функцию наречия. Почерк моей пыли ‹...› На строгих стеклах рока (с. 57 и 176) из «Зангези», кажется, тоже имеет мандельштамовский подтекст (и, кажется, уже отмеченный?) „На стекла вечности уже легло…“, Звездой очарованный к булавке прикованный в «Поэте» (ст. 265, см. с. 203 и 174), соседство булавки и звезды может отражать мандельштамовское „Я вздрагиваю от холода“.
Интерпретация поэмы требует нескольких замечаний. Остается очень спорной вся стиховедческая терминология и описание структуры стиха. Поверить в то, что посреди стиха ямб переходит в хорей (ст. 54 И своего я потоки, с. 151) или в амфибрахий (ст. 286 И теперь он не спал, не грезил и нé жил, с. 177), мне мешает все, чему меня учили о русском стихе. Первый стих напоминает тактовик, второй — дольник. Но вроде бы остальная часть написана классическими размерами, хотя и разными. Еще пример: У ног его рыдала русалка она / Неясным желаньем полна (ст. 300–301). „Первая строка начинается двумя стопами ямба (у ног его ‹...›), но стоит возникнуть русалке, делается амфибрахической (рыдала русалка. Она ‹...›)“. Почему именно здесь делится стих? Следующее слово рыдала ничуть не противоречило бы ямбической трактовке. Справедливое сопоставление с «Русалкой» Лермонтова — не только текстуальное (Неясным желаньем полна ~ „Полна непонятной тоской“), но и метрическое — должно было бы заставить усомниться в такой трактовке: лермонтовское стихотворение написано трехсложником с вариациями анакруз; конечно, буквально к хлебниковскому стиху это не применимо, но нужно искать такое объяснение, которое не разбивало бы целостность строки. Однако для Хлебникова и такое может оказаться возможным, если допустить здесь сознательный эксперимент.
Особо нужно оговорить такой спорный (в обычном случае) аспект, как нумерология поэмы. В ней 457 строк, а первоначально было 365, — причем для поэмы о календарном обряде число дней в году явно релевантно, что прямо обозначено в тексте (см. с. 134), где и стоит дата 19 октября 1919 г.. Это редкий случай заведомо осознанной и демонстративной нумерологии (и тут, как во многих случаях, исследование футуризма — это кладовая примеров для общей поэтики). Разница между числом строк в двух вариантах: 92 — это число дней в трехмесячном цикле март — апрель — май, или май — июнь — июль, или август — сентябрь — октябрь, или октябрь — ноябрь — декабрь (2 месяца по 31 день и 1–30 дней, таких сочетаний всего 4, вернее, две пары, в каждой из которых один месяц повторяется). Иначе говоря, 457 строк (= дней) это 5 сезонов, причем расчеты такого рода вполне вероятны для Хлебникова.
Общая фольклорная или этнографическая интерпретация поэмы во многом убедительна, и главное — подробный анализ действительно проясняет сюжет. Отмечу некоторые несогласия. Жаль было увидеть ссылки на безграмотную книгу Велецкой (с. 146, 210, 222). В стихе И все порука от порока
речь идет о нравственности (русалки ли или дочки мельника), конечно, намека на “круговую поруку” (c. 180) тут нет. Бя
в детском языке означает не безразличие (с. 219, сноска 57), а осуждение. Цаца
отнюдь не значит “что угодно” (с. 155). Таким он стоял
‹...› / Певец (голубой темноты строгий кут
/ морскою волной обвивал его шею измятый лоскут), комментарий: „я считаю кут
“ сокращением от ‘лоскута’“ (c. 174). Кут вполне может сохранять свое обычное значение — ‘угол’, и вся фраза описывает поэта в синем плаще как кусок, “угол” голубой темноты. В книге несколько раз возникают комментарии к слову морок или морока (с. 56, 180, 187). Стихи Лишь в омуте блеснет морока,
/ И сновидением обмана
/ Из волн речных выходит панна
имеют очень соблазнительный комментарий: „Слово морока
(строка 328) означает фосфоресцирующую полосу на воде“ (с. 180), к сожалению, однако, я не смог найти такого значения в словарях (во всяком случае, у Даля и в «Словаре русских народных говоров») С другой стороны, морок как видение, обман (ср. мара и укр. хмара ‘туча’ — любимое слово фольклористов мифологической школы) должно было быть известно Хлебникову — среди прочего — из употребления у Сахарова — книги, заведомо известной ему (от Якобсона).10![]()
![]()
Наконец, общий “карнавальный” сюжет стал поводом для невольного эксперимента. Дело в том, что сам подход и характеристика карнавала, особенно по отношению к ст. 63–75 и, далее, и сам термин карнавал кажутся уже не вполне адекватными, и то, что описывается в поэме, и то, что характеризует Л, — это, скорее, ритуал в широком смысле слова. Среди календарных обрядов (а их наличие убедительно показано Л) с карнавалом может быть ближе сопоставлена масленица, в остальных этот элемент слабее, и в русальских или купальских обрядах его уже трудно обнаружить. Да и вообще карнавал — явление городской культуры, сравнительно позднее, и критика Бахтина с этой исторической и этнографической точки зрения началась уже давно12![]()
![]()
В заключение — о той стороне книги, которая зависела не от автора.
Перевод (А.Ю. Кокотова) на нынешнем фоне может считаться просто хорошим, но только на нынешнем фоне. Огрехов немало, я попробую отметить наиболее частотные или значимые (я понимаю, что “лучшее враг хорошего”, понимаю опасность “перфекционизма” — но всегда обидно видеть, что до хорошей работы оставалось не так уж много) . Вот бросившиеся в глаза примеры.
Я, разумеется, надеюсь, что „произведение ‹...› может оказаться фрагментом более длинноногого“ (с. 5) — это опечатка (хотя, по естественной ассоциации с Маяковским, все может быть). То же относится к словам “Песня песней” (с. 172). Если уж песня, то от нее родит. пад. множ. числа будет песен. Следующие примеры — неудачный выбор эквивалентов: works — это не работы (с. 5, 15, 98 и др.),14![]()
Ошибки, связанные с незнанием реалий, текстов или терминов: morality plays это не “нравоучительные пьесы” (с. 76), а моралите (так этот средневековый жанр именуется по-русски), glossolalia — это не “звукоподражание” (с. 76), а заумь, “говорение языками” (тут же «Чудо Теофиля» — надо «Чудо о Теофиле»15![]()
Систематически на место “метра” подставляется “ритм”, см. с. 151, и особенно — слово полиритмический на с. 137.16![]()
„Текст ежедневной молитвы о хлебе насущном“ (с. 121) вызывает серьезные подозрения. За отсутствием оригинала этой части могу только предположить, что ежедневный относилось не к молитве (в каком смысле «Отче Наш» можно назвать “ежедневной молитвой”?), а к хлебу, поскольку это слово (daily) в английском тексте молитвы соответствует русскому (старославянскому) насущный.
Непонятый оригинал: „Поиск[и] единства вел[и] его ‹...› к архаическим общественным устройствам“ — нет: „к архаическим обществам“, т.е. к Древнему Египту или Греции, а не к рабству или системе полисов. „Ремизов более всех способствовал литературному возрождению русской народной культуры“ (с. 97) — нет: „Ремизов был наиболее последователен….“ или „зашел дальше всех прочих в деле возрождения русской народной культуры в литературе“ (т.е., попросту говоря, в фольклорных стилизациях в собственном творчестве).17![]()
Комично звучит уже первое предложение первой главы: „Всю свою жизнь Хлебников был занят упорядочением мироздания“ (с. 9). Search for a world order — это, конечно, ‘поиски порядка в мироздании’, что совсем не одно и то же. „Также числам присущи явные религиозные коннотации, в плане всесильности“ (с. 14), в оригинале (в буквальном, неуклюжем переводе) „сила, мощь, заключенная в числах, сравнима с силой религии“. „В рамках той же театральной традиции ‹...› трудился ‹...› Евреинов“ (с. 76), да нет — просто работал. Не понимаю, что значит „устаревшие этимологические связи“? Устаревшие (научные) этимологии, замененные более новыми, или же древние этимологические связи между словами? „Важный факт, ‹...› Хлебников интересовался…“ (с. 97), в оригинале — “Significantly”, чему соответствует обычное филологическое клише: “Характерно, что…”. „Пьеса ‹...› исполнена элементами народного театра“ (с. 110) вызывает серьезное недоумение: как же они ее исполняли — если не знать, что в оригинале imbued — ‘насыщена’. Abode — ‘пристанище, место обитания’ превратилось в “жилище” (с. 178) — какое “жилище” может быть у русалки?! Наконец, сказать о русалке „ни рыба, ни мясо“ (вот он секрет ее “неоднозначности”!) — это, конечно, смелый шаг. У Ремизова в одной из только что упоминавшихся стилизаций («Брунцвик») герой во время голода думает, не съесть ли ему русалку, а помощник объясняет ему: „Русалку только… можно, а есть нельзя“. Кстати (и это мнение автора), в переводе не обязательно было столько раз повторять слова “водяная нимфа”, которыми по-английски, за неимением лучшего, переводилась русалка.
Простая небрежность: „Текст приобретает характер тайнописи, организованный…“ (с. 6), „акростих или анаграмма придают тому (вместо ему = стихотворению) несколько направлений“ (с. 52), „Горе вечно не везет“ (с. 88) — разумеется, “Горю”, „поэт просто приклонил голову к стене“ (с. 178) — опечатка? может быть прислонил? Во всяком случае, приклонить голову плохо, потому что кажется опечаткой из преклонить. Совсем странно звучит отсебятина: в оригинале речь идет о семи ударных о, переводчик же добавляет „шесть ‹...› или семь, если читать мертвых, как мьортвых“ (с. 167). Симпатичная транскрипция! Интересно, предполагает ли он у Хлебникова церковнославянское мертвых с [е], или думает, что если написать мёртвых, то не получится о?
Эти огрехи, может быть, не так уж многочисленны и значительны, но без них книга читалась бы лучше. Еще одна переводческая ошибка — это, как уже говорилось, обратный английский перевод названия на контртитуле.
Очень мешает (по крайней мере, рецензенту) отсутствие указателей: именного, предметного и особенно произведений Хлебникова.
| Персональная страница Г.А. Левинтона на ka2.ru | ||
| карта сайта | 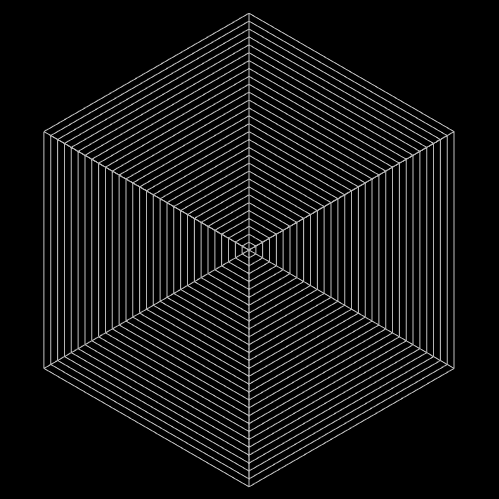 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||