Л. Троцкий
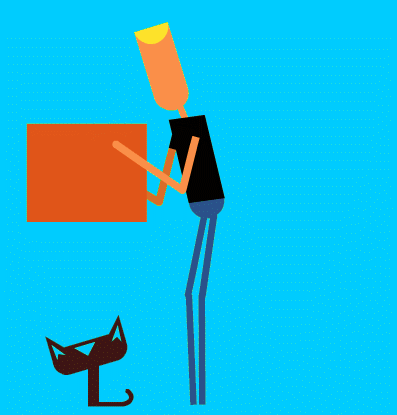
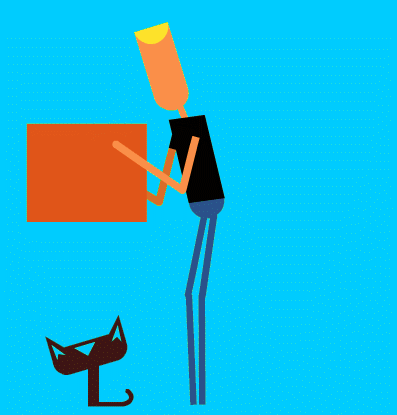
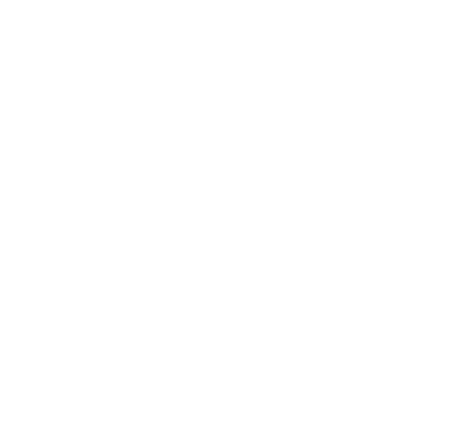 ов. Троцкий. Мне думается, что наиболее отчётливо точку зрения группы «На посту» выразил здесь тов. Раскольников — от этого вы не уйдете, товарищи напостовцы! После долгой отлучки Раскольников выступал здесь со всей афганистанской свежестью, тогда как другие напостовцы немножко вкусили от древа познания, и наготу свою стараются прикрыть, кроме, впрочем, тов. Вардина, который в чём родился, в том и живёт.
ов. Троцкий. Мне думается, что наиболее отчётливо точку зрения группы «На посту» выразил здесь тов. Раскольников — от этого вы не уйдете, товарищи напостовцы! После долгой отлучки Раскольников выступал здесь со всей афганистанской свежестью, тогда как другие напостовцы немножко вкусили от древа познания, и наготу свою стараются прикрыть, кроме, впрочем, тов. Вардина, который в чём родился, в том и живёт.
Вардин. Да ведь вы не слышали, что я здесь говорил!
Троцкий. Верно, я пришёл позже. Но, во-первых, я прочитал вашу статью в последнем номере «На посту», во-вторых, я только что пробежал стенограмму вашей речи, а в-третьих, должен сказать, что можно, и не слыша вас, знать заранее, что вы скажете. (Смех.) Но вернемся к тов. Раскольникову. Он говорит: нам рекомендуют попутчиков, а разве старая, довоенная «Правда» или «Звезда» печатала произведения Арцыбашева, Леонида Андреева и других, которых теперь непременно объявили бы попутчиками. Вот вам образчик свежего, не обременённого размышлениями подхода к вопросу. При чём тут Арцыбашев и Андреев? Насколько я знаю, они никем не были объявлены попутчиками. Леонид Андреев умер в состоянии эпилептической ненависти к Советской России. Арцыбашев был не так давно попросту выслан за границу. Нельзя же так безбожно путать! Кто такой попутчик? Попутчиком мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идёт до известного пункта по тому же пути, по которому мы с вами идём гораздо дальше. Кто идёт против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае высылаем за границу, ибо благо революции для нас высший закон. Каким же образом вы можете припутывать к вопросу о попутчиках Леонида Андреева? (Раскольников. Ну, а как же насчёт Пильняка?) Если вы будете говорить об Арцыбашеве, а думать о Пильняке, я не могу с вами полемизировать. (Смех.) (Возглас: Не всё ли равно?) Как так, не всё ли равно? Если вы называете имена, то вы должны и отвечать за них. Хорош ли Пильняк или плох, чем хорош и чем плох, — но Пильняк есть Пильняк, и о нём нужно говорить, как о Пильняке, а не как о Леониде Андрееве. Познание вообще начинается с различения вещей и явлений, а не с их хаотического смешения... Раскольников говорит: „Мы не звали в «Звезду» и «Правду» попутчиков, а искали и находили поэтов и литераторов в толщах пролетариата”. Искали и находили! В толщах пролетариата! Но куда же вы их девали? Почему вы их от нас скрываете? (Раскольников: Они есть, например, Демьян Бедный.) Ах, вот как, а я и не знал, признаться, что Демьян Бедный открыт вами в толщах пролетариата. (Общий Смех.) Вот видите, с каким багажом мы подходим к вопросам литературы: говорим о Леониде Андрееве, а думаем о Пильняке; хвалимся, что нашли в толщах пролетариата литераторов и поэтов, а на поверку за всю „толщу” отвечает один Демьян Бедный. (Смех.) Нельзя же так. Это легкомыслие. Нужно побольше серьёзности в этом вопросе.
Попробуем, в самом деле, более серьёзно подойти к тем дореволюционным рабочим изданиям, газетам и журналам, о которых здесь упоминалось. Мы все помним, что там было немало стихов, посвящённых борьбе, первому мая и пр. Все эти стихи в сумме своей были очень важными и значительными культурно-историческими документами. Они знаменовали революционное пробуждение и политический рост класса. В этом смысле культурно-историческое их значение не меньше, чем значение произведений Шекспиров, Мольеров и Пушкиных всего мира. В этих беспомощных стихах — залог новой, более высокой человеческой культуры, которую создадут пробуждённые массы, когда овладеют основными элементами старой культуры. Но, тем не менее, рабочие стихи «Звезды» и «Правды» ещё отнюдь не означают возникновения новей пролетарской литературы. Нехудожественные вирши державинского или додержавинского стиля никак не могут оцениваться, как новая литература, хотя те мысли и чувства, которые искали себе выражение в этих стихах, и принадлежат начинающим писателям из среды рабочего класса. Неверно думать, будто литературное развитие представляет собою неразрывную цепь, в которой наивные, хотя бы и искренние вирши молодых рабочих начала этого столетия являются первым звеном будущей “пролетарской литературы”; на самом деле, эти революционные стихи были политическим фактом, а не литературным. Они содействовали не росту литературы, а росту революции. Революция привела к победе пролетариата, победа пролетариата ведёт к преобразованию экономики. Преобразование экономики меняет культурный облик трудящихся масс. А культурный рост трудящихся создает настоящую базу для новой литературы и вообще для нового искусства. „Но нельзя же допускать двойственности, — говорит нам тов. Раскольников, — нужно, чтобы в наших изданиях публицистика и поэзия представили собою одно целое; большевизм отличается монолитностью” и пр. На первый взгляд это соображение кажется неотразимым. На деле же оно представляет бессодержательную абстракцию. В лучшем случае, это — благочестивое, но не реальное благопожелание. Конечно, было бы великолепно, если бы мы имели в дополнение к нашей коммунистической политике и публицистике большевистское мироощущение, выраженное в художественной форме. Но этого нет, и нет совсем не случайно. Суть дела в том, что художественное творчество, по самой сути своей, отстаёт от других способов выражения духа человека, а тем более класса. Одно дело понять что-нибудь и логически выразить, а другое дело органически усвоить это новое, перестроить порядок своих чувств и найти для этого нового порядка художественное выражение. Второй процесс органичнее, медленнее, труднее поддается сознательному воздействию, и в последнем счёте всегда запаздывает. Публицистика класса бежит вперед на ходулях, а художественное творчество ковыляет сзади на костылях. Ведь Маркс и Энгельс были великими публицистами пролетариата в тот период, когда класс ещё по-настоящему не пробуждался. (С места: Да, это-то правильно.) Я вам очень благодарен. (Смех.) Но потрудитесь же сделать из этого необходимые выводы и понять, почему нет этой монолитности между публицистикой и поэзией, а это облегчит нам, в свою очередь, понимание того, почему в старых легальных марксистских журналах мы всегда оказывались в блоке, или в полу-блоке с художественными попутчиками, иногда очень сомнительными, а то и просто фальшивыми. Вы помните, конечно, «Новое Слово» — лучший из старых легальных марксистских журналов, в котором сотрудничали многие из марксистов старшего поколения, в том числе и Владимир Ильич. Журнал этот, как известно, водил дружбу с декадентами. Чем это объяснялось? Тем, что декаденты были в ту пору молодым и гонимым течением буржуазной литературы. И эта гонимость толкала их в сторону нашей оппозиционности, которая имела, конечно, совсем иной характер. Но всё же декаденты оказались нашими временными попутчиками. И дальше, марксистские журналы (о полумарксистских и говорить нечего), вплоть до «Просвещения», не имели какого-либо “монолитного” художественного отдела и отводили широкое место попутчикам. Можно было быть в этом отношении строже или снисходительнее, но монолитной политики в области искусства проводить нельзя было за отсутствием необходимых для этого художественных элементов.
Но Раскольникову этого, по существу, и не требуется. В художественных произведениях он игнорирует как раз то, что и делает их художественными. Это ярче всего выразилось в его замечательном суждении о Данте. «Божественная комедия», по его мнению, ценна для нас именно тем, что позволяет понять психологию определённого класса определённой эпохи. Ставить вопрос так — значит просто вычёркивать «Божественную комедию» из области искусства. Может быть, и пора это сделать, но только нужно тогда ясно понять суть вопроса и не бояться выводов. Если я говорю, что значение «Божественной комедии» в том, что она даёт мне понимание настроения определённых классов в определённую эпоху, то тем самым я превращаю её только в исторический документ, ибо как художественное произведение «Божественная комедия» должна говорить кое-что моим собственным чувствам и настроениям. Комедия Данте может действовать на меня угнетающе, питать во мне пессимизм, уныние, или, наоборот, приподнимать меня, окрылять, ободрять... Вот это и есть основное взаимоотношение между читателем и художественным произведением. Конечно, ничто не запрещает читателю выступить в качестве исследователя и отнестись к «Божественной комедии» только как к историческому документу. Ясно, однако, что эти два подхода лежат в двух разных плоскостях, которые связаны между собою, но не покрываются друг другом. Каким же образом мыслимо не историческое, а непосредственно эстетическое отношение между нами и средневековым итальянским произведением? Объясняется это тем, что у классового общества, несмотря на всю его изменчивость, имеются некоторые общие черты. Развившиеся в средневековом итальянском городе произведения искусства могут, оказывается, заражать и нас. Что для этого требуется? Немногое: требуется, чтобы эти чувства и настроения получили такое широкое, напряжённое, могущественное выражение, которое поднимало бы их над ограниченностью тогдашней жизни. Конечно, и Данте — продукт определённой социальной среды. Но Данте — гений, он поднимает переживания своей эпохи на огромную художественную высоту. И если мы, относясь ныне к другим средневековым художественным произведениям только как к объекту изучения, к «Божественной комедии» подходим, как к источнику художественного восприятия, то происходит это не потому, что Данте был флорентийским мелким буржуа XIII столетия, а в значительной мере, несмотря на это обстоятельство. Возьмём, например, такое элементарное физиологическое чувство, как страх смерти. Само это чувство свойственно не только людям, но и животным. У людей оно нашло сперва простое членораздельное, а затем и художественное выражение. В разные эпохи, в разной социальной среде это выражение менялось, т.е. люди боялись смерти по-разному. И тем не менее, то, что по этому поводу сказано не только у Шекспира, Байрона, Гёте, но и у псалмопевца, способно заражать нас (возглас тов. Либединского). Да, да, я как раз пришёл в тот момент, когда вы, тов. Либединскпй, объясняли тов. Воровскому в терминах политграмоты (вы сами так выразились) насчёт изменчивости чувств и настроений у разных классов. В такой общей форме это бесспорно. Однако, всё же вы не станете отрицать, что Шекспир и Байрон кое-что говорят нашей с вами душе. (Либединский: Скоро перестанут говорить.) Скоро ли — не знаю, но, несомненно, наступит эпоха, когда люди будут относиться к произведениям Шекспира и Байрона так же, как мы к средневековым поэтам, т.е. исключительно под углом зрения научно-исторического анализа. Ещё раньше, однако, наступит время, когда люди перестанут искать в «Капитале» Маркса поучений для своей практической деятельности, и «Капитал» станет только историческим документом, как и программа нашей партии. Но сейчас-то мы с вами не собираемся ещё сдавать в архив Шекспира. Байрона, Пушкина, и чтение их будем рекомендовать рабочим. Тов. Сосновский, например, усиленно рекомендует Пушкина, заявляя, что лет на пятьдесят его ещё непременно хватит. Не будем говорить о сроках. Но в каком смысле мы можем рекомендовать рабочему Пушкина? Классовой пролетарской точки зрения у Пушкина нет, монолитного выражения коммунистических настроений — и подавно. Конечно, у Пушкина превосходный язык, что и говорить, но ведь язык этот служит у него для выражения дворянского мироотношения. Скажем ли мы рабочему: читай Пушкина, чтобы понять, как дворянин, владелец крепостных душ и камер-юнкер, встречал весну и провожал осень? Конечно, и этот элемент есть у Пушкина, ибо Пушкин вырос на определённом социальном корне. Но то выражение, которое Пушкин давал своим настроениям, так насыщенно художественным и вообще психологическим опытом веков, так обобщено, что его хватило на наше время и, но словам тов. Сосновского, хватит ещё лет на пятьдесят. И когда мне говорят, что художественное значение Данте для нас определяется тем, что он выражает быт определённой эпохи, то приходится только развести руками. Я уверен, что многим, как и мне, пришлось бы за чтением Данте весьма и весьма напрячь память, чтобы вспомнить время и место его рождения, и, тем не менее, это не помешало бы получить художественное наслаждение, если не от всей «Комедии», то, но крайней мере, от некоторых её частей. Поскольку я не историк средневековой культуры, у меня отношение к Данте преимущественно художественное. (Рязанов: Это уж преувеличение. „Данте читать — что в море купаться” — так против Белинского выразился Шевырёв, который тоже был против истории.) Я не сомневаюсь, что Шевырёв действительно так выразился, как говорит тов. Рязанов, но я не против истории, — это напрасно. Конечно, исторический подход к Данте законен и необходим и влияет на наше эстетическое к нему отношение, но нельзя одно подставлять вместо другого. Мне вспоминается, что писал по этому поводу Кареев в полемике с марксистами; пускай, дескать, они, марксиды (так тогда иронически величали марксистов), покажут нам, какими такими классовыми интересами продиктована «Божественная комедия». А с другой стороны, итальянский марксист, старик Антонио Лабриола, писал, примерно, так: „Пытаться истолковывать текст «Божественной комедии» накладными на то сукно, которое отправляли своим заказчикам флорентийские купцы, могут только дураки”. Выражение такое помню почти дословно, ибо в полемике с субъективистами мне приходилось не раз цитировать эти строки в старые годы. Думаю, что тов. Раскольников не только к Данте, но и вообще к искусству подходит не с марксистским критерием, а с критерием покойного Шулятикова, который дал в этой области карикатуру на марксизм. Против такой карикатуры и сказал своё крепкое слово Антонио Лабриола.
Приводим здесь дословно энергичный окрик Антонио Лабриола по адресу тех упростителей, которые Марксову теорию превращают в шаблон и во всеобщую отмычку: „Ленивые умы, — пишет лучший итальянский философ марксизма, — охотно удовлетворяются подобными грубыми заявлениями. Какой праздник и какая радость для всех беспечных и неразборчивых людей заполучить, наконец, в небольшом, составленном из нескольких предложений, резюме всю науку и иметь возможность при помощи одного единственного ключа проникать во все тайны жизни. Свести все вопросы этики, эстетики, филологии, исторической критики и философии к одному единственному вопросу и избавиться, таким образом, от всех трудностей. Таким путём глупцы могли бы низвести всю историю до степени коммерческой арифметики, и, в конце концов, новое оригинальное толкование творения Данте могло бы представить нам «Божественную комедию» в свете тех счетов на суконные товары, которые продувные флорентийские купцы продавали с великой для себя выгодой!”
Вот уж, поистине, не в бровь, а в глаз!
„Под пролетарской литературой я понимаю литературу, которая смотрит на мир глазами авангарда” и т.д. и т.п. Это слова тов. Лелевича. Великолепно, мы готовы принять это определение. Дайте нам, однако, не только определение, но и литературу. Где она? Покажите нам её! (Лелевич: «Комсомолия» — вот лучшее произведение последнего времени.) Какого времени? (Голос с места: Последнего года.) Ну, хорошо, последнего года. Я отнюдь не хочу говорить полемически. У меня к работе Безыменского отношение, которое, я надеюсь, никак нельзя назвать отрицательным. «Комсомолию» я очень хвалил, когда читал её ещё в рукописи. Но и независимо от того, можно ли по этому поводу провозглашать появление пролетарской литературы, я скажу, что Безыменского не было бы на свете, как художника, если бы у нас не было сейчас Маяковского, Пастернака и даже Пильняка. (Голос с места: Это ничего не доказывает.) Нет, это доказывает — по меньшей мере, то, что художественное творчество данной эпохи представляет собою очень сложную ткань, которая автоматически, кружковым, семинарским путём не вырабатывается, а создается сложными взаимоотношениями, в первую голову — с различными группировками попутчиков. Из этого выскочить нельзя. Безыменский не выскакивает, и хорошо делает. На некоторых его вещах влияние попутчиков даже слишком ощутительно. Но это неизбежное явление молодости и роста. А вот тов. Либединский, недруг попутчиков, сам подражает Пильняку и даже Белому. Да-да, пусть уж меня извинит тов. Авербах, который качает отрицательно головой, хотя и без большой уверенности. Последняя повесть Либединского «Завтра» представляет собою диагональ параллелограмма, одной стороной которого является Пильняк, а другой — Андрей Белый. Само по себе это ещё не беда: не мог же, в самом деле, Либединский родиться на напостовской земле, как готовый писатель. (Голос с места: Это очень постная земля.) О Либединском я уже говорил после первого появления его «Недели». Бухарин тогда, как помните, страшно расхвалил её — по экспансивности и доброте своей натуры, и похвала эта меня испугала. Пока что я вынужден констатировать чрезмерную зависимость тов. Либединского от тех самых писателей — попутчиков и полупопутчиков, которых он и его единомышленники проклинают в «На посту». Вы видите снова, что художество и публицистика не всегда монолитны! Я отнюдь не собираюсь по этому поводу ставить на тов. Либединском крест. Думаю, что для всех нас ясно, что общий наш долг — с величайшим вниманием относиться к каждому идейно близкому нам молодому художественному дарованию, а тем более, когда это наш же соратник по борьбе. Первое условие такого внимательного и бережного отношения, это — не захваливать преждевременно и не угашать самокритики; второе условие — не ставить сейчас же крест, если человек споткнулся. Тов. Либединский ещё очень молодой товарищ. Ему нужно учиться и расти. И вот оказывается, что Пильняк нужен. (Голос с места: Либединскому нужен или нам?) Прежде всего, Либединскому. (Либединский с места: Но это и показывает, что я отравляюсь Пильняком.) К сожалению, человеческий организм может питаться, только отравляясь и вырабатывая внутренние средства против отравы. В этом и состоит жизнь. Если вас высушить, как воблу, тогда не будет отравления, но не будет и питания, вообще ничего не будет. (Смех.)
Тов. Плетнёв тут, в защиту своих абстракций пролетарской культуры и её составной части — пролетарской литературы, ссылался против меня на Владимира Ильича. Вот уж подлинно в точку попал! На этом нужно остановиться. Недавно вышла даже целая книжка Плётнева, Третьякова и Сизова, где пролетарская культура защищается ссылками на Ленина против Троцкого. Этот метод ныне очень модный. На эту тему Вардин мог бы написать целую диссертацию. Но ведь вы-то, тов. Плётнев, очень хорошо знаете, как обстояло дело, ибо вы сами приходили ко мне спасаться от громов Владимира Ильича, который за эту, за самую “пролетарскую культуру” собирался, как вы думали, прикрыть Пролеткульт целиком. А я обещал вам, что существование Пролеткульта, на известных основаниях, буду защищать, но что в отношении богдановской абстракции пролетарской культуры я полностью против вас и вашего протектора Бухарина и целиком согласен с Владимиром Ильичём.
Тов. Вардин, который выступает теперь не иначе, как в качестве живого воплощения партийной традиции, не стесняется грубейшим образом попирать то, что писал о пролетарской культуре Ленин. Пустосвятства, как известно, на свете немало: сошлись покрепче на Ленина, а проповедуй прямо противоположное. В терминах, которые не допускают никакого иного толкования, Ленин беспощадно осудил „болтовню о пролетарской культуре”. Нет, однако, ничего проще, как отделаться от этого свидетельства: конечно, мол, Ленин осуждал болтовню о пролетарской культуре, но ведь он осуждал именно болтовню, а мы вот не болтаем, а серьёзно взялись за дело и даже подбоченились... при этом только забывается, что резкие свои осуждения Ленин направлял как раз против тех, которые на него ссылаются. Пустосвятства, повторяю, сколько угодно; сошлись на Ленина, а поступай наоборот.
Товарищи, выступающие здесь под фирмой пролетарской культуры, относятся к тем или другим идеям, в зависимости от того, как авторы этих идей относятся к их пролеткультским кружкам. Это я проверил на своей собственной судьбе. Книга моя о литературе, которая причинила столько тревоги кое-каким товарищам, появилась первоначально, как некоторые, может быть, помнят, в виде статей в «Правде». Писал я эту книгу в течение двух лет, во время двух каникулярных перерывов. Это обстоятельство, как сейчас увидим, имеет значение для интересующего нас вопроса. Когда появилась, в виде фельетонов, первая часть книги, трактовавшая о внеоктябрьской литературе, о попутчиках, о мужиковствующих, вскрывавшая ограниченность и противоречивость идейно-художественной позиции попутчиков, тогда напостовцы прямо подняли меня на щит: куда ни взглянешь, везде цитаты из моих статей о попутчиках. Я одно время ходил весьма удручённый. (Смех.) Моя оценка попутчиков, повторяю, считалась чуть не безупречной, сам Вардин нигде не возражал. (Вардин с места: И сейчас не возражаю.) Вот я это самое и говорю. Но почему же теперь вы только и делаете, что косвенно, обиняками полемизируете по поводу попутчиков? В чём тут, собственно, дело? На первый взгляд совершенно непонятно. А разгадка проста: вина моя не в том, что я неправильно определил социальную природу попутчиков или их художественнее значение, — нет, тов. Вардин и сейчас, как мы слышали, „не возражает”, — вина моя в том, что я не поклонился манифестам «Октября» или «Кузницы», не признал за этими предприятиями монопольного представительства художественных интересов пролетариата, — словом, не отождествил культурно-исторических интересов и задач класса с намерениями, планами и претензиями отдельных литературных кружков. Вот в чём моя вина. И когда это обнаружилось, тогда поднялся неожиданный по своей запоздалости вопль: Троцкий — за мелкобуржуазных попутчиков. За попутчиков ли я или против? В каком смысле за и в каком смысле против? Об этом вы знали почти два года тому назад из моих статей о попутчиках. Но тогда вы соглашались, хвалили, цитировали, одобряли. А когда год спустя оказалось, что моя критика попутчиков вовсе не есть простое вступление к тому, чтобы поднять на щит тот или другой сегодняшний ученический литературный кружок, тут-то литераторы и защитники этого кружка, или, вернее, этих кружков, и стали что-то такое мудрить насчёт моего будто бы неправильного отношения к попутчикам. О, стратеги! Преступление моё не в том, что я неправильно оценил Пильняка или Маяковского, — ничего тут напостовцы не прибавили, а только повульгарнее повторили уже сказанное, — преступление моё в том, что я задел их собственную литературную мануфактуру. Да, именно литературную мануфактуру! Во всей их бранчливой критике нет и тени классового подхода. Тут подход конкурирующего литературного кружка — и только.
Я упомянул о “мужиковствующих”, а мы слышал и тут, что напостовцы эту главу особенно одобряют. Мало одобрять, надо понять. В чём тут дело с мужиковствующими попутчиками? А дело в том, что явление это вовсе не случайное, не маленькое и не скоропреходящее. У нас, извольте не забывать, диктатура пролетариата в стране, населённой, главным образом, мужиками. Интеллигенция меж этих двух классов, как между жерновов, понемножку растирается и снова возникает и не может быть растёрта в конец, т.е. сохранится, как “интеллигенция”, ещё долго, до полного развития социализма и очень значительного подъёма культуры всего населения страны. Интеллигенция обслуживает рабоче-крестьянское государство, подчиняется пролетариату, отчасти за страх, отчасти за совесть, колеблется, и будет колебаться в зависимости от хода событий и ищет своими колебаниями идейной опоры в крестьянстве, — отсюда советская литература мужиковствующих. Каковы её перспективы? Враждебна ли она нам в корне? Путь этот — к нам или от нас? А это зависит от общего хода развития. Задача пролетариата состоит в том, что, сохраняя всестороннюю гегемонию над крестьянством, привести его к социализму. Если бы мы потерпели на этом пути неудачу, т.е. если бы между пролетариатом и крестьянством произошёл разрыв, то и мужиковствующая интеллигенция, вернее, девяносто девять процентов всей интеллигенции, повернулись бы враждебно против пролетариата. Но такой исход ни в коем случае не обязателен. Курс мы держим, наоборот, на то, чтобы привести крестьянство под руководством пролетариата к социализму. Путь этот очень и очень длительный. В процессе его и пролетариат, и крестьянство будут выделять свою новую интеллигенцию. Не нужно думать, что интеллигенция, выдвинутая из пролетариата, является тем самым на сто процентов пролетарской интеллигенцией. Уже тот факт, что пролетариат вынужден выделять из себя особый слой “культурных работников”, означает неизбежно бóльшую или меньшую культурную разобщенность между отсталым классом в целом и выдвинутой им интеллигенцией. Тем более это относится к крестьянской интеллигенции. Путь крестьянства к социализму совсем не тот, что путь пролетариата. И поскольку интеллигенция, даже архисоветская, не способна слить свой путь с путём пролетарского авангарда, постольку она стремится найти для себя опору, политическую, идейную, художественную — в мужике, реальном или воображаемом. Тем более это проявляется в художественной литературе, где у нас есть старая народническая традиция. За нас это или против нас? Повторяю: ответ целиком зависит от всего дальнейшего хода развития. Если приведём крестьянина на пролетарском буксире к социализму — а мы твёрдо верим, что приведём, — тогда и творчество мужиковствующих вольётся сложными и извилистыми путями в будущее социалистическое искусство.1![]()
Позвольте, товарищи, сказать ещё несколько слов о тактике тов. Вардина в области литературы, взяв хотя бы за основу его последнюю статью «На посту». По-моему это не тактика, а скандал. Тон чудовищно высокомерен, а знаний и понимания убийственно мало. Нет понимания искусства, как искусства, т.е. как особой, специфической области человеческого творчества. Нет и марксистского понимания условий и путей развития искусства. Взамен этого есть недостойное жонглирование цитатами из заграничных белогвардейских органов, которые, видите ли, похвалили тов. Воронского за издаваемые им произведения Пильняка, или должны были похвалить, или сказали кое-что такое, что направлено против Вардина и, стало быть, за Воронского, и прочее и прочее — в том же духе косвенных улик, которые должны возместить недостаток знания и понимания. Последняя статья тов. Вардина построена на том, что белогвардейская газета одобрила Воронского против Вардина, написавши, что весь бой пошёл, как только Воронский стал относиться к литературе с литературной точки зрения. „Тов. Воронский своим политическим поведением, — так говорит Вардин, — этот белогвардейский поцелуй вполне заслужил”. Но ведь это инсинуация, а не анализ вопроса. Если Вардин собьётся в таблице умножения, а Воронский в этом совпадает с белогвардейцем, знающим арифметику, то тут для политической репутации Воронского ущерба ещё нет. Да, к искусству надо относиться, как к искусству, к литературе, как к литературе, т.е. как к совершенно специфической области человеческого творчества. Конечно, у нас есть классовый критерий и в искусстве, но этот классовый критерий должен быть художественно преломлен, т.е. сообразован с совершенно специфической особенностью того творчества, к которому мы наш критерий применяем. Буржуазия это прекрасно знает, она тоже подходит к искусству со своей классовой точки зрения, она умеет получить от искусства то, что ей нужно, но именно благодаря тому, что она подходит к искусству, как к искусству. Что же мудреного, если художественно-грамотный буржуа неуважительно относится к Вардину, который подходит к искусству с точки зрения косвенных политических улик, а не с художественно-классовым критерием? И если мне чего совестно, так не того, что у меня в этом споре может оказаться формальное совпадение с каким-либо донимающим искусство белогвардейцем, а того, что я вынужден перед лицом этого белогвардейца разъяснять рассуждающему об искусстве партийному публицисту первые буквы в азбуке искусства. Какая-то вообще дешевка: вместо марксистского анализа вопроса, найти цитату из «Руля» или «Дней» и вокруг неё наворачивать брань и инсинуации.
Нельзя подходить к художеству так, как к политике, — не потому что художественное творчество есть священнодействие и мистика, как здесь кто-то иронически говорил, а потому, что оно имеет свои приёмы и методы, свои законы развития и, прежде всего, потому, что в художественном творчестве огромную роль играют подсознательные процессы — более медленные, более ленивые и менее поддающиеся управлению и руководству — именно потому, что они подсознательные. Здесь было сказано, что тё вещи Пильняка, которые ближе к коммунизму, слабее тех его вещей, которые политически дальше от нас. Чем это объясняется? Да именно тем, что в рационалистическом плане Пильняк опережает себя, как художника. Сознательно повернуть себя вокруг собственной оси хотя бы только на несколько градусов — это для художника труднейшая задача, нередко связанная с глубоким, иногда со смертельным кризисом. А перед нами стоит задача не индивидуального или кружкового, а классового, социального поворота творчества. Это процесс — длительный, многосложный. Когда мы говорим о пролетарской литературе не в смысле отдельных, более или менее удачных стихотворений или рассказов, а в том, несравненно более полновесном смысле, в каком мы говорим о буржуазной литературе, мы не имеем права ни на минуту забывать чрезвычайную культурную отсталость подавляющего большинства пролетариата. Искусство создаётся на основе постоянного бытового, культурного, идейного взаимодействия между классом и его художниками. Между аристократией или буржуазией, и её артистами не было повседневного разрыва. Художники жили и живут в буржуазной обстановке, вдыхают в себя воздух буржуазных салонов, получали и получают от своего класса повседневные подкожные внушения. Этим-то и питаются подсознательные процессы их творчества. Представляет ли современный пролетариат такую культурно-идейную среду, не выходя из которой в повседневной жизни, новый художник мог бы получать все необходимые ему внушения и овладевать в то же время приёмами своего мастерства? Нет, рабочие массы культурно чрезвычайно отстали; малограмотность и безграмотность большинства рабочих представляет уже сама по себе величайшие препятствия па этом пути. А сверх того, пролетариат, поскольку он остаётся пролетариатом, вынужден лучшие своп силы расходовать на политическую борьбу, на восстановление хозяйства и на элементарнейшие культурные потребности, на борьбу с безграмотностью, вшивостью, сифилисом и пр. Конечно, можно и политические методы и революционные навыки пролетариата назвать его культурой; но это, во всяком случае, та культура, которой предстоит отмирать по мере того, как будет развиваться новая, настоящая культура. А эта новая культура будет тем более становиться культурой, чем менее пролетариат будет оставаться пролетариатом, т.е. чем успешнее и полнее будет развёртываться социалистическое общество.
Маяковский написал очень сильную вещь «Тринадцать апостолов», революционность которой ещё довольно туманна и бесформенна. А когда тот же Маяковский решил повернуть себя на пролетарскую линию и написал «150 000 000», у него получились жесточайшие рационалистические провалы. Это значит, что он в порядке логическом обогнал свою творческую подоплёку. У Пильняка, как мы уже говорили, наблюдается подобное же несоответствие между сознательным устремлением и подсознательными процессами творчества. К этому нужно только добавить, что и архипролетарское происхождение само по себе не даёт писателю в нынешних условиях никаких гарантий того, что творчество его будет находиться в органической связи с классом. И кружок пролетарских писателей этой гарантии не даёт именно потому, что он, отдаваясь художественному творчеству, вынужден в данных условиях вырываться из среды своего класса и дышать той же, в конце концов, атмосферой, что и попутчики. Это — литературный кружок среди кружков.
Я насчёт так называемой перспективы ещё хотел сказать, но время моё давно истекло. (Голоса: Просим, просим.) „Дайте нам, по крайней мере, перспективу”, возражают мне. Что это значит? Напостовцы, да и другие союзные им кружки, держат курс на пролетарскую литературу, создаваемую кружковым лабораторным путём. Вот эту перспективу я отвергаю целиком. Я снова повторяю, что нельзя ставить в один исторический ряд феодальную литературу, буржуазную и пролетарскую. Такая историческая классификация в корне порочна. Я об этом говорил в своей книге, и все возражения показались мне неубедительными и несерьёзными. Те, кто говорят о пролетарской культуре всерьёз и надолго, которые из пролетарской культуры делают платформу, мыслят в этом вопросе по формальной аналогии с буржуазной культурой. Буржуазия взяла власть и создала свою культуру; пролетариат, овладев властью, создаст пролетарскую культуру. Но буржуазия — класс богатый, и потому образованный. Буржуазная культура существовала уже до того, как буржуазия формально овладела властью. Буржуазия овладела властью, чтобы увековечить своё господство. Пролетариат в буржуазном обществе — неимущий и обездоленный класс, и потому культуры своей создать не может. Овладев властью, он только впервые по-настоящему и убеждается в своей ужасающей культурной отсталости. Чтобы победить её, ему нужно уничтожить те условия, которые сохраняют его, как класс. Чем больше можно будет говорить о новой культуре, тем меньше она будет носить классовый характер. В этом — основа вопроса и главное разногласие, поскольку речь идет о перспективе. Иные, отступая с принципиальной позиции пролетарской культуры, говорят: мы имеем в виду именно только переходную эпоху к социализму, те самые двадцать, тридцать, пятьдесят лет, в течение которых будет перестраиваться буржуазный мир. Можно ли предназначенную и пригодную для пролетариата литературу, которая будет в этот период создаваться, назвать пролетарской литературой? Во всяком случае, мы придаём при этом термину “пролетарской литературы” совсем, совсем не то значение, что в первом, широком замысле. Но главный вопрос не в этом. Основной чертой переходного периода, взятого в международном масштабе, является напряжённая классовая борьба. Те двадцать–пятьдесят лет, о которых мы говорим, являются, прежде всего, периодом открытой гражданской войны. А гражданская война, подготовляющая величайшую культуру будущего, крайне неблагоприятна для сегодняшней культуры. Непосредственным своим действием Октябрь как бы убил литературу. Поэты и художники замолчали. Случайно? Нет. Давно сказано: когда звенит оружие, молчат музы. Понадобилась передышка, чтобы могла ожить литература. Она у нас начинает возрождаться вместе с НЭПом. Ожив, она сразу окрашивается цветом попутчиков. Нельзя не считаться с фактами. Наиболее напряженные моменты, т.е. те, в которых наша революционная эпоха находит своё высшее выражение, неблагоприятны для литературного и вообще художественного творчества. Если завтра начнется революция в Германии или в Европе, даст ли она нам непосредственный расцвет пролетарской литературы? Ни в каком случае. Она сдавит, сожмёт, а не развернёт художественное творчество, ибо нам снова придётся мобилизоваться и поголовно вооружиться. А когда звенит оружие, тогда музы молчат. (Возгласы: Демьян не молчал.) Да нельзя же, в конце концов, так: Демьян да Демьян. Вы начинаете с того, что провозглашаете новую эру пролетарской литературы, создаёте для этого кружки, ассоциации, группировки, а когда от вас требуют более конкретного предъявления пролетарской литературы, вы раз за разом ссылаетесь на Демьяна. Но Демьян — продукт старой литературы, дооктябрьской. Никакой школы он не создал и не создаст. Он воспитывался на Крылове, Гоголе и Некрасове. В этом смысле он — революционный последыш старой нашей литературы. Самая ссылка на него есть в ваших устах отказ от себя.
Какова же перспектива? Основная перспектива — рост грамотности, просвещения, рабкоры, кино, постепенная перестройка быта, дальнейший подъём культурности. Это основной процесс, пересекающийся с новыми обострениями гражданской войны уже в европейском и мировом масштабе. На этой основе линия чисто литературного творчества будет весьма зигзагообразна. «Кузница», «Октябрь» и другие подобные объединения ни в каком ещё смысле не являются вехами культурного классового творчества пролетариата, а лишь эпизодами верхушечного характера. Если из этих группировок выделится несколько хороших молодых поэтов или беллетристов — пролетарской литературы от этого ещё не получится, но польза будет. Но если вы будете тщиться превращать МАПП и ВАПП в фабрики пролетарской литературы, то вы непременно сорвётесь, как уже срывались до сих нор. Член такой ассоциации считает себя не то представителем пролетариата при искусстве, не то представителем искусства при пролетариате. ВАПП даёт как бы некоторое звание. Возражают, что ВАПП это есть только коммунистическая среда, где молодой поэт получает необходимые внушения и пр. Ну, а РКП? Если это действительный поэт и подлинный коммунист, то РКП всей своей работой даст ему несравненно больше внушений, чем МАПП и ВАПП. Конечно, партия должна — и будет — с величайшим вниманием относиться к каждому молодому родственному, идейно близкому ей художественному дарованию. Но основной её задачей в отношении литературы и культуры „является подъём грамотности простой, политической, научной — трудящихся масс” и, тем самым, создание базы для нового искусства.
Я знаю, что эта перспектива вас не удовлетворяет. Она вам кажется недостаточно конкретной. Почему? — Потому, что вы себе представляете дальнейшее развитие культуры слишком планомерно, слишком эволюционно: будут, дескать, расти и развиваться нынешние зачатки пролетарской литературы, непрерывно обогащаясь, будет создаваться подлинная пролетарская литература, затем она вольётся в социалистическую литературу. Нет, развитие пойдет не так. После нынешней передышки, когда у нас — не в партии, а в государстве — создаётся литература, сильно окрашенная попутчиками, наступит период новых жестоких спазм гражданской войны. Мы будем неизбежно вовлечены в неё. Весьма возможно, что революционные поэты дадут нам хорошие боевые стихи, но преемственность литературного развития всё же резко оборвётся. Все силы пойдут на прямую борьбу. Будем ли мы потом иметь вторую передышку? Не знаю. Но результатом этого нового, гораздо более мощного периода гражданской войны — при условиях победы — будет полное обеспечение и укрепление социалистической базы нашего хозяйства. Мы получим новую технику, организаторскую помощь. Наше развитие пойдёт иным темпом. И вот на этой-то основе, после зигзагов и потрясений гражданской дойны, только и начнётся настоящее строительство культуры, а, следовательно, и создание новой литературы. Но это уже будет культура социалистическая, построенная целиком на постоянном общении художника и культурно выросших масс, связанных узами солидарности. Вы же исходите не из этой перспективы; у вас своя, кружковая. Вы хотите, чтобы партия от имени класса официально усыновила вашу маленькую художественную мануфактуру. Вы думаете, что, посадив фасоль в цветочный горшок, вы способны взрастить древо пролетарской литературы. На этот путь мы не встанем. Из фасоли никакого древа произрасти не может.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 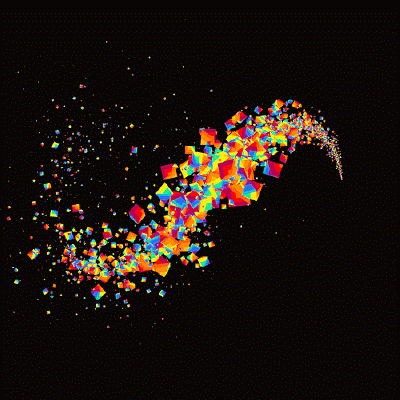 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||