Н.О. Лернер
Пушкин и футуризм
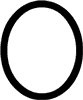
днажды Дельвиг подвёл к Пушкину своего семилетнего братца и рекомендовал мальчика поэтом-романтиком. Пушкин пожелал ознакомиться со стихами начинающего романтика. Не конфузясь и вложив обе ручонки в руки Пушкина, ребёнок торжественно продекламировал:
Индияди, Индияди, Индия!
Индиянда, Индиянда, Индия!
Пушкин погладил поэта по головке, поцеловал его и сказал:
— Он точно романтик.1
Как похожа эта „Индияди-Индиянда” — не так ли? — на бобэоби и вээоми Виктора Хлебникова! Правда, Виктор Хлебников, когда писал эти стихи, был гораздо ближе к тридцати семи годам, чем к семи, но разве это не то же самодовлеющее, голое слово-звук, под которым гнездится одно “чувство-мысль”: „чего я хочу, — неизвестно”!..
Увы, ничто не ново под луною, и было время, когда европейский романтизм — а его застрельщиком был романтизм французский — вступал в жизнь с теми самыми приёмами, которые возродились в дерзновениях итальянских футуристов недавних лет и так комично освобождены от здравого смысла, так свободны от нормального хода вещей, так беспочвенны в скандальных, но всё-таки нестерпимо скучных выходках российских футуристов.
Россия пушкинской эпохи, конечно, не знала этого явления. От бенедиктовского призыва: „изобретай неслыханные звуки, выдумывай неведомый язык” до футуризма ещё было очень далеко.
Но, литературный гражданин Запада, наш великий поэт столкнулся с футуризмом (оговариваюсь: термин принадлежит нашему времени, но не в термине дело) у французов и высказал своё мнение о нём.
Пушкин познакомился с футуризмом в самом источнике его зарождения, в крайностях французского романтизма. Образцом этих крайностей была знаменитая в своё время “повесть” Шарля Нодье «Histoire du Roi de Bohême et de ses sept châteaux». Пушкин написал о ней статью и поместил её в «Литературной Газете» 1830 г.,2 главной силой которой был наш поэт. В статье этой, напечатанной без подписи и узнанной нами по ряду признаков, обличающих и литературные суждения, и стиль Пушкина, выразилось его отношение к тем проявлениям романтического протеста против литературной действительности, которые в наши дни отлились в ещё более крайнюю и последовательную систему футуризма.
главной силой которой был наш поэт. В статье этой, напечатанной без подписи и узнанной нами по ряду признаков, обличающих и литературные суждения, и стиль Пушкина, выразилось его отношение к тем проявлениям романтического протеста против литературной действительности, которые в наши дни отлились в ещё более крайнюю и последовательную систему футуризма.
„Правила сбрасываются, как ненужный балласт, препятствующий свободному полёту фантазии, провозглашается полная независимость художественного творчества от всякой системы, всякой логики и даже от здравого смысла”. Так определяет А. Шахов3 французскую романтическую школу конца двадцатых годов. Она исповедывала теорию верховенства абсолютной фантазии поэта, ничем не стесняемой. Власть художника над словом и мыслью была объявлена неограниченной. В своём знаменитом “манифесте” (предисловие к «Кромвелю») Гюго поставил искусству одну задачу — истину. Но пропаганда индивидуализма отвергла и эту задачу. Стали появляться произведения, которым дела не было ни до каких истин, этических или эстетических, произведения, целью которых была, если только это можно назвать целью, словесная игра. Отдельные элементы этого никуда не направленного направления и содержит обратившая на себя внимание Пушкина книга Нодье. Только отдельные, — потому что Нодье слишком был критичен и ироничен, чтобы всей душой принять новое течение и без оглядки ему подчиниться. Нодье явно смеётся над “своими”, не меньше, чем над стариками-классиками, и это-то и снискало ему сочувствие Пушкина.
французскую романтическую школу конца двадцатых годов. Она исповедывала теорию верховенства абсолютной фантазии поэта, ничем не стесняемой. Власть художника над словом и мыслью была объявлена неограниченной. В своём знаменитом “манифесте” (предисловие к «Кромвелю») Гюго поставил искусству одну задачу — истину. Но пропаганда индивидуализма отвергла и эту задачу. Стали появляться произведения, которым дела не было ни до каких истин, этических или эстетических, произведения, целью которых была, если только это можно назвать целью, словесная игра. Отдельные элементы этого никуда не направленного направления и содержит обратившая на себя внимание Пушкина книга Нодье. Только отдельные, — потому что Нодье слишком был критичен и ироничен, чтобы всей душой принять новое течение и без оглядки ему подчиниться. Нодье явно смеётся над “своими”, не меньше, чем над стариками-классиками, и это-то и снискало ему сочувствие Пушкина.
Напрасно было бы стараться найти в странной, романтически растрёпанной книге что-нибудь о «Короле Богемском» и его замках. Но зато, дав волю своему юмору, он сумел показать романтикам, к чему приводит пользование безграничной “свободой творчества”. Нодье — передаёт оригинальное впечатление, производимое его книгой, Брандес4 — „словно одержим фантастическим своеволием и в рассказе уже не довольствуется тем, что вверх ногами ставит все обыденные представления, но играет даже теми отношениями, в какие ставит сам себя к рассказу, насмехается над современниками, позволяет себе тысячу намёков, философствует на тему об иллюзиях бытия, и всё это с помощью голой формы изложения”. Книга Нодье, если бы только не дьявольская ирония автора, — настоящий футуристский идеал: в ней нет никакого содержания, но зато есть безграничная смелость обращения со словом. Оно становится необычайным, необузданным, диким. Какой-нибудь рассейский «Садок судей» — сущий пустяк в сравнении с “бурей и натиском” Нодье. Он в целях внешней изобразительности опрокидывает типографию потолком книзу.5
— „словно одержим фантастическим своеволием и в рассказе уже не довольствуется тем, что вверх ногами ставит все обыденные представления, но играет даже теми отношениями, в какие ставит сам себя к рассказу, насмехается над современниками, позволяет себе тысячу намёков, философствует на тему об иллюзиях бытия, и всё это с помощью голой формы изложения”. Книга Нодье, если бы только не дьявольская ирония автора, — настоящий футуристский идеал: в ней нет никакого содержания, но зато есть безграничная смелость обращения со словом. Оно становится необычайным, необузданным, диким. Какой-нибудь рассейский «Садок судей» — сущий пустяк в сравнении с “бурей и натиском” Нодье. Он в целях внешней изобразительности опрокидывает типографию потолком книзу.5 „Я спустился по семи ступенькам лестницы” у него передано так:
„Я спустился по семи ступенькам лестницы” у него передано так:
Я
спустился
по
семи
ступенькам
лестницы.
Читатель таким образом “видит лестницу”. Когда герой говорит, что у него чулок был выворочен наизнанку, а левая нога попала не в ту туфлю, сие событие изложено в строках, тоже вывороченных соответствующим образом:
Автор ставит себе в заслугу, что располагает буквы
по-новому
или подчиняет строки столь
странному расположению,
вернее, так безумно
причудливому.
Перечень насекомых, на которых властитель Томбукту, добрый царь Попокамбу, разрешил кому-то безданно-беспошлинно охотиться во всем своем царстве, занимает пять страниц в таком роде:
Sphynx,
Phalènes,
Noctues,
Noctuelles,
Bombyces,
Pyrales,
и т.д., и т.д. Вообще Нодье умел показать, что значит не стесняться чувством меры. Вот как передаёт он дребезжание и скрип почтового дилижанса, останавливающегося у станции:
— Pit paf piaf patapan.
Ouhiyns, ouhiyns. Ebrohé, broha, broha. Ouhiyns, ouhiyens.
Hoé hu. Dia hurau. Tza tza tza.
Cla cla cla. Vli vlan. Flic flic. Flaflaflac.
Tza tza tza. Psi psi psi. Ouistle.
Zou lou lou. Rlurlurlu. Ouistle.
и т.д. на протяжении целой страницы, составляющей особую главу. До этого, согласитесь, даже позднейшим футуристам далеко.
Книга Нодье вышла в 1830 г. и скоро очутилась на письменном столе Пушкина, который внимательно следил за литературной жизнью Запада; в «Литературной Газете» он писал о Ж. Жанене, Гюго, Сент-Бёве. Книга Нодье заставила его взяться и на этот раз за перо, и он воспользовался случаем выказать своё отношение и к самой школе французских романтиков, и к её крайностям, в которых мы в наши дни узнаём черты теперешнего футуризма:
Нынешняя “романтическая” французская литература взяла какое-то странное направление. Неясное, неопределённое (la vague) как будто бы сделалось её символом и правилом. В трагедиях новейшей французской школы мы видим одни формы, одну резкую новость выражений, произвольное изменение благозвучного Расиновского стиха в стих более свободный, но зато и более шероховатый, — и напрасно ищем отчётливости в создании, напрасно ищем характеров. Сие же можно применить, с необходимыми исключениями, и к новейшим повестям или небольшим романам, изданным в последние годы во Франции, как, напр., «Le dernier jour d’un condamné», «L’Ane mort et la femme gullotinée», «La Confession» и т.п. Кажется, образцами их, хотя и отдалёнными, были повести Гофмана, Тика и других новых немецких писателей. Книжка, которой заглавие выставлено в начале сей статьи, написана не совсем в этом роде: она более сбивается на какую-то аллегорию; но неясность цели автора, придуманные им заглавие и форма сочинения и безотчётность целого по праву дают книжке сей место между теми, о коих мы упомянули выше.
В одном из парижских журналов нынешнего года помещён был остроумный разбор сего нового произведения г. Нодье, представленный в виде разговора двух читателей. Выписываем сей разбор и по его оригинальности, и по сходству наших мнений насчёт разбираемой книги с мнениями французского критика.
Затем Пушкин приводит заимствованную из парижского журнала беседу двух читателей. Это не тот обыкновенно встречаемый в газетной критике и полемике диалог двух собеседников, один из которых говорит глупости, а другой осыпает его и читателей перлами мудрости. Разговор этот во всех репликах полон остроумия, непринуждённости и живости.
Один собеседник заявляет с притворной наивностью, что совсем не понял двух героев:
— На это дам вам ответ, когда вы растолкуете мне ясно и точно, что такое “классическая”, и что “романтическая” школа.
Другому «История» вообще не понравилась.
— На вас трудно угодить; а это ведь сатира во вкусе Рабле.
— Везде я слышу ту же похвалу; может быть, она очень справедлива; но зачем же нынче писать сатиры во вкусе Рабле? Когда можно ясно выразить свою мысль обо всём, то зачем хлопотать из того, чтобы быть тёмным?
— Скажу вам ещё раз: такая форма гораздо заманчивее. К тому же сатира не должна указывать слишком прямо: ей должно прятаться под покрывалом, из-за которого каждый волен узнать себя или своего соседа.
— Так, по вашему мнению, всему есть свой смысл в том сочинении, о котором мы рассуждаем? Это большая загадка, которою должны изощряться и догадливость, и терпение всех любопытных?
— Да, я так думаю.
— С моей стороны я радуюсь тому. Мне приятно будет со временем узнать, кто таков Король Богемский. Мы также узнаем, что значит туфель Попокамбу, которому г. Нодье посвящает три или четыре главы, больше наскучившие мне, нежели выведшие меня из терпения. Мы узнаем, зачем он так часто приискивал по сотням эпитетов к одному слову; зачем он симметрически нанизывал по стольку гласных, которые сталкиваются между собою и ничего не говорят уму. Зачем он наполнял сряду девять страниц именами насекомых, как, напр., phalénes, noctues, bombyces, pyrales, zygènes, alucites, hepiales, ptérophores, libellules, ascalaphes, hémérobes, myrmiléons и пр., и пр.; зачем он в разных местах набирал по стольку же имён собственных; зачем он тысячу раз принимался за такие же выходки, которые кажутся вечным повторением одни других, и из которых одной было бы очень достаточно для сатирической его цели: а такая цель верно у него была.
— Была ли у него цель? Можно ли в том сомневаться? Такой остроумный и сметливый человек как г. Нодье, не написал бы пятидесяти или шестидесяти страниц из одного только удовольствия — низать слова одни к другим.
— Признаюсь, это меня удивляет; а всё мне кажется, что я прав. Есть ещё и другое удовольствие, которое могло льстить сочинителю: то, чтобы видеть, как люди умные, с глубокою проницательностью (как вы, сударь), станут ломать себе голову, отыскивая смысл в словах или сказках, которым он не хотел придать никакого смысла. Не находите ли вы, что он отчасти выказывает это безжалостное намерение, заставляя вас призадуматься над тою велемудрою главою, которая начинается сими словами: „Pif, paf, piaf, patapan. — Ouhiyns, ouhiyns. — Ноé, hu. Dia hurau. Fra, tza, tza, tza”? Объясните мне, на милость, эти слова.
— Ясное дело, что им нельзя дать никакого объяснения. Автор хотел здесь позабавиться над теми писателями, которые воображают, что они и глубоки, и высоки, когда умели сделаться непонятными.
— Этого достоинства нельзя отвергать и в «Истории о Богемском Короле».
— Главная прелесть этой книжки — в удачном и смелом смешении весёлости, воображения, ума и учёности, где сочинитель слегка и мимоходом коснулся множества разных вопросов и предметов; где найдёшь и замысловатые аллегории, и тонкие, едкие насмешки наряду с учёными рассуждениями и очаровательными мечтами.
— Грация, сила, тонкость, свежесть, учёность — всё это в самом деле есть в этой книжке; только в такой смеси и с такою небрежностью, которые странным образом бросаются в глаза, потому что они — следствие расчёта и принятого намерения, а не полной свободы воображения. Кажется, будто видишь васильки, розы и лилии, украшение садов, брошенные с намерением в клумбу, в которой нарочно посажены волчцы, репейник и крапива.
— Нам трудно будет согласиться.
— И мне так кажется. Со всем тем, мы согласны уже в одном.
— В чём же?
— В необыкновенном таланте автора.
С этим заключением явно согласен был и сам Пушкин. Его не только заняла и позабавила оригинальная, свежая книга Нодье, но по поводу её он высказал несколько серьёзных, важных мыслей. Глава русского романтизма6 с осуждением отнёсся к “футуристическим” крайностям французского — и это не в первый и не в последний раз. Жалобам Пушкина на преобладание у французских романтиков „одних форм, одной резкой новости выражений”, на отсутствие „отчётливости в создании” и „характеров”, на все эти формальные и внутренние недостатки их школы, вполне соответствуют другие его же жалобы. „Делорм слишком много придаёт важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха”... (статья о Сент-Бёве). „Стих стал у них более свободным и более шероховатым”, — около того же времени Пушкин писал об этой эволюции „благозвучного Расиновского стиха” (в «Домике в Коломне») не без сочувствия, но не мог понять принципа независимости формы от содержания. Его трезвая мысль и верное поэтическое чувство требовали их гармонического сочетания.
с осуждением отнёсся к “футуристическим” крайностям французского — и это не в первый и не в последний раз. Жалобам Пушкина на преобладание у французских романтиков „одних форм, одной резкой новости выражений”, на отсутствие „отчётливости в создании” и „характеров”, на все эти формальные и внутренние недостатки их школы, вполне соответствуют другие его же жалобы. „Делорм слишком много придаёт важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха”... (статья о Сент-Бёве). „Стих стал у них более свободным и более шероховатым”, — около того же времени Пушкин писал об этой эволюции „благозвучного Расиновского стиха” (в «Домике в Коломне») не без сочувствия, но не мог понять принципа независимости формы от содержания. Его трезвая мысль и верное поэтическое чувство требовали их гармонического сочетания.
В другой раз («Мысли на дороге») Пушкин с пренебрежением говорил о писателях, „которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его”, и которых за это ожидает заслуженное забвение. Пушкина всегда смущало у французских романтиков „неясное, неопределённое”, которое он, со своей беспощадною ясностью честного во всём ума, считал не необходимым и нарочитым. Он осуждал того поэта, который „систематически” говорил себе: „soyons exravagants” и „истинное вдохновение” (статья о Сент-Бёве) заменял надуманными странностями; Пушкин называл это — „фиглярствовать странностями” («Мысли на дороге»). Признавая талант каждого в отдельности из крупных французских романтиков, Пушкин осуждал самую школу за неясность её художественных стремлений, за ту „безотчётность целого”, которая тщетно старается скрыть от зоркого глаза отсутствие внутренней цельности. Боратынского наш поэт высоко ставил за то, что „никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению (exagération) для произведения бóльшего эффекта, никогда не пренебрегал трудами неблагодарными, редко замечаемыми, трудами отделки и отчётливости”, — не взирая на то, что „верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действуют на толпу, нежели преувеличение (exagération) модной поэзии”.
Всецело присоединяясь к мнению французского критика, что в подобных путях не свобода видна, а именно рабское подчинение расчёту, великий поэт указал нам, что вне связи с трудом, здравым смыслом и историческим ходом вещей не может быть свободы в литературе, как не может быть её ни в чём. Однако, возражая против шарлатанства и фиглярства, Пушкин не был априорным отрицателем нового направления, и прав позднейший критик, сказавший, что со временем, „когда будет вскрыто истинное значение нашего футуризма, станет ясно, что основное его устремление тоже не было чуждо Пушкину”.7 Читатель помнит, конечно, как изменился мир в обожжённых взглядом красавицы глазах художника Пискарёва («Невский проспект» Гоголя): „тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз”. Настоящая футуристическая картина! Такой картины, какую увидел здесь Гоголь очами своего героя, ни разу не набросал Пушкин, но и он мечтал о блаженстве выхода из узкого круга обычных восприятий:
Читатель помнит, конечно, как изменился мир в обожжённых взглядом красавицы глазах художника Пискарёва («Невский проспект» Гоголя): „тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз”. Настоящая футуристическая картина! Такой картины, какую увидел здесь Гоголь очами своего героя, ни разу не набросал Пушкин, но и он мечтал о блаженстве выхода из узкого круга обычных восприятий:
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грёз...
Один поэт, близко знавший Пушкина, рассказывал, что иногда он „принимался слагать в уме странные стихи — умышленную, но гениальную бессмыслицу. Сколько мне известно, он подобных стихов никогда не доверял бумаге”.8
———————————————————
Примечания 1
1 Воспоминания А.П. Керн (сборн. Л.Н. Майкова «Пушкин», СПб., 1899, стр. 261).
 2
2 № 55, 28 сентября, стр. 153–155. Перепечатана мною в «Русс. Старине» 1913 г., дек., 534–542, и включена в Сочин. Пушкина, изд. С.А. Венгерова, VI, 205–209.
 3
3 «Очерки литературного движения в первую половину XIX века».
 4
4 «Литература XIX века в ее главных течениях. Французская литература». Перев. Э. Зауэр, СПб., 1895, 2-ая пагин., ст. 43–44.
 5
5 Таким образом в нашу эпоху глава итальянского футуризма Ф.Т. Маринетти в одном из своих “манифестов” напрасно хвалился: „я предпринимаю типографскую резолюцию ‹...› Мы будем употреблять на одной странице 3 или 4 разноцветных чернил и 20 шрифтов, если это необходимо. Напр., курсив для ряда схожих и быстрых чувствований, жирный шрифт для грубых звукоподражаний и т.д. Новая (?) мысль страницы типографноживописной”. («Манифесты итальянского футуризма», перев. В. Шершеневича, М., 1914, стр. 65).
 6
6 Пушкин не оставил своего определения романтизма, но из всех встречающихся у него употреблений этого термина видно, что под романтизмом он разумел то новое направление в искусстве, которое освобождало творца от оков обветшавших теорий, но не отвергало только одной теории — полной поэтической свободы. Строго последовательный, он даже предлагал отказаться от всяких попыток дать романтизму какое-нибудь определение, основанное на внутренних признаках. В этом общем (и единственном для него и им приемлемом) смысле мы называем его главою русского романтизма, чем, понятно, не исчерпывается его значение в истории русской литературы. Он судил романтиков в России, как Нодье, сам романтик, — во Франции.
 7 В.Я. Брюсов
7 В.Я. Брюсов. Пушкин-мастер // «Пушкин». Сборник I. Изд. Пушк. Коммиссии Общ. люб. росс. словесн., М., 1924, стр. 114). „В пору современных споров ещё не настало время говорить об этом”, «»прибавил поэт-теоретик.
 8 Барон Е.Ф. Розен
8 Барон Е.Ф. Розен. Ссылка на мертвых // «Сын Отечества» 1847 г., № 6, отд. III, стр. 27). Следует отметить, что рассказано это именно в связи с отношениями Пушкина к Гоголю, „странности” и „отвратительные бессмыслицы” которого пленяли Пушкина, чего никак не мог понять наивный Розен.
Воспроизведено по:
Н.О. Лернер. Рассказы о Пушкине.
Ленинград: Прибой. 1929. С. 180–189.
Впервые напечатано:
Н. Лернер. Пращур русского футуризма // «Голос жизни», №15 (8 апреля 1915).
Изображение заимствовано:
Alain Marciano (born in Marseille, live in Montpelliere, France). Untitled.
www.flickr.com/photos/alainmarciano/5477034944/


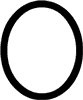 днажды Дельвиг подвёл к Пушкину своего семилетнего братца и рекомендовал мальчика поэтом-романтиком. Пушкин пожелал ознакомиться со стихами начинающего романтика. Не конфузясь и вложив обе ручонки в руки Пушкина, ребёнок торжественно продекламировал:
днажды Дельвиг подвёл к Пушкину своего семилетнего братца и рекомендовал мальчика поэтом-романтиком. Пушкин пожелал ознакомиться со стихами начинающего романтика. Не конфузясь и вложив обе ручонки в руки Пушкина, ребёнок торжественно продекламировал:![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
