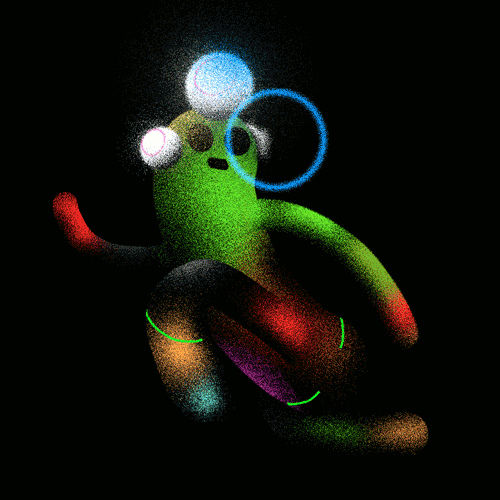Жан-Филипп Жаккар
Чистота, пустота, ассенизация: авангард и власть*
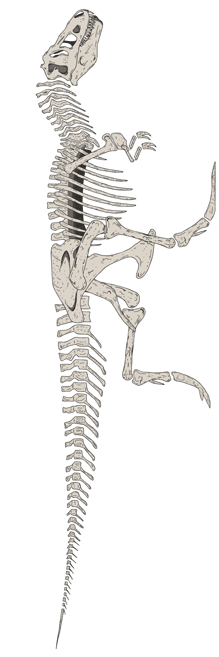
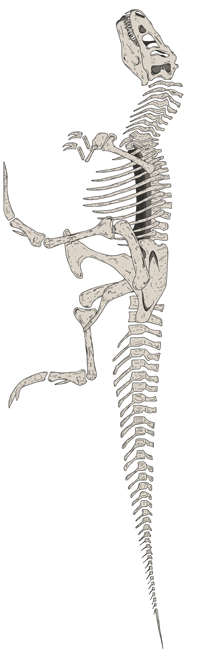
едавно Илья Кабаков заявил, что „чистота никогда окончательно не побеждает, а грязь и мусор продолжают оставаться постоянным фактором нашей жизни. Это особенно характерно для нашей русской жизни”. И художник добавляет: „Мусор у нас — это синоним существования, поскольку нет никакого смысла что-то расчищать и строить, если всё превратится в мусор”.
1
Эти слова Кабакова не только содержат обычную для художника долю провокации, но и являются также выражением постоянного вопроса, который восходит к источникам русской культуры XX века и, в частности, — авангарда.
Действительно поразительно, насколько “чистота” и противоположная ей “нечистота” так или иначе, постоянно присутствует в размышлениях представителей авангарда. Но также поразительно и то, насколько она стоит в центре идеологии советского строя. В двуполярном мире, который возник в 17-ом году, почти сразу понятие “чистота” стало эквивалентом понятия “Добро”, так же, впрочем, как это происходит в любой религиозной системе. Отнюдь не случайно, что одной из самых существенных проблем, которую революция встретила на своем пути, оказалась религия и, парадоксальным образом, именно эта проблема нашла свое решение с молниеносной быстротой. Вероятно, это объясняется отчасти тем, что место укорененного давным-давно, во всяком случае, со времен “Домостроя” понятия “чистая совесть” (т.е. “чистое сознание”), которое сопровождает чистоту дома и вообще гигиену жизни, — это место занял почти моментально тоталитарный вариант этой парадигмы, основанный на том же корне (/чист/), на котором основано, например, слово ‘чистка’. Мир надо было очистить от мусора и за это взялись с самого начала: известны карикатуры-лозунги „Ленин очищает землю от нечисти”, где огромный Владимир Ильич со шваброй в руках очищает маленький земной шар от всякого мусора, т. е. от проклятых буржуев, попов, генералов и др. Известны и стихи Маяковского:
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.
2
Ту же идею мы найдём через десять лет накануне самоубийства поэта, когда он пишет пьесу «Баня», та баня, которая „моет (просто стирает) бюрократов”,3 в знаменитых стихах из неоконченной поэмы «Во весь голос» (1928—1930):
в знаменитых стихах из неоконченной поэмы «Во весь голос» (1928—1930):
Я, ассенизатор
и водовоз,революцией
мобилизованный и призванный4
Итак, стремление к чистоте равно стремлению к добру. Тогда, конечно, всё, что мешает в этом стремлении, становится эквивалентом грязи, мусора. Показательно, что стражи идеологии нередко употребляли эту метафору в своей борьбе против инакомыслия. В своём знаменитом письме Правительству СССР от 28 марта 1930 года Михаил Булгаков отмечает, что о нём писали как о „литературно УБОРЩИКЕ”, подбирающем объедки после того, как „НАБЛЕВАЛА дюжина гостей”, или как о писателе, который „В ЗАЛЕЖАЛОМ МУСОРЕ шарит”.5 Все помнят, как Давид Заславский в «Правде» (27 окт. 1958 г.) написал о „Шумихе реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка” после выхода в свет «Доктора Живаго», тогда как Михаил Шолохов сравнил Бориса Пастернака со свиньёй, валяющейся в грязи.6
Все помнят, как Давид Заславский в «Правде» (27 окт. 1958 г.) написал о „Шумихе реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка” после выхода в свет «Доктора Живаго», тогда как Михаил Шолохов сравнил Бориса Пастернака со свиньёй, валяющейся в грязи.6 Тот же Шолохов в качестве великого ассенизатора советской литературы объяснит позже писателям, которые написали письмо в Президиум XXIII съезда КПСС в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, что „клевета — не критика, а грязь из лужи”.7
Тот же Шолохов в качестве великого ассенизатора советской литературы объяснит позже писателям, которые написали письмо в Президиум XXIII съезда КПСС в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, что „клевета — не критика, а грязь из лужи”.7 Таких примеров ругательств, включающих в себя идею нечистоты обвиняемого, к сожалению, много в истории советской литературы.
Таких примеров ругательств, включающих в себя идею нечистоты обвиняемого, к сожалению, много в истории советской литературы.
Как мы видим, вопрос о “чистом / нечистом” связан с проблемами морально-религиозного и, следовательно, в данном контексте политического характера. Но он связан и с проблемами эстетического характера. В русском авангарде он стоит даже в центре эстетических систем его главных представителей. И поэтому изучение этого вопроса позволяет показать, как вокруг него столкнулись две мощные системы и объяснить почему, во-первых, авангард потерпел поражение именно тогда, когда власть стала насильственно “очищать”, но и, во-вторых, почему он сразу воскрес, как только насилие и “ассенизаторы” исчезли.
Исторический авангард и чистота
Как мы вскоре убедимся, авангарду было свойственно по отношению к этой тематике амбивалентность, безусловно объяснимая с разных сторон, но загнавшая его в такой тупик, из которого он не мог (или не знал как) выбраться. Нет нужды останавливаться на причинах, по которым это произошло. Для нас важно выделить некоторые черты, позволяющие при анализе этой амбивалентности на ряде показательных примеров выявить точку пересечения порожденных авангардом различных систем, даже если эти системы представляются на первый взгляд не имеющими ничего общего. Для этого нужно уточнить еще один момент. Речь идёт о необходимости рассматривать категории “чистого” и “нечистого” (равно как и понятия, имеющие отношение к этим двум полюсам) не как две соперничающие парадигмы, а как составные единой парадигмы, выявляющейся то со знаком “+”, то со знаком “–”, что предполагает возможность каких угодно инверсий и поворотов.
Отнюдь не второстепенное противоречие авангарда состоит в том, что наряду с (подчас даже агрессивным) культом уродства, ошибки, нечистоты обыденной жизни, он развивал приёмы, ставящие целью посредством истинной или предполагаемой чистоты разработанных им различных художественных форм выработать обобщенное восприятие мира и найти для этого восприятия соответствующее художественное выражение. В действительности же, как мы далее сможем убедиться, это противоречие кажущееся, ибо все проистекало из общего для всех желания постичь за рамками этой новой эстетики смысл мира, который должен был единой формулой охватить оба знака парадигмы, положительный и отрицательный. Если обратиться к таким двум эмблематическим фигурам исторического авангарда, как Алексей Кручёных и Казимир Малевич, разрабатывавшим совершенно разные (во всяком случае, на первый взгляд) художественные приемы, то замечаешь, что оба исходили из того же замысла и достигли, как им казалось, в общем-то, схожих результатов.
В «Новых путях слова» (1913) Кручёных, излагая футуристическую программу, ставит во главу угла использование всевозможных неправильностей и ошибок (синтаксических, грамматических, семантических, лексических):
Наша цель подчеркнуть важное значение для искусства всех резкостей, несогласов (диссонансов) и чисто первобытной грубости.
8
Конечно, нужно понимать эти слова как отказ от обращенной в прошлое эстетики предшественников (в том числе символистов с их „сливочной тянучкой”9 ) и рассматривать их в контексте постоянной провокационности, характерной для первых манифестов. Но более того, неправильность речи была не только антибуржуазным эпатажем, она являла собой подлинный метод, позволявший придать миру перспективу, связанную одновременно и с первобытностью (до вмешательства разума), и с четвёртым измерением, понимаемым как измерение искусства („неправильная перспектива даёт новое 4-ое измерение”10
) и рассматривать их в контексте постоянной провокационности, характерной для первых манифестов. Но более того, неправильность речи была не только антибуржуазным эпатажем, она являла собой подлинный метод, позволявший придать миру перспективу, связанную одновременно и с первобытностью (до вмешательства разума), и с четвёртым измерением, понимаемым как измерение искусства („неправильная перспектива даёт новое 4-ое измерение”10 ). Таким образом, та “чистота”, против которой восстаёт Кручёных, в конце концов, оказывается лишь искусственной правильностью, выдуманной теми, кто всегда подчинял язык поэзии внепоэтической норме, идёт ли речь о гражданских мотивах XIX столетия или о метафизических — Серебряного века. До футуристов
). Таким образом, та “чистота”, против которой восстаёт Кручёных, в конце концов, оказывается лишь искусственной правильностью, выдуманной теми, кто всегда подчинял язык поэзии внепоэтической норме, идёт ли речь о гражданских мотивах XIX столетия или о метафизических — Серебряного века. До футуристов
делалось всё, чтобы заглушить первобытное чувство родного языка, чтобы вылупить из слова плодотворное зерно, оскопить его и пустить по миру как „
ясный чистый честный русский язык”, хотя это был уже не язык, а жалкий евнух, неспособный что-нибудь дать миру.
11
Программа же „беспорядка”, предложенная Кручёных, входит в более широкий замысел, который заключается в том, чтобы дать „движение и новое восприятие мира”, и поэтому „чем больше беспорядка, тем лучше”.
12
Если мы внимательно перечитаем манифесты и сочинения футуристов и попытаемся рассмотреть их в плане нашей темы, то заметим, что у футуристов в действительности было два типа чистоты. Первая из них — дурная чистота, чистота их предшественников во главе с символистами, т.е. чистота, выставляющая себя напоказ как таковую и являющаяся на самом деле лишь нормативным выражением так называемого Прекрасного, в сущности выдуманного и давно устаревшего. Другая же чистота, хорошая, правильная, лежит в основе нового художественного языка, свободного, “звёздного”, “заумного” и т.п. Беспорядок, о котором говорит Кручёных, это по сути дела тот беспорядок, что с грохотом ворвался в самую сердцевину той условной чистоты, которая в конечном итоге была не чем иным, как одной из разновидностей быта. Этот беспорядок необходим в истинно поэтическом действии в той мере, в какой он творит смысл. К тому же Велимир Хлебников в программной статье «Наша основа» (1919) отчётливо использует слово “чистый” в противовес слову “бытовой” (в связи с понятием “самовитого” слова):
Слово делится на чистое и на бытовое. ‹...›
Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли.13
Итак, носителем нечистоты является быт. Что касается неправильности речи, к которой во весь голос призывает Кручёных, то она является лишь переменой перспективы, которая приведёт впоследствии к изначальной (“самовитой”) чистоте всего мира. Во всяком случае, в «Нашей основе» Хлебников говорит о том же, воспевая опечатку:
Вы помните, какую иногда свободу от данного мира даёт опечатка. Такая опечатка, рождённая неосознанной волей наборщика, вдруг даёт смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику.14
Всё это позволяет объяснить ту лёгкость, с которой Кручёных сближает “заумь” с супрематической живописью в предисловии к «Вселенской войне» (1916):
Эти наклейки рождены тем же, что и заумный язык — освобождением твори от ненужных удобств (ярая беспредметность). Заумная живопись становится преобладающей. Раньше О. Розанова дала образцы ея, теперь разрабатывают ещё несколько художников, в том числе К. Малевич, Пуни и др., дав мало говорящее название: супрематизм.
Но меня радует победа живописи как таковой в пику прошлецам и газетшине (так! —
Ж.-Ф. Ж.) итальянцев.
Заумный язык (первым представителем коего являюсь я) подаёт руку заумной живописи.
15
Действительно, только на первый взгляд мало общего между практикой зауми у Кручёных, развиваемой в эту пору («Дыр, бул, щыл…»16 ), и опытом художника, почти тогда же пишущего свой «Чёрный квадрат» и заявляющего: „И вот я пришёл к чистым формам цвета”.17
), и опытом художника, почти тогда же пишущего свой «Чёрный квадрат» и заявляющего: „И вот я пришёл к чистым формам цвета”.17 А квадрат он объявил „первым шагом чистого творчества”, добавив затем: „До него были наивные уродства и копии натуры”.18
А квадрат он объявил „первым шагом чистого творчества”, добавив затем: „До него были наивные уродства и копии натуры”.18 Благодаря супрематизму, искусство, наконец, стало свободным в том смысле, что оно обрело собственную реальность, или — повторим ещё раз слово соратников-поэтов Малевича — стало “самовитым”:
Благодаря супрематизму, искусство, наконец, стало свободным в том смысле, что оно обрело собственную реальность, или — повторим ещё раз слово соратников-поэтов Малевича — стало “самовитым”:
Наш мир искусства стал новым, беспредметным,
чистым. Исчезло все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая форма.
В искусстве Супрематизма формы будут жить, как и все живые формы натуры.
19
Таким образом, на основании этих примеров можно утверждать, что, хотя с точки зрения художественного воплощения, творчество этих двух представителей авангарда имело между собой мало общего, оба они в своей деятельности исходили из одной и той же парадигмы. То, что перед этой парадигмой Кручёных ставит знак минус, а Малевич — плюс, не имеет никакого значения. Идёт ли речь о работе первого над диссонансами и даже об „анальной эротике”, столь характерной для русского языка с его изобилием звука К (порождавшим интересные „какальные” сдвиги заумного типа20 ), или о супрематическом эпюре второго, в котором свобода художественной формы становилась выражением всего сущего, — цель была одна: достичь такой степени чистоты, которая выходила бы за рамки предмета.
), или о супрематическом эпюре второго, в котором свобода художественной формы становилась выражением всего сущего, — цель была одна: достичь такой степени чистоты, которая выходила бы за рамки предмета.
Чистоты представления о предмете можно достичь, только отвлёкшись от него. Поэтому абстракция (“бес-предметность”) становится единственным художественным средством, позволяющим постичь мир в его целостности и в его бесконечности, а значит в его чистоте, поскольку не может быть и речи о пределах чистоты как во времени, так и в пространстве. С этой точки зрения всякий предмет становится нечистотой поэтического порядка, поскольку он устанавливает пределы (а именно те, которыми ограничен он сам) в том мире, который не должен был бы знать никаких пределов — мире художественного изображения.
Конец авангарда и пустота
Эта амбивалентность — чтобы не сказать двусмысленность — станет позднее ещё более ощутимой, когда авангард в силу внешних (исторических) и внутренних (поэтических и философских) причин, обсуждать которые мы в рамках этой статьи не будем, упрётся в ограниченность систем и приёмов, им самим выработанных.
21
Всякого, даже не вдумчивого читателя, у Хармса поражает вездесущность грязи, проникающей во все сферы жизни: мусорные вёдра, свалки, скопления пыли, плевки, падаль, рвота, крысы и тараканы; к этому следовало бы добавить оскорбления и насилия, которые также суть проявления великого разупорядочения мира. Все эти элементы в некоторой мере даже структурируют прозу писателя второго периода его творческого пути.
Грязь столь же материальна (отбросы), сколь и духовна (“грязные мысли”). Она проявляется в поведении персонажей, стилистике, орфографии, структуре текста. Мир есть „симфония”, как не без иронии гласит подзаголовок «Начала очень хорошего летнего дня», но симфония нового типа, в которой пьяница Харитон с „расстёгнутыми штанами” выкрикивает непристойности перед бабами, стоящими в очереди, мать трёт „хорошенькую девочку о кирпичную стену”, а мальчишка выкопал в плевательнице „какую-то гадость”.22 От помоек, где ослепший Абрам Демьянович шарит в поисках пищи, и его среди отбросов кусает крыса («История»23
От помоек, где ослепший Абрам Демьянович шарит в поисках пищи, и его среди отбросов кусает крыса («История»23 ), до дивана, под которым разлёгся и сосёт пыль „катерпиллер” Мишурин («Приключения катерпиллера»24
), до дивана, под которым разлёгся и сосёт пыль „катерпиллер” Мишурин («Приключения катерпиллера»24 ); от империи Александра Вильбердата, где старики, беременные женщины, дети, зародыши и экскременты в равной степени оскорбительны для „мирного населения” и тошнотворны для славного императора («Статья»25
); от империи Александра Вильбердата, где старики, беременные женщины, дети, зародыши и экскременты в равной степени оскорбительны для „мирного населения” и тошнотворны для славного императора («Статья»25 ) и до резни, устроенной маньяком, домогающимся реабилитации и объясняющим, почему он лизал лужи крови и испражнялся на свои жертвы («Реабилитация»26
) и до резни, устроенной маньяком, домогающимся реабилитации и объясняющим, почему он лизал лужи крови и испражнялся на свои жертвы («Реабилитация»26 ), — довольно примеров — все эти тексты Хармса дают образ огромной свалки, которую являет собой мир, — тот буквально отравленный мир, чей „син-фонизм” скорее сродни какофонии.27
), — довольно примеров — все эти тексты Хармса дают образ огромной свалки, которую являет собой мир, — тот буквально отравленный мир, чей „син-фонизм” скорее сродни какофонии.27
В самом деле, то видение действительности, которое передается прозой Хармса 30-х годов, основано на собирании всякой мерзости, больших и малых „гадостей”, что само по себе не уникально и не ново. Но зато особенно поразительно то, в какой степени этой тематике необходима ей противоположная: у Хармса нечистота всегда подана как отсутствие чистоты, более или менее тяжело переживаемое. Предметный мир пока лишён чистоты, но — очевидно — она должна воцариться, как только этот мир будет приведён в порядок — тот именно, что является порядком поэтическим (или порядком, чаемым поэтом, но в любом случае сообразным Высшему порядку). Эта мысль очень ярко выражена в письме Хармса к актрисе ТЮЗа Клавдии Пугачёвой от 16 октября 1933, когда поэт, несмотря на первый арест, ещё не впал окончательно в депрессию:
Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. ‹...›
Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечён этим и только об этом думаю.
28
Поэт, таким образом, выступает в качестве “творца мира” и утверждает, что если он тачает сапог (в качестве метафоры — предмет, сработанный подобно стихотворению), то ему неважно, будет ли тот удобен или прочен. Нужно только, чтобы „в нём был тот же порядок, что и во всем мире; чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от соприкосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил свою форму, остался бы тем же, чем был, остался бы чистым”. И Хармс продолжает:
Это та самая чистота, которая пронизывает всё искусство. Когда я пишу стихи, то самым главным кажется мне не идея, не содержание и не форма, и не туманное понятие “качество”, а нечто ещё более туманное и не понятное рационалистическому уму, но понятное мне и, надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна. Это —
чистота порядка.
29
Как можно понять из этих строк, нечистоте беспорядка мира поэт противопоставляет чистоту “поэтического порядка”, который он вносит в мир.
Мы видели, что у Малевича чистота художественной (беспредметной) формы является условием приближения (“интуитивного” приближения) к бесконечности реального мира. Представления Хармса примерно те же, с той лишь разницей, что он — может быть сильнее, чем кто бы то ни было, — страдал от сознания того, что такой подход, вероятно, невозможен. Он не раз пытался, как и его предшественники, создать некую эффективную систему. То, что он называл „цисфинитной логикой”, как раз и предусматривало выражение бесконечности прямой в круге, а бесконечности чисел — в ноле, т. е. бесконечности посредством конечной, но совершенной, а значит и чистой формы.30 Круг — „наиболее совершенная”, самая чистая фигура, и ноль (уже графически) ни в чём ей не уступает. Но Хармс не мог не видеть и не понимать опасности такого хода рассуждений. Там, где Малевич видел в „супрематическом нуле” своего рода ипостась Бога (правда, очень персонального Бога), Хармса вдруг охватил страх пустоты. Да ещё, как нарочно, ‘чистота’ рифмуется с ‘пустота’, как отметил поэт в том же 1933 году, когда написано было письмо к Пугачёвой:
Круг — „наиболее совершенная”, самая чистая фигура, и ноль (уже графически) ни в чём ей не уступает. Но Хармс не мог не видеть и не понимать опасности такого хода рассуждений. Там, где Малевич видел в „супрематическом нуле” своего рода ипостась Бога (правда, очень персонального Бога), Хармса вдруг охватил страх пустоты. Да ещё, как нарочно, ‘чистота’ рифмуется с ‘пустота’, как отметил поэт в том же 1933 году, когда написано было письмо к Пугачёвой:
Чистота близка к пустоте.
* * *
Не смешивай чистоту с пустотой.31
Очевидно, что у Хармса понятие “чистоты” и “бесконечности” близки до такой степени, что иногда совпадают. А бесконечность не поддается определению, и это делает её похожей в некотором роде на пустоту. Чтобы её как бы ухватить, писатель придумал следующий приём. Речь идёт о малом несовершенстве, именуемом „небольшой погрешностью” и делающим совершенство ощутимым. Если бы совершенное равновесие, в котором являет себя бесконечность мира, не нарушалось иногда какой-либо нечистотой, то оно оставалось бы недоступным человеку. На это ясно указывает в своих заметках друг Хармса философ Яков Друскин, быть может, более чем кто-либо, повлиявший на ход рассуждений поэта:
Некоторое равновесие не происходит и не возникает, не нарушается и не восстанавливается. Некоторое равновесие с небольшой погрешностью есть в видимом, в том, что происходит, небольшая погрешность равновесия есть видимость происхождения и времени, но само равновесие не во времени. Я же замечаю его как нарушение и восстановление, я замечаю небольшую погрешность. Оно открывается мне в нарушении, когда же восстанавливается, но только в видимости, потому что само не нарушается и не восстанавливается, но есть, тогда я ничего не вижу. Я наблюдаю восстановление равновесия как пустое, незаполненное время без событий.
32
Нет нужды далее распространяться о понятии „небольшая погрешность”,33 но ввести его в наше рассуждение о “чистом” и “нечистом” — необходимо. И действительно, из рассуждений Хармса и его поэтики в целом ясно следует, что для того, чтобы увидеть или, лучше говоря, показать бесконечное, необходима именно маленькая „погрешность” (по определению она нечто конечное, т.е. — иными словами — ограниченное во времени и в пространстве).34
но ввести его в наше рассуждение о “чистом” и “нечистом” — необходимо. И действительно, из рассуждений Хармса и его поэтики в целом ясно следует, что для того, чтобы увидеть или, лучше говоря, показать бесконечное, необходима именно маленькая „погрешность” (по определению она нечто конечное, т.е. — иными словами — ограниченное во времени и в пространстве).34 Всё это имеет целью ещё раз подчеркнуть неразрывную связь между “чистым” и “нечистым”. Ибо когда всё — грязное, человек объят ужасом, подобным тому метафизическому ужасу, что охватывает его перед бесконечным, т.е. когда всё — “чистое”.
Всё это имеет целью ещё раз подчеркнуть неразрывную связь между “чистым” и “нечистым”. Ибо когда всё — грязное, человек объят ужасом, подобным тому метафизическому ужасу, что охватывает его перед бесконечным, т.е. когда всё — “чистое”.
Безусловно, в окружении Хармса лучше всех это сумел выразить философ Леонид Липавский в его «Исследовании ужаса»,35 где чётко установлена взаимосвязь между ужасом, охватывающим человека при виде некоторых проявлений повседневности (отвращением), и тем ужасом, уже метафизического порядка, что порождается страхом пустоты. Этот философ, утверждающий, что „в основе ужаса лежит омерзение”, и что это омерзение „не вызвано ничем практически важным, оно эстетическое”,36
где чётко установлена взаимосвязь между ужасом, охватывающим человека при виде некоторых проявлений повседневности (отвращением), и тем ужасом, уже метафизического порядка, что порождается страхом пустоты. Этот философ, утверждающий, что „в основе ужаса лежит омерзение”, и что это омерзение „не вызвано ничем практически важным, оно эстетическое”,36 методически исследует объекты, вызывающие отвращение или страх: „ грязь, топь, жир, ‹...›, слизь, слюна (плевание, харканье), кровь, все продукты желез, в том числе семенная жидкость, вообще протоплазма”.37
методически исследует объекты, вызывающие отвращение или страх: „ грязь, топь, жир, ‹...›, слизь, слюна (плевание, харканье), кровь, все продукты желез, в том числе семенная жидкость, вообще протоплазма”.37 Страх перед ними он объясняет как „страх перед однородностью”. Однако, эта однородность, говорит он, — та же самая, что и однородность бесконечного, а бесконечное само описывается как порождающее ужас отсутствие времени. Действительно, в эссе Липавского описаны не только физические явления, вызывающие определённое отвращение, но также и тот страх, уже по существу — метафизический, что охватывает человека в жаркие полуденные часы, когда кажется, что время остановилось:
Страх перед ними он объясняет как „страх перед однородностью”. Однако, эта однородность, говорит он, — та же самая, что и однородность бесконечного, а бесконечное само описывается как порождающее ужас отсутствие времени. Действительно, в эссе Липавского описаны не только физические явления, вызывающие определённое отвращение, но также и тот страх, уже по существу — метафизический, что охватывает человека в жаркие полуденные часы, когда кажется, что время остановилось:
В жаркий летний день вы идёте по лугу или через редкий лес. Вы идёте, не думая ни о чём. Беззаботно летают бабочки, муравьи перебегают дорожку и косым полётом выпархивают кузнечики из-под носа. День стоит в своей высшей точке. ‹...›
Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас:
время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Каталепсия времени! Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мёртвое цветение кругом! Птица летит в небе, и с ужасом вы замечаете: полет её неподвижен. Стрекоза хватает мушку и отгрызает ей голову; и обе они, и стрекоза и мошка, совершенно неподвижны. Как же я не замечал до сих пор, что
в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде и будет во веки веков.
И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни — во веки веков.
38
Видно, что здесь тот же механизм, и в этом контексте становится трудно отличить то проявление нечистоты, что играет роль „небольшой погрешности” и связано с желанием показать бесконечное, оттого что есть лишь простое выражение непристойного характера быть в целом.39
Таким образом, перед нами то противоречие, что было изначально присуще системам изображений авангарда и которое, по-видимому, не может найти разрешения. С одной стороны, имеется такая нечистота, загрязнённость, которая свойственна быту и не даёт ни минуты покоя человеку в его метафизическом стремлении возвыситься до абсолютной чистоты посредством искусства, с другой — маленькая нечистота, „небольшая погрешность”, без которой чистота остаётся непостижимой…, как „белый квадрат на белом фоне”, когда оба цвета были бы совершенно неразличимы.40
Это противоречие не было ощутимо в первые годы авангарда, когда заумь или супрематизм могли, казалось, торжествовать победу. Позднее, в тридцатые годы, как это становится ясным из творчества Хармса второй половины его литературной жизни, „небольшая погрешность” становится большой, нечистота (в широком смысле этого слова, включающем все проявления скотства „человеческого стада”) охватывает все сферы жизни, включая и область художественного творчества.
Революция и ассенизация
До сих пор мы рассуждали исключительно в терминах эстетических категорий, но в той же степени интересно (принимая во внимание годы, в которые жили рассматриваемые авторы) перевести разговор в более общий идеологический контекст, а стало быть, вернуться к моральному аспекту, часто вкладываемому в понятие чистоты или, говоря более заземлённо, чистоплотности.
Если выразить то, о чем мы говорили до сих пор, совершенно схематично, то это будет выглядеть так. Если в действительности авангарду и не удалось достичь поставленных им перед собой целей — разработать интегрирующие системы восприятия и репрезентации мира (как и раньше, вопрос этот остаётся спорным), то по крайней мере он сумел выявить обязательное наличие двух противоположных выражений единой парадигмы. Так, всякая положительная величина (+1) воспринимается лишь при условии существования равносильной ей отрицательной величины (–1), причём оба выражения сходятся в одной центральной точке — нуле, совершенном средоточии Вселенной. В соответствии с той же схемой “бесконечное” (= чистота) воспринимается только при условии, что равносильное ему “конечное” (= нечистота, „небольшая погрешность”) действует одновременно с ним, и что оба объединены единой формой, превосходящей и то, и другое и являющейся (по выражению Хармса) „чистотой порядка”. Если перенести этот ход рассуждений на сферу морали, то придём к следующему, правда несколько банальному, выводу: не будь Зла, Добро не воспринималось бы. При всей банальности этот вывод ставит под сомнение всякую попытку борьбы со Злом, ставящую целью его уничтожение, что свойственно каждой „религии” (в широком смысле этого слова, как мы далее увидим) и любой системе морали.
Интересно оценить политическую систему, установившуюся в октябре 1917 года в свете некоторых размышлений и пронзительной прозорливости Евгения Замятина, который первым почувствовал религиозный характер социалистической морали большевистского толка… Назвать творчество Замятина, развивавшееся в атмосфере повальной стандартизации (в том числе и эстетической) еретическим — значит повторить избитую истину. В 1921 году он закончил свой очерк «Я боюсь» так:
Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребёнка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что
настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если не излечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: её прошлое.
41
Если рассмотреть эти слова в контексте изложенного выше, то легко понять, что “ересь” Замятина в определённой степени близка диссонансам Кручёных, опечаткам Хлебникова, а также „небольшой погрешности” Хармса. Это творческая разновидность нечистоты, которая проникает в чистый мир, заявляющий о себе, что он чист, и которая, стало быть, обнаруживает застылость и неподвижность этого мира. Чистота же на самом деле бесплодна: это мёртвое место, как все утопии, которые, будучи якобы совершенными, выдают себя за окончательные и бесконечные. Ересь — это „нет”, высказанное вслух в День Единогласия в романе «Мы» (1921), это заново изобретённое движение, это позиция истинной литературы.
С этой точки зрения «Великий Ассенизатор» (1918) даёт прекрасную метафору. Замятин, по существу, говорит, что „революция очищает”. Она — синоним тотальной (тоталитарной) ассенизации. „В ассенизации всё, и от неё все качества”.42 Но Великий Ассенизатор, поэт чистоты „в круглом кожаном фартуке”, трудясь над совершенствованием установленного им порядка, сам становится вместилищем грязи, „и скоро от него пошёл такой дух, что чиновники, не совсем безносые, переводились подальше”.43
Но Великий Ассенизатор, поэт чистоты „в круглом кожаном фартуке”, трудясь над совершенствованием установленного им порядка, сам становится вместилищем грязи, „и скоро от него пошёл такой дух, что чиновники, не совсем безносые, переводились подальше”.43 И когда, после отстранения от должности, он возрождается и оказывается уже во главе всей России, то он, „самоотверженный ассенизатор все глубже пропитывается запахом ассенизационного материала”, да так крепко, что „всё слышней знакомый дух охранки и жандарма”.44
И когда, после отстранения от должности, он возрождается и оказывается уже во главе всей России, то он, „самоотверженный ассенизатор все глубже пропитывается запахом ассенизационного материала”, да так крепко, что „всё слышней знакомый дух охранки и жандарма”.44
Мечта Великого Ассенизатора, как мы видим, утопична. Действительно, новый порядок является как бы Добром, которое должно было бы успешно утвердиться в отсутствие его противоположности — Зла. Но последовавшее зловоние свидетельствует о провале замысла. Проводя систематическую “чистку”, служители чистоты, в конце концов, сами вбирают в себя всю нечистую силу…
Та же метафора развита в маленьком рассказе 1918 года «Хряпало», монстр-герой которого жрёт всё, что находится на его пути, и своими испражнениями загаживает всю землю ярославскую: „где не пройдёт Хряпало — пусто, и только сзади него останется — помёт сугробами”.45 Но у этой ипостаси революционера-ассенизатора есть ещё одна характеристика: он „всё прямо прёт, невозможно ему оборачиваться”, и поэтому ярославскому народу остаётся только спрятаться за ним: „не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато — верное дело”.46
Но у этой ипостаси революционера-ассенизатора есть ещё одна характеристика: он „всё прямо прёт, невозможно ему оборачиваться”, и поэтому ярославскому народу остаётся только спрятаться за ним: „не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато — верное дело”.46
Понятно, что будущее не опровергло замятинские аллегории (даже если „жирная земля стала плодородная от помёта, урожай будет хороший”47 ), но следует также заметить, что писатель был прав не только в политическом плане, но и указал на проблемы, которые авангарду разрешить не удалось.
), но следует также заметить, что писатель был прав не только в политическом плане, но и указал на проблемы, которые авангарду разрешить не удалось.
Разумеется, в искании чистоты миропорядка следует противопоставить понятие „маленькой погрешности” (= нечистоты) и её последствий понятию оздоровления идеологического, т.е. морального и религиозного типа (тому самому „католицизму”, по слову Замятина), которое присуще революции, выдающей себя за последнюю (см. в романе «Мы» „Запись 30-ая” о „последнем числе”48 ). Напомним, что в поисках бесконечного (вечного) нечистота является элементом, необходимым для обнаружения мира во всей полноте и чистоте, пусть даже методом от противного. Но, с другой стороны, необходимо отметить опасность этой утопической мечты, очень хорошо предугаданную Замятиным: нечистота может занять больше места, чем можно было ожидать, и, в конечном счёте, подавить всякое стремление к чистоте, к совершенству.
). Напомним, что в поисках бесконечного (вечного) нечистота является элементом, необходимым для обнаружения мира во всей полноте и чистоте, пусть даже методом от противного. Но, с другой стороны, необходимо отметить опасность этой утопической мечты, очень хорошо предугаданную Замятиным: нечистота может занять больше места, чем можно было ожидать, и, в конечном счёте, подавить всякое стремление к чистоте, к совершенству.
Проще говоря, между квадратом Малевича и мусорными баками Хармса пролёг 1917 год…
* * *
Таким образом, основываясь на одной и той же системе понятий, можно утверждать, что нечистота, которую представляет собой всякое в широком смысле слова инакомыслие в контексте якобы совершенного законопорядка, каков бы он ни был (а России кое-что известно на этот счёт), гарантировала неостановимое движение мысли в идеологическом и, естественно, художественном и литературном процессе.
Действительно, всё, что мы видели, позволяет нам нарисовать довольно удивительную картину всего советского периода, поскольку всё, что кажется априори положительным в политико-морально-религиозной системе, совершенно симметрично становится отрицательным в области эстетики. И действительно, если резюмировать выше сказанное, то получается:
1) Чистота влечёт за собой ассенизацию, как её описал Замятин, а затем сталинские чистки. На эстетическом уровне результат известен: приведение к повиновению, выражающееся нормативными, псевдоклассическими художественными формами, положительными героями (чистые сердца революции) и т.д. Всё это кончается полной неподвижностью (эстетической и социальной) и философской пустотой.
2) Нечистота обозначает собой нарушение равновесия, которое гарантирует движение. Это замятинская ересь на политико-религиозном уровне, с которой совпадает на эстетическом уровне небольшая погрешность Хармса. Позже нечистое (с точки зрения правительства) слово диссидентов будет ферментом выхода из советской неподвижности и пустоты. А что касается эстетических форм, то как только будет возможно, они выйдут из ящика и свяжутся, прежде всего, с тем историческим авангардом, который ассенизаторы пытались уничтожить.
И если сегодня оглянуться и подвести итоги советской (официальной, конечно) культуры, то можно сказать, что главная её заслуга заключается в том, что она показала (против своей воли, конечно), что насильственно ориентировать сверху литературный процесс невозможно.
——————————————
Примечания *
* Статья написана на основе доклада, прочитанного в 1998 г. в Польской Академии Наук в Варшаве на конференции «Утопия чистоты и горы мусора». Текст доклада см.: “Чистое” / “нечистое” в русском авангарде // Utopia czystoњci i góry mieci — Утопия чистоты и горы мусора / Сост. R. Bobryk, J. Faryno // Studia litteraria polono-slavica №4. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1999. C. 271–284.
 1 Кабаков И
1 Кабаков И. Мусор. Очищение как перпетуум-мобиле // Новое время. 1997. № 17–18. С. 52. См. также в:
Кабаков И., Гройс Б. Диалоги.
М.: Ad Marginem, 1999. С. 106.
 2 Маяковский В
2 Маяковский В. Наш марш // Маяковский В. Собр. соч.: В 12 т.
М.: Правда, 1978. Т. 1. С. 170.
 3 Маяковский В
3 Маяковский В. Собр. соч. Т. 10. С. 394.
 4 Маяковский В
4 Маяковский В. Собр. соч. Т. 6. С. 175.
 5 Булгаков М
5 Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т.
М.: Художественная литература, 1990. Т. 5. С. 444.
 6
6 А в резолюции «Голос московских писателей», просивших лишить „
предателя Б. Пастернака советского гражданства”, сказано, что „
враг святого для каждого из нас” написал „грязный пасквиль”. Цит. по: Ивинская О. В плену времени. Paris: Fayard, 1978. С. 278 (Выделено мной. —
Ж.-Ф. Ж.). Отметим, что грязь становится эквивалентом предательства, причем нередко с библейским оттенком; см. карикатуру на Пастернака с надписью «Иуда — вон из СССР!»; слова К. Зелинского: „…иди, получай свои тридцать Серебренников”; слова Б. Полевого: „Литературный Власов” (Там же. С. 244, 274, 277).
 7
7 Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля / Сост. А. Гинзбург.
Frankfurt a/Main: Posev, 1967. С. 389.
 8 Кручёных А
8 Кручёных А. Новые пути слова // Трое. СПб., 1913. Цит. по.: Манифесты русских футуристов. München: Wilhelm Fink Verlag, 1967. С. 70.
 9 Кручёных А., Хлебников В.
9 Кручёных А., Хлебников В. Слово как таковое. СПб., 1913. Цит. по: Литературные манифесты. От символизма к Октябрю.
München: Wilhelm Fink Verlag, 1969. Т. 1. С. 81.
 10 Кручёных А
10 Кручёных А. Новые пути слова. С. 68.
 11
11 Там же. С. 65.
 12
12 Там же. С. 68.
 13 Хлебников В
13 Хлебников В. Творения.
М.: Советский писатель, 1986. С. 624.
 14
14 Там же. С. 627.
 15 Кручёных А
15 Кручёных А. Вселенская война. СПб., 1916. Без паг.
 16 Кручёных А
16 Кручёных А. Помада.
М.: Изд. Г.Л. Кузьмина и С.Д. Долинина, 1913. Цит. по:
Кручёных А. Избранное.
München: Wilhelm Fink Verlag, 1973. С. 75.
 17 Малевич К
17 Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму (Новый живописный реализм). М., 1916. С. 28 (Выделено мной. —
Ж.-Ф. Ж.).
 18
18 Там же.
 19
19 Там же (Выделено мной. —
Ж.-Ф. Ж.).
 20
20 См.:
Кручёных А. Малахолия в капоте / Рис. К. Зданевича. Тифлис, 1919 (Репринт в: Избранное. С. 257–277). См. также:
Терентьев И., Кручёных А. Разговор о «Малахолии в капоте» //
Кручёных А. Ожирение роз. О стихах Терентьева и др. Тифлис, 1918 (Переизд. в:
Терентьев И. Собр. соч. // Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici. № 7.
Bologna: Universitа degli Studi di Venezia, 1988. С. 417).
 21
21 Об этом см.:
Jaccard J.-Ph. Daniil Harms et la fin de l’avant-garde russe.
Bern: Peter Lang, 1991 (по-рус.:
Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда.
СПб.: Академический проект, 1995).
 22 Хармс Д
22 Хармс Д. ПСС: В 3 т.
СПб.: Академический проект, 1997. Т. 2. С. 358–359.
 23
23 Там же. С. 72–73.
 24
24 Там же. С. 154–155.
 25 Хармс Д
25 Хармс Д. Горло бредит бритвой (случаи, рассказы, дневниковые записи) // Глагол. 1991. Вып. 4. С. 54–60.
 26 Хармс Д
26 Хармс Д. ПСС. Т. 2. С. 160–161.
 27
27 См. ещё „случай” «Синфония (так! —
Ж.-Ф. Ж.) №2». Там же. С. 159–160.
 28 Хармс Д
28 Хармс Д. Полет в небеса.
Л.: Советский писатель, 1988. С. 482.
 29
29 Там же. С. 483. Выделено Хармсом.
 30
30 По этому поводу см., например, маленькие трактаты «О круге», «Нуль и ноль» (в:
Хармс Д. ПСС. Т. 2. С. 312–315), а также комментарии к ним в моей книге (см. прим. 21), гл. 2.
 31
31 Дневниковые записи Даниила Хармса // Минувшее. 1991. № 11. С. 474.
 32 Друскин Я
32 Друскин Я. Дневники.
СПб.: Академический проект, 1999. С. 70.
 33
33 По этому поводу см.:
Jaccard J.-Ph. De la réalité au texte. L’absurde chez Daniil Harms // Cahiers du monde russe et soviétique. 1985. № 26 (3–4). С. 493–522, а также 3 гл. моей книги (см. прим. 21).
 34
34 Любопытно сравнить эту идею с рассуждениями Ю. Тынянова об оде в статье «Ода как ораторский жанр» (1922): „Задания выразительной речи не совпадают с понятием “совершенства”: не благозвучие, а воздействующая система звуков; не приятность эстетического факта, а динамика его; не “совершенная равность”, но красота с пороками”. И он добавляет: „Особую конструктивную роль получают в оде “пороки”: основная установка оправдывает их средство разнообразия” (цит. по:
Тынянов Ю. Архaисты и новаторы.
München: Wilhelm Fink Verlag, 1967. С. 68).
 35 Липавский Л
35 Липавский Л. Исследование ужаса // „…Сборище друзей, оставленных судьбою”: А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. “Чинари” в текстах, документах и исследованиях. [М., 1998]. Т. 1. С. 76–92.
 36
36 Там же. С. 88.
 37
37 Там же. С. 84.
 38
38 Там же. С. 78 (Выделено мной. —
Ж.-Ф. Ж).
 39
39 Об этом см.:
Jaccard J.-Ph. Страшная бесконечность Леонида Липавского // Wiener Slawistischer Almanach. 1991. № 27. С. 229–232;
Его же: L’impossible éternité. Réflexions sur le problème de la sexualité dans l’œuvre de Daniil Harms // Amour et sexualité dans la littérature russe du XXème siècle / L. Heller (éd.).
Bern: Peter Lang, 1991. P. 214–221, а также 3 гл. моей книги (см. прим. 21).
 40
40 Об этом см. мою статью «Возвышенное в творчестве Даниила Хармса»: Wiener Slawistischer Almanach. 1994. Bd. 34. S. 61–80.
 41 Замятин Е
41 Замятин Е. Сочинения.
München: A. Neimanis Verlag, 1988. Т. 4. С. 255 (Выделено мной. —
Ж.-Ф. Ж).
 42
42 Там же. С. 554.
 43
43 Там же.
 44
44 Там же.
 45 Замятин Е
45 Замятин Е. Сочинения. Т. 3. 1986. С. 90 (Выделено мной. —
Ж.-Ф. Ж).
 46
46 Там же.
 47
47 Там же.
 48
48 Там же. С. 224–226.
Воспроизведено по авторской электронной версии


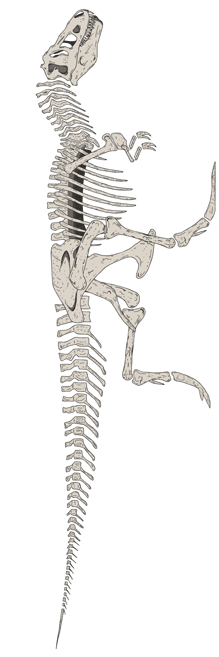
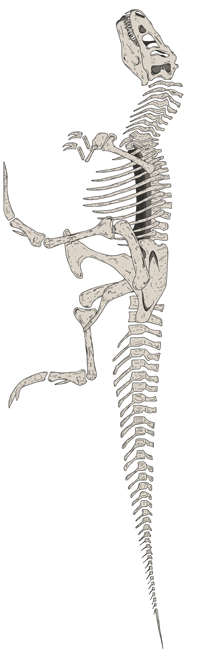 едавно Илья Кабаков заявил, что „чистота никогда окончательно не побеждает, а грязь и мусор продолжают оставаться постоянным фактором нашей жизни. Это особенно характерно для нашей русской жизни”. И художник добавляет: „Мусор у нас — это синоним существования, поскольку нет никакого смысла что-то расчищать и строить, если всё превратится в мусор”.1
едавно Илья Кабаков заявил, что „чистота никогда окончательно не побеждает, а грязь и мусор продолжают оставаться постоянным фактором нашей жизни. Это особенно характерно для нашей русской жизни”. И художник добавляет: „Мусор у нас — это синоним существования, поскольку нет никакого смысла что-то расчищать и строить, если всё превратится в мусор”.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()