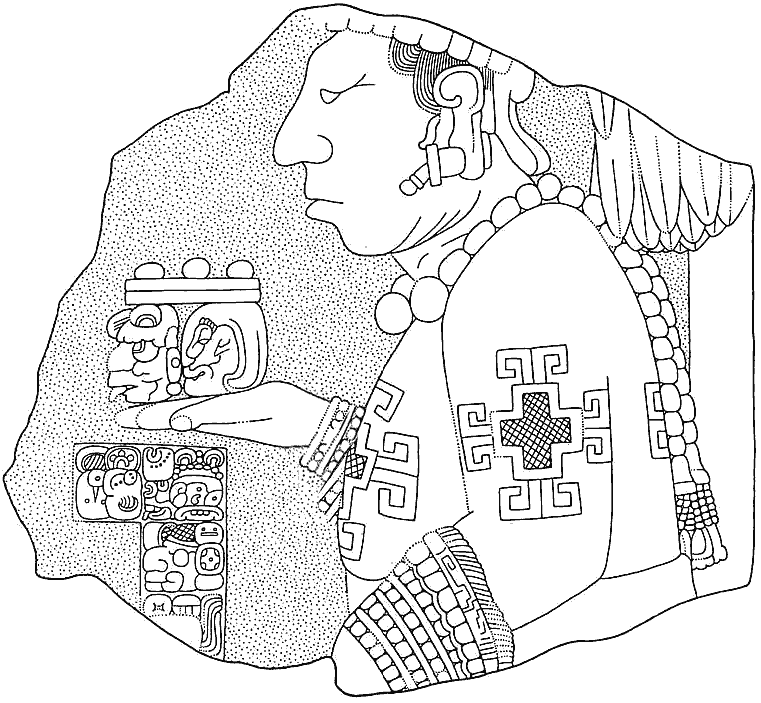
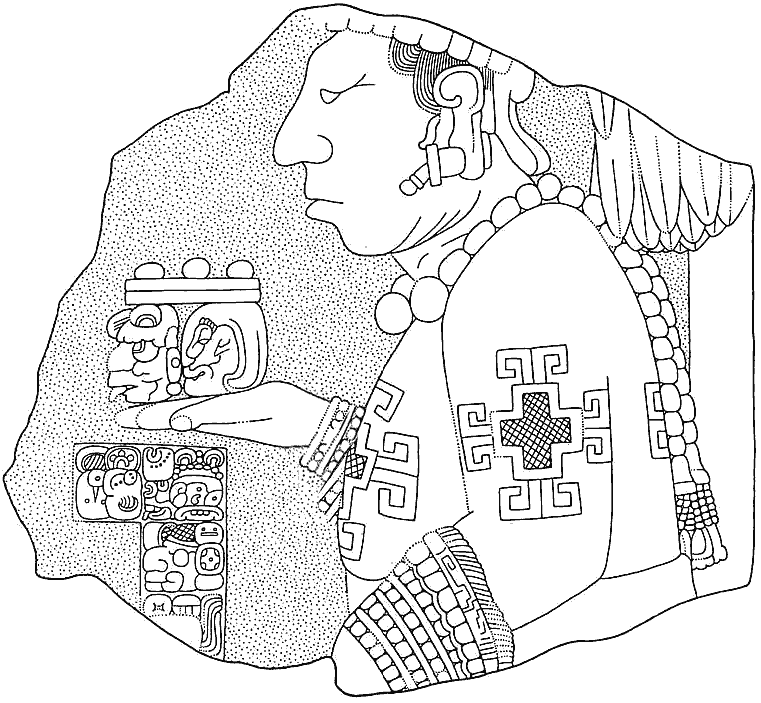
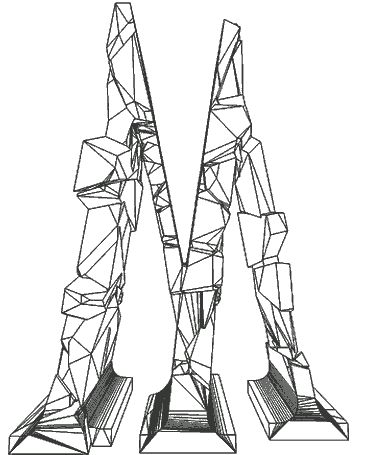 ногозначность слова “абсурд” весьма усложняет любые попытки обобщения. Когда мы говорим об абсурде, то почти всегда на первых порах думаем о философском абсурде, корни которого восходят довольно далеко, к проявлениям кризиса мысли в XIX веке (Шопенгауэр, Ницше), и который нас приводит, прежде всего, к Альберу Камю. Камю видит абсурд в трагической связи, которая соединяет человека с миром, остающимся для него непонятным и противопоставляющим ему „бессмысленное молчание” Бога (см. «Миф о Сизифе»). Это составляет, безусловно, одну из основ абсурда — такого, каким он отражается в литературе XX века после кризиса исторического авангарда и, в частности, в “театре абсурда” (Esslin 1977). У Даниила Хармса это проявляется совершенно очевидным образом: во всех его прозаических текстах 1930-х годов тем или иным способом всплывает чувство разрыва между героем и миром — разрыва, великолепно выраженного в следующих двух фразах: „Я мир. А мир не я” (Хармс 1997, 2: 309).
ногозначность слова “абсурд” весьма усложняет любые попытки обобщения. Когда мы говорим об абсурде, то почти всегда на первых порах думаем о философском абсурде, корни которого восходят довольно далеко, к проявлениям кризиса мысли в XIX веке (Шопенгауэр, Ницше), и который нас приводит, прежде всего, к Альберу Камю. Камю видит абсурд в трагической связи, которая соединяет человека с миром, остающимся для него непонятным и противопоставляющим ему „бессмысленное молчание” Бога (см. «Миф о Сизифе»). Это составляет, безусловно, одну из основ абсурда — такого, каким он отражается в литературе XX века после кризиса исторического авангарда и, в частности, в “театре абсурда” (Esslin 1977). У Даниила Хармса это проявляется совершенно очевидным образом: во всех его прозаических текстах 1930-х годов тем или иным способом всплывает чувство разрыва между героем и миром — разрыва, великолепно выраженного в следующих двух фразах: „Я мир. А мир не я” (Хармс 1997, 2: 309).Что же произошло?
А произошло следующее: этот „цисфинитный ноль”, который должен был стать чем-то вроде бесконечного настоящего, оказался на самом деле просто точкой перехода, совершенно безвременнòй и, соответственно, без собственного существования, зажатой между бесконечностью прошлого, которого уже нет, и бесконечностью будущего, которого ещё нет. В противоположность тому, что думал Хармс (например, в трактате «О времени, о пространстве, о существовании»; Хармс 2001: 304–308), встреча этих двух разных несуществующих бесконечностей не могла создать нечто существующее. И эта великая пустота и является уделом абсурдного человека. Введенский описывает это ещё прозрачнее, когда он утверждает в «Серой тетради»:
В этих стихах проявляется процесс распада на составные части, возврата к нулевой точке, который мы уже несколько раз наблюдали. Но в данном случае категория, которая распадается на отдельные части, необычна, поскольку речь идёт о времени. Разлагая час таким образом, чтобы свести его к самой маленькой единице, поэт стремится всё к тому же нулю, который и в самом деле является бесконечно малой частицей настоящего, то есть частицей ближайшей и неорганизованной реальности. Итак, реальность есть „бесконечное небытие”. Это не логика конечного (будь конечное восьмушкой часа или целым часом — безразлично) и не логика бесконечного (недоступного по определению), но логика цисконечного, то есть непосредственной реальности, помещающей “я” в настоящее, равное нулю и вечно обновляющееся.
Крах этой системы, полной оптимизма, приведёт к радикальному изменению поэтики писателя, и второму периоду его пути соответствует то, что можно назвать (со всей подобающей осторожностью) “абсурдным периодом Хармса”. Одной из наиболее характерных черт этого изменения является постепенный переход от поэзии к прозе (об этом см. Jaccard 1995). Или, чтобы быть точнее: его поэзия (очень редко встречающаяся во второй половине 1930-х годов) превращается в выражение ужаса перед условиями существования абсурдного человека. Но этот человек и есть сам Хармс, и здесь мы оказываемся в категории философского абсурда, описанного Камю: это и есть причина, по которой стихи Хармса приобретают, в основном, форму молитв и безнадёжных жалоб, тональность которых та же, что и в личных записных книжках его того же периода. Во всяком случае, становится ясно, что характеристики поэтики абсурда следует искать не здесь.
Зато эти поиски можно осуществить в его прозе. И здесь опять можно констатировать, что определение этой поэтики обеспечивается анализом категории времени. Как уже было сказано, этот ноль, в который Хармсом было вложено столько надежд, оказался ужасающей пустотой, которая является не чем иным, как смертью. Смерть — это единственная существующая бесконечность и, значит, единственный „Cisfinitum”. Эксперимент с „Цисфинитумом” привёл лишь к дроблению времени на части (каждая из которых станет маленькой смертью) и разрушению его линейности. Введенский отлично выразил эту мысль в «Серой тетради»:
Чувство абсурда также рождается из этой трагической альтернативы: смерть („остановка времени”; „больше не будет времени”) или же раздробленное и лишённое линейности время, где каждое мгновение существует лишь для себя, то есть без определённого „порядка”, как деревья в лесу, по определению Друскина (Друскин 2000, гл. «О деревьях»), или, скорее, пытается существовать. Именно это восприятие времени очень сильно повлияло на повествовательную прозу Хармса. Самое впечатляющее проявление этого влияния — это уничтожение причинно-следственных связей. Отсутствие этих связей было возможно в поэзии. Иногда это даже было одно из требований, выдвигаемых „левым искусством”, на чём особенно настаивал Введенский в той же самой «Серой тетради», где, говоря о глаголах, он достаточно чётко объясняет влияние, которое может оказать его восприятие времени на его собственное письмо:
Мы видим, что этот принцип, о котором упоминает Введенский, убедителен в художественном плане — так же, как и его пример. Но, как он сам констатирует, и само понятие нарративности отходит в прошлое. В самом деле, для рассказа о каком-либо событии обязательно требуется определённое взаимоотношение со временем. Эти взаимоотношения (как мы увидим далее) усложняются из-за того, что во всяком повествовании требуется наличие двух видов времени, как это нам известно ещё с эпохи формалистов: “фабульного” и “повествовательного” (“erzählte Zeit”/“Erzählzeit”; “temps de l’histoire”/“temps du récit”).
Мы здесь встречаемся с неким “несобытием”, скрытым в обличье обычного начала повествования. То, что в эстетической системе Хармса можно назвать “симфонией” (здесь мы следуем значению, вкладываемому в этот термин самим автором), на самом деле является аккумуляцией маленьких “встреч”, начал повествования, которое никак не может получить статус настоящего повествования, давая таким образом хаотическую картину мира (о визуальном аспекте этого хаоса см. Жаккар 1998).
Немало текстов Хармса построено по такому широко прокомментированному принципу: «Начало очень хорошего летнего дня», подзаголовком которого служит термин “симфония” (“симфония” здесь воплощает в себе пространственное противопоставление начал событий), «Синфония [sic] №2» (в которой развитие повествования резко обрывается и представляет собой прерывистую цепочку звеньев, никак не связанных друг с другом), «Случаи» (где персонажи умирают, ещё не успев войти в пространство текста) и многое другое. Понятие “синфония” прекрасно выражено в следующей записке Хармса 1934-1935 годов:
Особенно интересно отметить, что в некоторых случаях каждый фрагмент “симфонии” пронумерован, что можно рассматривать как отражение текста в самом себе или же как метаописание. Это имеет место в таких произведениях, как «Связь», «Пять неоконченных повествований». Название последнего говорит само за себя: это пять безнадежных попыток повествования быть осуществлёнными, но каждый раз оно возвращается в ноль-точку, то есть в небытие, от которой оно пыталось отдалиться. Таким образом, нам ничего по сути дела не рассказывается, так как рассказывать, по сути дела, нечего.
Эта констатация позволяет объяснить тот факт, что «Голубая тетрадь №10» (о рыжем человеке, у которого ничего не было, так что непонятно, о ком идёт речь, и лучше о нём замолчать) стала эмблемой такого рода поэтики: больше нет темы, больше нет фабулы, больше нет сюжета, больше даже нет персонажа и так далее. Однако, когда уже кажется, что больше ничего нет, мы начинаем замечать то, что остаётся, а именно: — сам текст! И это нас приводит к обсуждению важнейшей проблемы — автореференциальности текстов Хармса.
Этот текст, который хотя и начинается традиционным „однажды”, обещающим дальнейшее повествование, не в состоянии произвести никакую фабулу: либо потому, что это неинтересно или скучно, либо потому, что персонаж слишком вялый, либо, наконец, из-за непоследовательности последнего, которая вынуждает его к действиям, какие можно назвать “абсурдными” в обычном смысле слова, то есть нелепыми. По этой причине данный текст тоже можно считать нагромождением зачинов, даже если всё время речь идёт об одном и том же единственном персонаже. Однако текст сам создаёт (здесь — на фонетическом уровне) необходимую связь между героем Гвоздиковым и единственным законченным действием, самым абсурдным из всех — забиванием гвоздей в рояль. Этот приём далеко не нов. Достаточно вспомнить гоголевского Пирогова, который спасался от тоски, съедая два слоёных пирожка, и многие другие случаи “словесной маски”, которыми испещрены произведения великого писателя-классика и которые так удачно описаны Борисом Эйхенбаумом. Однако фундаментальное нововведение в текстах Хармса — это отсутствие всего прочего. Автореференциальность берёт верх над всем остальным. Уничтожая все элементы повествования, которые в принципе создают повествование, Хармс в конечном счёте даёт понять совершенно другое: как именно он пишет тексты, которые мы читаем. По этой причине мы всегда можем найти в текстах Хармса обнажение приёма. В рассказе о Пете Гвоздикове это было определённое использование ономастики, но это всего лишь небольшой пример.
Если вернуться к двум вышеупомянутым типам времени (“фабульное время” и „повествовательное время”), то можно подойти к некоторым текстам Хармса под совершенно новым углом зрения — особенно к текстам, в которых рассказывается о падении. Падение — само по себе красивая, впрочем, довольно мрачная метафора сближения с ноль-точкой, которое завершается, как правило, довольно худо, и метафора ускорения времени, вплоть до его упразднения („каждый имеет только секунду смерти”; „и времени больше не будет”). Но это — время философское. Упоминание падения равным образом вводит и употребление времени как художественной категории.
Хорошо известный „случай” «Вываливающиеся старухи» начинается фразой: „Одна старуха, от чрезмерного любопытства, вывалилась из окна, упала и разбилась”. Мы отдаём себе отчёт, что в этой фразе два времени находятся в прекрасном соответствии: падение (фабульное время) длится столько же, сколько и время повествования о падении (повествовательное время).
Совсем иная ситуация имеет место в рассказе 1940-го «Упадание (Вблизи и вдали)», о котором Александр Кобринский совершенно верно пишет, что это „вершина опытов Хармса с художественным временем” (Кобринский 1999, 2: 22), в котором два человека с предельной замедленностью падают с крыши (подобно распространённому приёму в кинематографе, как весьма хорошо показал петербургский исследователь):
Совершенно ясно, повторяю, что несоответствие двух времён можно найти во всех видах повествований (рассказах, повестях, романах): можно довольно легко втиснуть 1920 лет в одну страницу или 1 час растянуть на 200 страниц, и понятно, что случай с «Вываливающимися старухами» весьма специфический. Однако природа происходящего в этом тексте совершенно иная. Действительно, если повествовательное время растягивается и более не соответствует фабульному времени (как в рассказе «Вываливающиеся старухи»), то можно констатировать, что оба вида времени разделяются до такой степени, что появляется новое фабульное время. Поясняю: если бы длина текста зависела от отступлений — описания дома или возвращения к прошлому этих людей, либо если бы это был обрамленный рассказ, — то мы имели бы дело с обычным повествованием. Однако здесь персонажи (причём один из них сам является рассказчиком), которые находятся в противоположном здании, успевают произвести невероятное количество действий, а внизу успевает собраться целая толпа, и милиционер отнюдь не вынужден торопиться, чтобы поспеть к месту происшествия вовремя. Таким образом, наряду с двумя местами действия (то есть оба здания) у нас имеются и два фабульных времени, каждое из которых имеет и свое повествовательное время. Более того, несоответствие двух типов времени в одном случае противоположно другому: рассказ о падении много длиннее, чем само падение, тогда как в противоположном здании рассказ о деятельности различных персонажей много короче, чем предполагаемая длительность этой деятельности. „Гетерохронность” (термин Кобринского) усиливается ещё и тем, что под своей подписью и над датой Хармс уточнил: „Писано четыре дня”.
Эта весьма выразительная „гетерохронность” должна нас заставить задаться вопросом, о чём в самом деле идёт речь в этом тексте. Мне кажется, что Хармс прежде всего — скорее, чем падение двух персонажей и чем истерику обеих Ид Марковен и всей остальной толпы, — описывает здесь фундаментальную проблему поэтики. Повторяю ещё раз, что это не ново: когда Гоголь начинает рассказ «Иван Федорович Шпонька и его тётушка» словами „С этой историей случилась история”, он не совершает ничего иного (Jaccard 1988): смысл слова ‘история’ относится к фабульному времени в первом случае, тогда как во втором — к повествовательному. Всё это вписывается в общую автореференциальную тенденцию литературы, которой невозможно избежать и без которой литература не могла бы существовать. Однако у Хармса мы наблюдаем решительную радикализацию, соединенную с той самой тенденцией обнажения приёма, которую мы видим в «Упадании». Поэтому можно сказать, что в этом тексте, как и в «Вываливающихся старухах», Хармс ведёт речь о проблеме времени в прозаических текстах. И не только времени вообще, но и всех приёмов, которые с ним связаны: причинно-следственные связи, замедление, затяжка и т.д.
Можно обобщить, сказав, что в конечном счёте то, о чём повествуется в текстах Хармса, является не столько историей персонажа или событиями, с ним связанными (ср. у Введенского: „события не совпадают со временем”, „время съело событие”; „Всё разлагается на последние смертные части. Время поедает мир”; Введенский 1993: 84), сколько историей самого текста, и это находится в идеальном соответствии: повествование переместилось с фабулы, то есть с истории, которая рассказывается и которая (как мы уже видели) не может существовать, на историю истории („С этой историей случилась история”); иначе говоря — от повествования к “метаповествованию”, и второе полностью замещает первое.
Завершая, мне хотелось бы добавить, что предпосылки этого краха существовали уже довольно давно, возможно, даже с самого начала. Например, в 1913 году, когда Василиск Гнедов только-только издал свою брошюру «Смерть искусству», состоящую из 15-ти “поэм”, каждая из которых была не длиннее одной строки, а в двух случаях даже сводилась к одной-единственной букве. Например, в поэме 14-й, ставшей столь знаменитой, — «Ю». Здесь автореференциальность максимальна. Разумеется, являясь в сборнике в качестве предпоследнего включённого в него произведения, она, эта буква “Ю”, призывает к себе букву “Я”, являющуюся не только следующей и последней буквой русского алфавита, но и одновременно, разумеется, местоимением первого лица единственного числа; местоимением, которое мы были бы вполне вправе ожидать от хорошего эгофутуриста; местоимением, которое, заметим, также автореференциально и которое вписывает автономного индивидуума в великое Всё... Но это уже философия.
На самом деле произошло другое. Последняя в сборнике “поэма” сводится к его названию: «Поэма конца». Это всё: она, стало быть, является совершенно афонической. Причём, эта “афония” перформативна, поскольку название, предвещающее конец, обращено в сторону молчания. Это молчание было, однако, прочитано. Владимир Пяст вспоминает в своей книге «Встречи», как автор декламировал эту заключительную “поэму”:
Конечно, можно сказать, как это делает Сергей Сигей в предисловии к переизданию Гнедова, что поэт „оказывается у истоков современного синтетического искусства” (Сигей 1992: 7). Однако, оказываясь на экстравербальной территории, мы меняем регистр (танец, “перформанс”, “body-art”). Поэт-эгофутурист Иван Игнатьев в своем манифесте-предисловии к «Смерти искусству» заявляет следующее: „Гнедов Ничем говорит целое Что” (Гнедов 1913: 2). Но всё же далее добавляет, что будущее литературы есть Безмолвие...
Однако молчания не наступило — или же, точнее, это молчание оказалось столь грохочущим, что его нарекли абсурдом.
| Персональная страница Ж.-Ф. Жаккара | ||
| карта сайта | 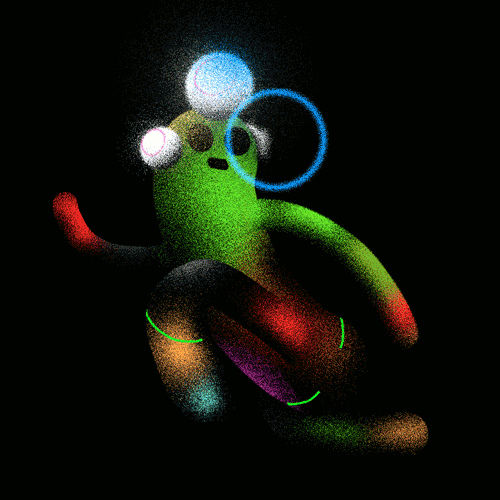 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||