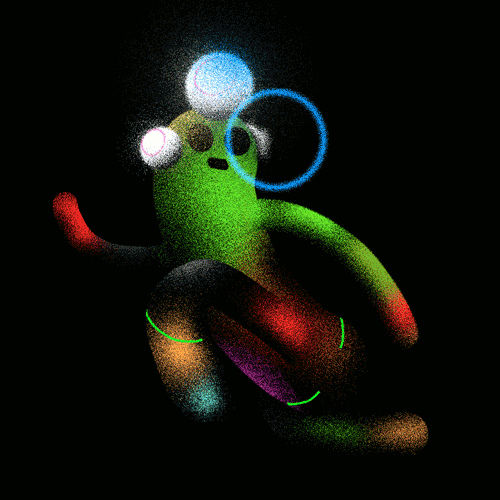Жан-Филипп Жаккар
Благодетель и ограничение бесконечности
Волна медленно подняла его. Она пришла издалека и плавно катила, налегая плечом на вечность.
А. Кёстлер. Слепящая тьма1
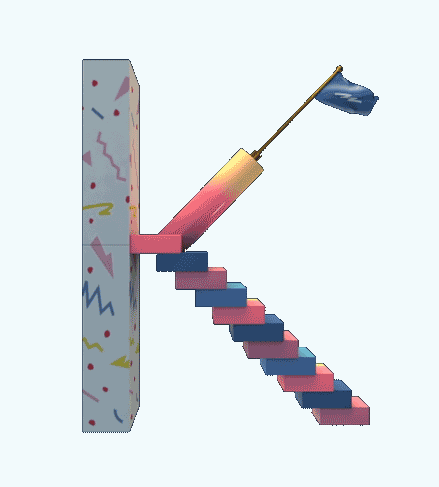
азалось бы, роман «Мы», написанный Замятиным в 1920–1921 гг. — то есть на излёте гражданской войны, когда Россия, пройдя устрашение режимом “военного коммунизма”, поняла, что с новой властью шутки плохи — в обсуждении нашей темы должен занять привилегированное место, поскольку та хронологически ограничена двумя реперными точками: Великий инквизитор и Большой Брат. На первый взгляд, это произведение Замятина и романы его коллег по жанру антиутопии составляют единый блок: все они прославились приблизительно в одно и то же время. Реалии же таковы: роман «Мы» был опубликован ещё в 1920-е годы,
2
но к широкому читателю — как в переводах, так и на языке подлинника — пришёл только после Второй мировой войны, одновременно с гораздо более поздними по времени создания «Скотным двором» Оруэлла и «Слепящей тьмой» Артура Кёстлера, не говоря о «Дивном новом мире» Олдоса Хаксли. Все трое наследуют Замятину самым очевидным образом. Эта историческая аберрация, помимо своей несправедливости, повлияла и на трактовку его романа. Осведомлённый о зверствах сталинского режима западный читатель увидел в нём, по сути, явь советского общества, заблаговременно изображённую автором, который внезапно обрёл дар ясновидения. Разумеется, этого не отнять, но было бы грубым упрощением втискивать роман в элементарные идеологические рамки; здесь мы поговорим о другом.
Более плодотворным представляется выявление в романе и политических реалий первых лет Советской власти, и художественного их отображения. Сократовская лысина Благодетеля, например, соотносима отнюдь не с будущем Отцом народов Сталиным, а с вездесущим о ту пору Лениным, который воспринимался многими как диктатор с первых дней революции (и даже раньше).3 Как известно, Замятин — автор задорных текстов с весьма нелестной обрисовкой этого исторического персонажа. Ещё в 1917–1920 годы им были написаны «Большим детям сказки»; четыре из них — о Фите, который самозародился в „подполье полицейского правления”. Этот диктатор-канцелярист посредством циркуляров запрещает голод и холеру, заставляет своих соотечественников стать одинаково глупыми — порядок, которому и ему в конце концов придется подчиниться, — отчего и погибает, истаивая под кулаками взбунтовавшейся паствы в лужицу чернил да сургучную печать за нумером 666.4
Как известно, Замятин — автор задорных текстов с весьма нелестной обрисовкой этого исторического персонажа. Ещё в 1917–1920 годы им были написаны «Большим детям сказки»; четыре из них — о Фите, который самозародился в „подполье полицейского правления”. Этот диктатор-канцелярист посредством циркуляров запрещает голод и холеру, заставляет своих соотечественников стать одинаково глупыми — порядок, которому и ему в конце концов придется подчиниться, — отчего и погибает, истаивая под кулаками взбунтовавшейся паствы в лужицу чернил да сургучную печать за нумером 666.4 Налицо и неприятие автором “пролетарской” эстетики: Леонид Геллер убедительно показал, что сатира Замятина бичует, в основном, издательскую продукцию доминировавшего тогда Пролеткульта5
Налицо и неприятие автором “пролетарской” эстетики: Леонид Геллер убедительно показал, что сатира Замятина бичует, в основном, издательскую продукцию доминировавшего тогда Пролеткульта5 и раболепие деятелей культуры перед новой властью. Сквозная тема выступлений Замятина в печати того времени — высмеивание служебной литературы; писатель смело проповедует еретические, по тогдашним понятиям, воззрения.6
и раболепие деятелей культуры перед новой властью. Сквозная тема выступлений Замятина в печати того времени — высмеивание служебной литературы; писатель смело проповедует еретические, по тогдашним понятиям, воззрения.6 Полагаю, раскрывать их необходимости нет.
Полагаю, раскрывать их необходимости нет.
Все замечания верны и отнюдь не исключают друг друга; однако пришло время заняться и другими аспектами романа. В предварительных замечаниях уместно подчеркнуть необходимость его расширенного, без педалирования политического дискурса, прочтения: последний слишком часто искажал авторский замысел; (виной тому и слабость французского перевода7 ). Для начала следует заметить, что опасения Замятина вызваны не только его знанием советской действительности изнутри: писателя пугает механизация современного общества в целом, он солидарен с неутешительным прогнозом Хаксли в «Дивном новом мире». Доказательства лежат на поверхности: в разгар Первой мировой войны, проектируя в Англии предназначенные для России ледоколы, Замятин пишет повесть «Островитяне» (1917),8
). Для начала следует заметить, что опасения Замятина вызваны не только его знанием советской действительности изнутри: писателя пугает механизация современного общества в целом, он солидарен с неутешительным прогнозом Хаксли в «Дивном новом мире». Доказательства лежат на поверхности: в разгар Первой мировой войны, проектируя в Англии предназначенные для России ледоколы, Замятин пишет повесть «Островитяне» (1917),8 где совесть жителей городка Джесмонд оказалась в руках викария Дьюли, „благодетеля” и автора „Завета Принудительного Спасения”, предписывающего единый для всех распорядок дня, включая половые сношения (по субботам каждой третьей недели, что маловато для миссис Дьюли), — линия сюжета, утрированная в «Мы» (никаких семейных пар, совокупления по талонам). Замятин обеспокоен не только всевластием “органов госбезопасности”, но и жёсткой регламентацией поведения граждан, которая грозит, по сути, любому современному индустриальному обществу даже в интимной сфере личности.
где совесть жителей городка Джесмонд оказалась в руках викария Дьюли, „благодетеля” и автора „Завета Принудительного Спасения”, предписывающего единый для всех распорядок дня, включая половые сношения (по субботам каждой третьей недели, что маловато для миссис Дьюли), — линия сюжета, утрированная в «Мы» (никаких семейных пар, совокупления по талонам). Замятин обеспокоен не только всевластием “органов госбезопасности”, но и жёсткой регламентацией поведения граждан, которая грозит, по сути, любому современному индустриальному обществу даже в интимной сфере личности.
Таким образом, прочтение «Мы» в рамках более широкого антиутопического и менее политизированного подхода закономерно. Традиция антиутопической словесности в России вращается вокруг двух взаимодополняющих осей: политической сатиры (вспомним «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина: градоначальник Угрюм-Бурчеев вынашивает планы преобразования вверенного ему Глупова в плац, где жители маршируют под его началом9 ) и философии. Достоевский тяготеет ко второй; к нему-то мы и обратимся за отточенными формулировками. Разумеется, связи между «Мы» и произведениями Достоевского уже изучены,10
) и философии. Достоевский тяготеет ко второй; к нему-то мы и обратимся за отточенными формулировками. Разумеется, связи между «Мы» и произведениями Достоевского уже изучены,10 однако не вполне. Лично я полагаю, что в романе Замятина нет страницы, которую нельзя было бы связать с великим классиком. Более того, разнобой отголосков (то и дело очевидных и даже подчёркнутых) Достоевского в «Мы» вынуждает меня держаться заявленной в заголовке темы ограничения бесконечности. Впрочем, постараюсь показать, что любого рода соответствия у этих писателей, в конечном счёте, сходятся именно в этом пункте.
однако не вполне. Лично я полагаю, что в романе Замятина нет страницы, которую нельзя было бы связать с великим классиком. Более того, разнобой отголосков (то и дело очевидных и даже подчёркнутых) Достоевского в «Мы» вынуждает меня держаться заявленной в заголовке темы ограничения бесконечности. Впрочем, постараюсь показать, что любого рода соответствия у этих писателей, в конечном счёте, сходятся именно в этом пункте.
Ближе к концу романа Замятина — после „величайшей в истории катастрофы” (революции), в Записи, озаглавленной «Конец» (тогда как это предпоследняя глава!) — в общественной уборной при станции подземной дороги безымянному, но пронумерованному (Д-503) адепту Единой Государственной Науки его сидящий слева сосед „с огромной лысой параболой лба” заявляет, что
бесконечности нет. Если мир бесконечен, то средняя плотность материи в нём должна быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем, — то, следовательно, Вселенная — конечна, она сферической формы, и квадрат вселенского радиуса у2 равен средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо — подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: всё конечно, всё просто, всё — вычислимо; и тогда мы победим философски, — понимаете?
Запись 39-я. Конспект: Конец.
На что Д-503, потрясённый чехардой событий, только что им пережитых, отвечает вопросом:
а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там — дальше?
Там же
Вопрос тем более острый, что нарушительница всех норм предписанного приличия I-330 уже прислала рассказчику „розовый талон” на неё (согласно Lex sexualis, „всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой нумер”, причём отказать без уважительной причины нельзя), и Д-503 потерял безмятежность укутанного в закрытом пространстве кроватки ребёнка, который мирно посапывает в уверенности, что здесь уютно и безопасно.
Ниже постараюсь показать, что и у Достоевского тема предела бесконечности — средоточие раздумий о счастье и свободе. У обоих писателей тот факт, что этот предел ограничивает не только пространство (что само собой разумеется, если мы говорим об утопии, но и время, придаёт их произведениям измерение, выходящее далеко за рамки традиционного дискурса антиутопии).
Предел пространства: Зелёная Стена и хрустальный дворец
Как известно, Единое Государство окружено Зелёной Стеной, которая ограждает среду обитания „нумеров” от дикой природы. Это „
за стеной” едва не с первых слов романа имеет привкус эротики: пыльца, весной приносимая ветром, сушит и подслащает губы, что „несколько мешает логически мыслить” (2). Оказывается, внешнее пространство следует понимать как пространство желания, а желание Д-503 сосредоточено (напоминаю, в Едином Государстве это наказуемо) на I-330 — особе, которая нарушает все табу: на курение и алкоголь, на секс вне установленных часов, на отличную от общеобязательного покроя одежду, на музыку Скрябина... I-330 — неизвестное (икс её бровей — наглядное тому свидетельство) в уравнении жизни рассказчика, некая потусторонняя чертовщина („острые рожки икса”);
11
возможно, эта женщина и есть тот √–1, наличие которого Д-503 ощутил в себе „давно, в школьные годы”, и которое Единое государство не может интегрировать:
помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: „Не хочу √–1! Выньте из меня √–1!” Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.
И вот теперь снова √–1. Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только чтобы не увидеть √–1.
Запись 8-я. Конспект: Иррациональный корень. R-13. Треугольник.
Таким образом, Стена оказывается материальным воплощением запретного в его абсолютной ценности и во всех проявлениях. Это напрямую связано с обнадёживающей идеей науки, которая всё объяснит и позволит не только „стенкой обгородить бесконечное” (8), но и сделает иррациональное умопостигаемым. То же у Достоевского:
‹...› здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет рознить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека, (хоть это уж и роскошь, по-моему) что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более как нечто в роде фортепианной клавиши или органнаго штифтика; и что сверх того — на свете есть ещё законы природы; так что всё, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет, и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, в роде таблицы логарифмов, до 108,000 и занесены в календарь; или, ещё лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, в роде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых всё будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений.
Тогда-то, — это всё вы говорите — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностию, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган.
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. VII.
Проблема в том, что никакая стена не означает реального контролирования пространства даже как поверхности. В данном случае полупрозрачная преграда позволяет лишь игнорировать всё, что за её пределами, — но, тем не менее, реально существует в виде „мутно-зелёных пятен” (6). “Заграница” представляется рассказчику „необозримым океаном”, насельники которого живут в „диком состоянии свободы” (1):
Но, к счастью, ‹...› между мной и диким зелёным океаном — стекло Стены. О великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград!
Запись 17-я. Конспект: Сквозь стекло. Я умер. Коридоры.
Признания и оговорки Д-503 („вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зелёная Стена, Благодетель”) позволяют получить некоторое представление о местной философии. Во-первых, свобода и желание безоговорочно помещаются в одну и ту же область пространства („за пределами”), понимаются в отрицательном смысле и отдают бесконечностью. Во-вторых, права и обязанности пронумерованных обитателей застенка (не названного, но подразумеваемого антагониста „застенного мира”) воспринимаются как дарованные свыше; наконец, оседлость —
‹...› люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?
Запись 3-я. Конспект: Пиджак. Стена. Скрижаль.
привычка к ней пришла „не без труда и не сразу” (3) — служит гарантией „математически безошибочного” (1) счастья, и, следовательно, обязательна, „тэйлоризована” (8) и „неизбежна” (15), поскольку „таблица умножения ‹...› никогда — понимаете: никогда — не ошибается” (12).
Очевидно, мы в шаге от болевого центра вопросов первостепенной для Достоевского и Замятина важности:
Господи, Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды-два-четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней, потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. III.
Идея пространства счастья, искусственно ограниченного математически выверенной („потому, что она дважды-два-четыре”) каменной стеной, главенствует в «Записках из подполья»: рассказчик, восставая именно против рациональности 2×2 = 4, утверждает, что „дважды-два-пять премилая иногда вещица”.12 Спору нет, 2×2 = 5 болезненно для восприятия, но человеку иной раз так хочется пострадать, уже потому что „страдание, — да ведь это единственная причина сознания”.13
Спору нет, 2×2 = 5 болезненно для восприятия, но человеку иной раз так хочется пострадать, уже потому что „страдание, — да ведь это единственная причина сознания”.13 Нечто подобное ощутил Д-503, предвидя свои мучения14
Нечто подобное ощутил Д-503, предвидя свои мучения14 в День Единогласия, когда он лишь издали увидит I-330, которую вожделеет „губами, руками, грудью, каждым миллиметром” (24), не смея оказаться с ней рядом:
в День Единогласия, когда он лишь издали увидит I-330, которую вожделеет „губами, руками, грудью, каждым миллиметром” (24), не смея оказаться с ней рядом:
Но я хочу даже этой боли — пусть ‹...› Какой абсурд — хотеть боли. Кому же не понятно, что болевые — отрицательные — слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И следовательно...
И вот — никаких “следовательно”. Чисто. Голо.
Запись 24-я. Конспект: Предел функции. Пасха. Всё зачеркнуть.
Сравним с раздумьями человека из подполья:
А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше, — дешёвое ли счастие, или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. II. Повесть по поводу мокрого снега. X.
Между тем, этот „безвредный, досадный болтун” (самооценка) уже самым определённым образом восстал против безмятежного счастья в сияющем граде на холме Утопии, будь та индустриальной или социальной. Для него „хрустальное здание, навеки нерушимое” — сомнительный идеал, „которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать”.
15
Дворец в некотором смысле ничем не лучше курятника: и курятник можно возблагодарить, спрятавшись в ненастье под его кров, но от дворца ждут большего: в нём живут вовсе не для того, „чтоб не замочиться”.
16
Символика „хрустального-неколебимого” Дворца как средоточия безоблачного — для замятинских „нумеров” отнюдь не фигура речи: „мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо” (1) — счастья оказывается очевидным отображением сути „тейлоризованных” стеклянных клеток Единого Государства c его “научной организацией труда”, весьма популярной на заре Советской власти. Однако довольство всем и вся — не более чем отсутствие желаний: это счастье „фортепианной клавиши” или „органного штифтика” у Достоевского, штока или ... лоботомизированного („Великая Операция”) у Замятина.
Более того, неколебимое благополучие — отец и мать застоя, работающего на мировую энтропию. Оба писателя противопоставляют ему неотвязное желание, сильнее всего остального, даже если кажется, что оно противоречит интересам человека, который его испытывает:
‹...› наши хотенья большею частию бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заране предположенной выгоды. Ну, а когда всё это будет растолковано, расчислено на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заране верить, что иных законов природы человек никогда не узнает) — то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотенье стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть, собственно потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслицы, и таким образом зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного.... А так как все хотенья и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то стало быть и кроме шуток может устроиться что-нибудь в роде таблички, так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке.
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. VIII.
Этот сумбур I-330 облекает в чеканную максиму: „хочу хотеть сама” (35).
Желание („хотенье”) всегда является признаком свободы, поскольку оно и есть „совокупность жизни” (тогда как разум „удовлетворяет только рассудочное качество человека”): можно благоденствовать в хрустальном дворце, но если покидать его запрещено, первое, что захочется сделать — бежать, ибо „человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела”.17 Человек способен зайти так далеко, что сеет хаос — только бы доказать себе, что волен поступать, как ему вздумается, и сознательно идёт навстречу своим страданиям, потому что именно там его свобода. Именно там и его сознание.
Человек способен зайти так далеко, что сеет хаос — только бы доказать себе, что волен поступать, как ему вздумается, и сознательно идёт навстречу своим страданиям, потому что именно там его свобода. Именно там и его сознание.
Сравнив парадигмы “клетка (в пределе золотая) – удовлетворение (достигнутая цель) – сон разума – смерть” и “свобода – страдание – сознание – жизнь” с разглагольствованиями и поступками человека из подполья, нетрудно убедиться: велеречивый мыслитель Достоевского склоняется ко второй. Точно так же Д-503 тянется к жизни во „всей её сложности и красоте” (12):
Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению.
Запись 28-я. Конспект: Обе. Энтропия и энергия. Непрозрачная часть тела.
Словом, идея ограниченного пространства как условия построения авторитарной утопии налицо у обоих авторов. Ничего удивительного в этом нет: утопия неизменно замкнута сама на себя, будь то фаланстер, остров ... или планета. Иначе немыслим даже временный успех разного рода социал-стерилизаторов и социал-ассенизаторов.18
„Времени больше не будет”
Итак, ограниченное пространство есть непременное условие авторитарной организации общества (или земного рая); то же самое и с категорией времени. Вечность, предлагаемая насельникам Единого Государства, оно же хрустальный дворец человека из подполья, строго фиксирована. Это вечность достигнутой цели: идея, прямо противоположная идее желания.
19
Если вдуматься, таковое предполагает как минимум два события (желание → удовлетворение) и, таким образом, восстанавливает у времени его дление. Утопия же предлагает сиюминутное удовлетворение стандартного набора желаний, то есть сведéние времени к вечному настоящему, без событий: таковые, чем бы ни были (запретный плод, секс, революция и т.п.), увлекают человека в будущее, которое — как и пространство желания (вспомним весеннюю пыльцу на губах) — целиком и полностью в „застенном мире” (34). И Достоевский, и Замятин противопоставляют застойному благополучию радость движения, включая „глупейшее” и „самый дикий каприз ‹...› чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится”, ибо таковой, по мнению человека из подполья, „может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, т.е. нашу личность и нашу индивидуальность”.
20
Именно такой — гибельной для психического здоровья — оказалась прихоть законопослушного Д-503: страстное увлечение бунтаркой I-330 как личностью (доступ к плоти предельно прост: компостирование розового талона).
Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет, только её острые, горячие губы.
— Прощай!
Это — издалека, сверху, и дошло до меня не скоро — может быть, через минуту, через две.
— Как так „прощай”?
— Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления, — разве тебе не было мучительно? А теперь Операция — и ты излечишься от меня. И это — прощай.
— Нет, — закричал я.
Беспощадно-острый, чёрный треугольник на белом:
— Как? Не хочешь счастья?
Запись 31-я. Конспект: Великая операция. Я простил всё. Столкновение поездов.
И сумбур „не могу без тебя, не надо без тебя” перерастает если не в утрату, то в начаток отрицания заповедного самосохранения: „Я не хочу спасения” (31).
Оба писателя отнюдь не ради красного словца упоминают первооткрывателя Америки: речь опять-таки о желании. Только это не половая истома или каприз, а целеполагание. В «Мы» на память Д-503 Христофор Колумб приходит дважды. Первый раз — в Записи, имеющей в своём титуле слова Ограничение бесконечности (12). Открытие Америки и сонет поэта R-13 о „мудром, вечном счастье таблицы умножения”
Вечно влюблённые дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире —
Не отрывающиеся дважды два ‹...›
ставятся здесь на одну доску. Оказывается, R-13 удалось в „девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо”, золото которого, как и Америка, существовало искони: „Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать её”. (12). Поскольку сонет R-13 озаглавлен «Счастье», отсылка к «Запискам из подполья» напрашивается сама (см. выше: „кроме шуток может устроиться что-нибудь в роде таблички, так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке”). Мотив открытия Америки повторяется в Записи 20-й (ровно посередине книги, тем самым, наводя на мысль о зеркально-замкнутой структуре произведения), когда рассказчик рассуждает о том, что
человеческая история идёт вверх кругами
21
— как аэро. Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля — вперёд: 10, 20, 200, 360 градусов — опять нуль. Да, мы вернулись к нулю — да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: нуль — совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо — мы вернулись к нулю слева, и потому: вместо плюса нуль — у нас минус нуль. Понимаете?
Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утёсом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от чёрной ночной стороны Нулевого Утёса. Века — мы,
Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют — и все на мачты: перед нами — другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утёса, озарённый полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца — сотни солнц, миллиарды радуг...
Что из того, что лишь толщиною ножа отделены мы от другой стороны Нулевого Утёса. Нож — самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож — был гильотиной, нож — универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идёт путь парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума путь...
Запись 20-я. Конспект: Разряд. Материал идей. Нулевой утёс.
Панегирик разящему острию не только делит объём романа пополам, но и оказывается (для нас, избравших изначально заявленный угол зрения) его средоточием, ибо налицо ключевые темы Достоевского: смерть (смертная казнь) и двойники. Заметим впрок, что пассаж Д-503 относительно ±0, то есть раздваивания (не только личности, но и самого романа), структурно совпадает с появлением Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Любопытно и вот что: непосредственно к этой кульминации заметок Д-503 примыкает Запись 21-я, в самом заглавии которой впервые появляется „авторский долг”.
Метафора открытия Америки — лейтмотив Достоевского. В «Идиоте» юноша Ипполит на последнем градусе чахотки исповедуется перед отчасти озадаченной, отчасти подтрунивающей над ним аудиторией посредством Необходимого объяснения причин, побуждающих его к самоубийству (задуманному сразу после читки):
О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал её; будьте уверены, что самый высокий момент его счастья был, может быть, ровно за три дня до открытия Нового Света, когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу, назад! Не в Новом Свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб помер, почти не видав его и, в сущности, не зная, чтó он открыл. Дело в жизни, в одной жизни, — в открывании её, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!
Достоевский Ф.М. Идиот. Часть третья. V.
Америку, по логике Ипполита, открыла смерть (ниже подробнее остановимся на допущении, что только с переходом в мир иной мы понимаем всё и вся; предварительно замечу, что всеохватное знание длится только миг: смерть как раз и приходит, чтобы всё стереть). Как ни странно, честь открытия Америки смертью принадлежит всё тому же Свидригайлову, своего рода двойнику Раскольникова в «Преступлении и наказании». Свидригайлов материализуется в финале третьей части романа. Он то и дело сообщает Раскольникову о своём скором убытии в Америку — образ утопии; поначалу это кажется досужей болтовнёй, но в итоге Америка оказывается именно тем местом, куда, по его словам, он проследует после самоубийства:
— Я, брат, еду в чужие краи.
— В чужие краи?
— В Америку.
— В Америку?
Свидригайлов вынул револьвер и взвёл курок. Ахиллес приподнял брови.
— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся не места!
— Да почему же бы и не место?
— А потому-зе, сто не места.
— Ну, брат, это всё равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.
Он приставил револьвер к своему правому виску.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Часть 6. 6.
Американский континент времён создания Достоевским романа «Бесы» — излюбленная площадка для разного рода утопических проектов; попытки соотечественников («Прогрессивная коммуна» Владимира Гейнса, группа Маликова-Чайковского, многочисленные коммуны анархистов) обосноваться там наверняка были ему известны. Исповедует „нашу Америку” и бесноватый революционер Пётр Верховенский. Его “Америка” будет управляться „Новым правым законом”, а креатура Верховенского „Иван-царевич”, благодаря умелой рекламе,
Знаете ли вы, что значит это словцо: „Он скрывается”? Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше, чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное — новая сила идёт. А её-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внёс. А тут сила, да ещё какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Всё подымется!
Достоевский Ф.М. Бесы. Часть вторая. Глава восьмая. Иван-царевич.
подомнёт под себя вселенную. Этот новый мир, построенный „нами”,
22
похож и на Единое Государство, и на хрустальный дворец ... и на открытие Америки. Вот как улещает бесноватый агитатор своего кандидата в князья тьмы:
Ведь я потому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока ещё Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен?
Там же
Однако почему именно в Ставрогине видит Верховенский вернейшее средство для успеха своего предприятия? Оказывается, этот обладатель „волчьего аппетита” — человекобог (упомянутый выше “американец” Маликов проповедовал богочеловечество). Мы ещё вернемся к этой подробности революционного миросозерцания.
Заведомо экстремальные ситуации, включая самоубийство непосредственно перед его исполнением (Ипполит, Свидригайлов, Кириллов), приближение припадка падучей (Мышкин) и прелюдию казни, оказываются для Достоевского необходимым и достаточным условием всеведения. Приговорённый близ гильотины „всё знает”, — убеждает Мышкин Епанчиных, раскрывая суть предложенного им сюжета из личных наблюдений за казнью преступника.23 Всеведение, по Достоевскому, — не прощальный поцелуй жизни, а готовое сомкнуться объятие смерти, которая приблизилась на „мельчайший дифференциал секунды” (Замятин). Однако если ограничение пространства сродни потугам оборудовать жалкий рай на земле, то втискивание времени в какие-либо рамки приведёт к замороженному гипернастоящему, которое тотчас истребит самое себя: а это уж эсхатология по Иоанну Богослову. Мышкин признаётся Рогожину, что истинный смысл возглашения „времени больше не будет” открылся ему перед эпилептическим припадком; в дальнейшем потенциальный самоубийца Ипполит предваряет свою исповедь опять-таки отсылкой к «Откровению» (распечатывание пакета с рукописью и снятие седьмой печати):
Всеведение, по Достоевскому, — не прощальный поцелуй жизни, а готовое сомкнуться объятие смерти, которая приблизилась на „мельчайший дифференциал секунды” (Замятин). Однако если ограничение пространства сродни потугам оборудовать жалкий рай на земле, то втискивание времени в какие-либо рамки приведёт к замороженному гипернастоящему, которое тотчас истребит самое себя: а это уж эсхатология по Иоанну Богослову. Мышкин признаётся Рогожину, что истинный смысл возглашения „времени больше не будет” открылся ему перед эпилептическим припадком; в дальнейшем потенциальный самоубийца Ипполит предваряет свою исповедь опять-таки отсылкой к «Откровению» (распечатывание пакета с рукописью и снятие седьмой печати):
Я писал это вчера весь день, потом ночь и кончил сегодня утром; ночью, под утро, я видел сон...
— Не лучше ли завтра? – робко перебил князь.
— Завтра „времени больше не будет”! — истерически усмехнулся Ипполит. — Впрочем, не беспокойтесь, я прочту в сорок минут, ну — в час... И видите, как все интересуются; все подошли; все на мою печать смотрят, и ведь не запечатай я статью в пакет, не было бы никакого эффекта! Ха-ха! Вот что она значит, таинственность! Распечатывать или нет, господа? — крикнул он, смеясь своим странным смехом и сверкая глазами. — Тайна! Тайна! А помните, князь, кто провозгласил, что „времени больше не будет”? Это провозглашает огромный и могучий ангел в Апокалипсисе.
Достоевский Ф.М. Идиот. Часть третья. V.
Итак, и у Достоевского, и у Замятина обуреваемый страстью к географическим открытиям Колумб служит олицетворением подлинной цели жизни — поиска. Попутно выясняется, что достижение сверхцели, оно же всезнание, возможно ... только перед смертью на гильотине. Земной рай Утопия с его раз и навсегда отмеренными благами является общей для обоих писателей компонентой эсхатологии: на утверждение здесь они отвечают там, на утверждение сегодня — завтра.24 Соображениями по этому поводу Замятин делится в статье с многозначительным заголовком:
Соображениями по этому поводу Замятин делится в статье с многозначительным заголовком:
‹...› только в вечной неудовлетворенности — залог вечного движения вперёд, вечного творчества. Тот, кто нашёл свой идеал сегодня — как жена Лота, уже обращённая в соляной столп ‹...› Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры — ересь: завтра — непременно ересь для сегодня, обращённого в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль. Сегодня — отрицает вчера, но является отрицанием отрицания — завтра: всё тот же диалектический путь, грандиозной параболой уносящий мир в бесконечность. Тезис — вчера, антитезис — сегодня, и синтез — завтра.
Е.И. Замятин. Завтра. 1919.
Неизвестное бесконечно и не предполагает конечной остановки; завтра будет вечно — всякий раз, когда завтра для вчера станет сегодня, — вот ответ Замятина проповедникам ограничения бесконечности. Когда профессиональный математик Д-503 узнаёт, что самая желанная для него на свете женщина готовит восстание, он бурно протестует — и натыкается на математически выверенный отпор:
— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, — это революция?
— Да, революция! Почему же это нелепо?
— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша — это не ты, а я говорю, — наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...
Насмешливый, острый треугольник бровей:
— Милый мой: ты — математик. Даже — больше: ты философ — от математики. Так вот: назови мне последнее число.
— То есть? Я... я не понимаю: какое — последнее?
— Ну — последнее, верхнее, самое большое.
— Но, I, — это же нелепо. Раз число чисел — бесконечно, какое же ты хочешь последнее?
— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны.
Запись 30-я. Конспект: Последнее число. Ошибка Галилея. Не лучше ли?
В написанной двумя годами позже статье Замятин ужмёт последние пять фраз в три строки эпиграфа и раскроет мысль I-330 во всей её полноте:
Две мёртвых, тёмных звезды сталкиваются с неслышным оглушительным грохотом и зажигают новую звезду: это революция. Молекула срывается со своей орбиты и, вторгнувшись в соседнюю атомическую вселенную, рождает новый химический элемент: это революция. Лобачевский одной книгой раскалывает стены тысячелетнего Эвклидова мира, чтобы открыть путь в бесчисленные неэвклидовы пространства, — это революция.
Революция — всюду, во всём; она бесконечна, последней революции нет, нет последнего числа. Революция социальная — только одно из бесчисленных чисел: закон революции не социальный, а неизмеримо больше — космический, универсальный закон — такой же, как закон сохранения энергии, вырождение энергии (энтропии). Когда-нибудь установлена будет точная формула закона революции. И в этой формуле будут числовые величины: нации, классы, звёзды — и книги.
Е.И. Замятин. О литературе, революции и энтропии. 1923.
Желание, таким образом, сравнимо с приводным ремнём вечных перемен. Акцент Замятина на плотском влечении только по недомыслию может показаться перехлёстом: внезапная страсть Д-503 на унылом фоне соитий по медико-психологическим показаниям — иносказание свободы выбора как таковой. Секс у Замятина — метафора той самой энергии, которую писатель неуклонно противопоставляет энтропии, очевидной для него угрозе как постреволюционной России, так и её литературе. Более того, сексуальная энергия подпитывает скорее искусство, нежели энтропийно-рациональную науку. Из письма Замятина художнику Юрию Анненкову:
В человеке есть два драгоценных начала: мозг и секс. От первого — вся наука, от второго — всё искусство. И отрезать от себя всё искусство или вогнать его в мозг — это значит отрезать... ну да, и остаться с одним только прыщиком.
Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Том I. Ленинград: Искусство. 1991. С. 248.
Для Замятина не подлежит малейшему сомнению: от пламени революции любого рода остаётся лишь кислый запах гари; вот почему
кто-то должен видеть это уже сегодня и уже сегодня еретически говорить о завтра. Еретики единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли. ‹...›
Клыки оттачиваются только тогда, когда есть кого грызть; у домашних кур крылья только для того, чтобы ими хлопать. Для идей и кур — один и тот же закон: идеи, питающиеся котлетками, беззубеют так же, как цивилизованные котлетные люди. Еретики — нужны для здоровья; еретиков нужно выдумать, если их нет. ‹...› у большинства людей — наследственная сонная болезнь, а больным этой болезнью (энтропией) — нельзя давать спать, иначе — наступит последний сон, смерть.
Эта же болезнь — часто у художника, писателя: сыто заснуть в однажды изобретённой и дважды усовершенствованной форме. И нет силы ранить себя, разлюбить любимое, из обжитых, пахнущих лавровым листом покоев — уйти в чистое поле и там начать заново.
Е.И. Замятин. О литературе, революции и энтропии. 1923.
Но тогда неизбежен вывод: Адам и Ева были первыми еретиками, ибо первородный грех, этот первый выплеск сексуальной энергии человечества,25 одновременно и первая всемирная революция. Оказывается, изгнание из рая — благо, а ересь — единственный шанс познать истинную бесконечность для насельников неподвижной вечности так называемого счастья, целиком состоящего из запретов ... и всегда ограниченного клочком пространства.
одновременно и первая всемирная революция. Оказывается, изгнание из рая — благо, а ересь — единственный шанс познать истинную бесконечность для насельников неподвижной вечности так называемого счастья, целиком состоящего из запретов ... и всегда ограниченного клочком пространства.
Мысль о том, что желание и свобода, в конечном счёте, сливаются воедино, не нова: ещё в памфлете «Рассуждение о добровольном рабстве» Этьен де ла Боэти (1530–1563) утверждал, что тирания возможна только с согласия “рабов”. Эта же идея лежит в основе „поэмки” Ивана Карамазова о Великом инквизиторе и „райской поэмки” (11) государственного поэта R-13: он подводит итог Д-503 точно так же, как Иван своему брату Алёше.
Инквизитор и Благодетель: притча о курах и пауках
Всем известен монолог Великого инквизитора перед Христом, оказавшемся в Испании спустя пятнадцать. Напомню только, что, по мнению этого апологета
застенка (уже не иносказания — в прямом смысле), „теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили её к ногам нашим”,
26
вследствие чего ныне „стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей”.
27
Этих извлечений достаточно, чтобы убедиться: паства инквизитора сродни обитателям хрустального дворца человека из подполья. Христос принёс свободу, в то время как „спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла” и „нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее”.
28
Именно поэтому Инквизитор заявляет Христу, что „мы исправили подвиг Твой и основали его на
чуде,
тайне и
авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки”.
29
Земная Церковь взяла в руки „меч кесаря”, чтобы навязать людям счастье без свободы, которое едва ли лучше, чем пресыщенность: человек из подполья „рискнёт даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент”.
30
У Замятина государственный поэт R-13 раскрывает замысел сочинения, которое готовит по случаю запуска межпланетного корабля «Интеграл» (то есть для предназначенной инопланетянам агит-библиотечки; Д-503 выполняет этот же заказ):
‹...› древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю — был предоставлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах. Об оковах — понимаете, — вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше — дальше слушайте! Древний Бог и мы — рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола — это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он — змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему — тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: всё — очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — всё это добро, всё это — величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика... Ну, да ладно; словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьёзнейший... понимаете? Штучка, а?
Запись 11-я. Конспект: ...Нет, не могу, пусть так, без конспекта.
Вот мы и добрались, наконец, до замятинского Благодетеля, стоящего на высшей ступени административной лестницы Единого Государства. В передовице Государственной Газеты, которой Д-503 начинает свои заметки, объявлена воля этого человека с подозрительно большой буквы (у рассказчика: „вслед Ему”, „перед Ним”):
От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:
Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.
Это будет первый груз, который понесёт «Интеграл».
Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!
Запись 1-я. Конспект: Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма.
Благодетель Замятина и Великий инквизитор Достоевского обладают общей фундаментальной характеристикой: они гаранты счастья, взявшие на себя чужие грехи. Оба, таким образом, — существа страдающие. Следует заметить, что в момент откровенности Великий инквизитор произносит то слово, которое Замятин будет употреблять несколько десятилетий спустя, чтобы обозначить своего тирана:
О! мы даже позволим им грешить, потому что они слабы, и из-за этого они будут любить нас, как детей. Мы скажем им, что все грехи будут искуплены, если они будут совершены с нашего разрешения; мы позволим им грешить из-за любви и возьмём на себя проблемы. Они будут лелеять нас как благодетелей, которые берут на себя ответственность за свои грехи перед Богом.
31 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть вторая. Книга пятая. Pro и contra. V. Великий инквизитор.
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть вторая. Книга пятая. Pro и contra. V. Великий инквизитор.
Та же идея прослеживается в романе Замятина во время беседы между Д-503 и Благодетелем, когда последний объясняет своему собеседнику, что не боится быть палачом, даже если задача трудна. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, он вспоминает сцену распятия:
Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних, — самая трудная, самая важная. Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны тёмной толпой: но ведь за это автор трагедии — Бог — должен ещё щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных, — разве Он не палач? И разве сожжённых христианами на кострах меньше, чем сожжённых христиан? А всё-таки — поймите это, всё-таки этого Бога веками славили как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда — дикий, лохматый — он понимал: истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременный признак истины — её жестокость. Как у огня — непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь! Ну, — доказывайте же, спорьте!
Запись 36-я. Конспект: Пустые страницы. Христианский бог. О моей матери.
Миссия Благодетеля совершенно та же, что и у Великого инквизитора:
Я спрашиваю: о чём люди — с самых пелёнок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви ‹...›
Там же
Как видим, перекличка дискурсов у Достоевского и Замятина более чем гадательна: даже фигура Христа трактуется ими одинаково. Иерарх господствующей (следовательно, карающей) церкви у Достоевского бросает арестованному Богочеловеку даже не упрёк, а тягчайшее обвинение: „Зачем же Ты пришёл нам мешать?”32 Христос „мешает”, потому что Он — носитель свободы, а сама идея свободы стала еретической в энтропийном мире христианства XVI века. Эта свобода такая же, как и у I-330, которая, подобно Христу, будет казнена в конце романа Замятина, оставив добровольное рабство, царящее в этом Едином Государстве, которое, кстати говоря, часто сравнивается или ассоциируется с Церковью.
Христос „мешает”, потому что Он — носитель свободы, а сама идея свободы стала еретической в энтропийном мире христианства XVI века. Эта свобода такая же, как и у I-330, которая, подобно Христу, будет казнена в конце романа Замятина, оставив добровольное рабство, царящее в этом Едином Государстве, которое, кстати говоря, часто сравнивается или ассоциируется с Церковью.
В творчестве Замятина это еретическое слово всегда чётко ассоциируется с литературой, с книгой: в написанной в то же время пьесе «Огни святого Доминика» (1920) писатель также изображает испанскую инквизицию. Еретик здесь — Руи, который, как и Христос, возвращается в Севилью после периода отсутствия, в Испанию, замученную инквизитором Мунебрагой, и который будет арестован, подвергнут пыткам и казнён за совершение преступления ереси, которое заключается здесь в чтении... Евангелия. А своей невесте Инес он заявляет: „я не отрекся от Христа: я только полюбил его”.
И здесь множественное совпадение смыслов у Замятина и Достоевского. При желании сеть можно раскинуть и шире: борцы за обязательное для всех счастье, например. Начнём с доморощенной аксиомы Шигалёва из «Бесов»:
выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом.
Достоевский Ф.М. Бесы. Часть вторая. Глава седьмая. У наших. II.
Слово произнесено: именно в деспотизме заключена идея лже-бесконечности земного рая — жизни без желаний
34
— следовательно, без страдания, следовательно, без сознания.
Земной рай, то есть авторитарный тоталитаризм по Шигалёву — лейтмотив творчества Достоевского на всём протяжении второй половины его жизни. Адепты принудительного счастья — своего рода инквизиторы в Церкви, которую они себе построили. Владыка этого замкнутого пространства — одновременно и человекобог, и птица Каган,35 и ... паук.
и ... паук.
Начнём с Паука из поэтического воображения Д-503. В День Единогласия — пародийного Второго пришествия — Благодетель нисходит с небес над собравшимся населением (явление человекобога в этой символической инверсии Вознесения Христа — Богочеловека):
Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе — и всё выше навстречу ему миллионы сердец, — и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (сияние блях); и в центре её — сейчас сядет белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенётами счастья.
Ночь. Запись 25-я. Конспект: Сошествие с небес. Величайшая в истории катастрофа. Известное кончилось.
В «Бесах» Достоевского пауком напрямую не назван никто, подозревать можно разве что возводимого Петром Верховенским в ранг земного бога окончательной и бесповоротной „Америки” Ставрогина. Σταυρός — кол, шест, орудие казни в древнем Риме, имевшее форму Т; σταυρόω — обносить частоколом, огораживать, распинать на кресте. Между тем Лиза, у которой с Николаем Всеволодовичем непростые отношения, заявляет:
Мне всегда казалось, что вы завёдете меня в какое-нибудь место, где живёт огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдёт наша взаимная любовь.
Достоевский Ф.М. Бесы. Часть третья. Глава третья. Законченный роман. I.
В главе «У Тихона» этот растливший малолетнюю Матрёшу (та заболевает, и в бреду твердит
„я Бога убила”36
) поводырь к пауку-исполину впадает в ступор, созерцая „крошечного красненького паучка на листке герани”. Тот же паучок мерещится ему и в дверную щёлку чулана, где, как совершенно уверен соблазнитель, повесилась девочка. И она действительно там висит, как высосанная букашка в паутине.
Среди образов сопряжения Достоевским паука с ипостасями антихриста (омерзительный князь Валковский в «Униженных и оскорблённых», закоренелый злодей Газин в «Записках из мёртвого дома») наиболее показательна фраза Свидригайлова, возникающего, как было сказано, словно из бреда Раскольникова, ровно в центре пространства романа. Когда Раскольников даёт собеседнику отрицательный ответ на вопрос о вере в будущую жизнь, Свидригайлов произносит знаменитые слова:
— Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность.
Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Часть 4. Гл.1.
Вот чем грозит обернуться бесконечность при попытках её ограничить: Единое государство, подобие хрустального дворца (он же „Америка”), на поверку оказывается затканной по углам тенётами (то есть заброшенной, выморочной) деревенской баней. Поскольку своему прямому назначению она более не соответствует, бал здесь правит паук, он же Благодетель, он же Великий инквизитор. В этом смысле баня с пауками — тот же курятник в сарае, где можно укрыться от дождя, „чтоб не замочиться”.
В романе Замятина обнаруживаем не просто реминисценцию этого высказывания, а реминисценцию в два этапа. Вот как просвещает собравшихся, включая Д-503, „фонолектор”:
Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу двадцатого века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на “дожде”, действительно шёл дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на “дождь” ‹...› Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как дикарь, европеец хотел “дождя” — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря по крайней мере было больше смелости и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной.
Запись 4-я. Конспект: Дикарь с барометром. Эпилепсия. Если бы.
Позже, во время обследования узнав о наличии у себя души, напуганный Д-503 спрашивает врача: „Почему ни у кого нет, а у меня...”. Тот с апломбом отвечает:
А почему у нас нет перьев, нет крыльев — одни только лопаточные кости — фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны — есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья — чтобы летать, а нам уже некуда: мы — прилетели, мы — нашли. Не так ли?
Запись 16-я. Конспект: Жёлтое. Двухмерная тень. Неизлечимая душа.
В этой тривиальной и дарвинистской37 реплике об открытии Колумбом Америки мы оказываемся немного похожими на цыплят... укрытых от дождя. „Мы прилетели”, но достигнутая цель — это всего лишь курятник. Человек без крыльев найдёт там убежище, так же как человек без души найдет убежище в Хрустальном дворце.
реплике об открытии Колумбом Америки мы оказываемся немного похожими на цыплят... укрытых от дождя. „Мы прилетели”, но достигнутая цель — это всего лишь курятник. Человек без крыльев найдёт там убежище, так же как человек без души найдет убежище в Хрустальном дворце.
По свидетельству художника Юрия Анненкова, Единое Государство — единое в обликах застенка инквизиции, курятника, „Америки” и деревенской бани — Замятин опустил ещё ниже: сравнил с дезинфицированной (то есть без пауков) уборной. Своему другу-художнику, который восхвалял прогресс, Замятин ответил:
Религия материалистическая, находящаяся под высочайшим покровительством — так же убога, как и всякая другая. И как всякая другая — это только стенка, которую человек строит из трусости, чтобы отгородиться ею от бесконечности. По эту сторону стенки — всё так симплифицировано, монистично, уютно, а по ту — заглянуть не хватит духу.
Какой-то мудрый астрономический профессор (фамилию забыл) вычислил недавно, что вселенная-то, оказывается, вовсе не бесконечна, форма её сферическая и радиус её — столько-то десятков тысяч астрономических, световых лет. А что, если опросить его: ну, а дальше-то, за пределами вашей сферической и конечной вселенной, — что там? А дальше, Анненков, дальше, за твоим бесконечным техническим прогрессом? Ну, восхитительная твоя уборная; ну, ещё более восхитительная, с музыкой (Пифагоровы штаны); ну, наконец, единая, интернациональная, восхитительная, восхитительнейшая, благоуханнейшая уборная, — а дальше?
Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Том I. Ленинград: Искусство. 1991. С. 249.
Эта образцовая уборная — царство человекобога. И то, и другое находим в романе Замятина:
Наши боги — здесь, с нами — ‹...› на кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго — мы стали, как боги.
Запись 12-я. Конспект: Ограничение бесконечности. Ангел. Размышления о поэзии.
Логика предельно проста: если внешнее пространство замкнуто само на себя, можно безраздельно властвовать в нём. Иными словами, человекобог с лёгкостью устроит счастье кур — при условии, что размах его деятельности ограничен курятником. Кое-кому этот проект и ныне кажется осуществимым. По недомыслию отбрасывается обязательное условие: для успеха дела нужно контролировать время. А ещё лучше — остановить его, то есть превратить вечность в вечное настоящее. И опять мы вступаем в область эсхатологии.
В «Бесах» именно такие умопостроения Достоевского озвучил Кириллов, кандидат на общественно-полезное самоубийство (за таковым последует ничто: Кириллов не верит в будущую жизнь). Остановив часы на „тридцать семь минут третьего”, в заключительном диалоге со Ставрогиным он произносит:
— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.
— Вы надеетесь дойти до такой минуты?
— Да.
— Это вряд ли в наше время возможно, — тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво.
— В Апокалипсисе ангел клянётся, что времени больше не будет.
— Знаю. Это очень там верно; отчётливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
— Куда ж его спрячут?
— Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
Достоевский Ф.М. Бесы. Часть вторая. Глава восьмая. Иван-царевич. V.
Напоследок будущий самоубийца заявляет, что счастлив, и счастлив может быть любой, потому что „человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому”. Даже с насильником всё в порядке, хотя он об этом не догадывается (и поэтому бесчестит маленьких девочек):
— ‹...› Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.
— Вот вы узнали же, стало быть, вы хороши?
— Я хорош.
— С этим я, впрочем, согласен, — нахмуренно пробормотал Ставрогин.
— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
— Кто учил, того распяли.
— Он придёт, и имя ему человекобог.
— Богочеловек?
— Человекобог, в этом разница.
38 Там же
Там же
И мы понимаем, почему он заканчивает свои признания словами:
— Я всему молюсь. Видите, паук ползёт по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползёт.
Там же
.
“Долг” писателя
Разумеется, эсхатология Замятина и Достоевского базируется на весьма несхожих основополагающих принципах; по большей части не совпадают и духовно-нравственные искания этих двух авторов. Поскольку о едином для них вероисповедании речь не идёт, разнятся и подходы к философским проблемам, проистекающим из христианства (проблема Добра и Зла,
39
например). И всё-таки общность антиутопического дискурса поражает. Даже если разработка темы пространства отчасти удобопонятна (Единое Государство огорожено полупрозрачной Стеной), в соединении с идеей сведения бесконечности к нулю она озадачивает сильнейшим образом. А если мы попытаемся осмыслить категорию времени („времени больше не будет”), откроется эсхатология, не имеющая ничего общего ни с одним известным произведением в жанре антиутопии. Повторяю, не стоит наспех обсуждать метафизические последствия этого наблюдения — для пользы дела наметим хотя бы какие-то пути выхода из тупика.
Один из них проглядывает в способности индивидуума („во всём этом яде неудовлетворённых желаний, вошедших внутрь”40 ) стать последней точкой сопротивления. В Едином Государстве „нумер” — часть целого, вне которого он пустое место. При холостом прогоне двигателя космического корабля «Интеграл», например, десять наладчиков погибли в результате взрыва — „от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи” (19). Д-503 с гордостью сообщает, что это не остановило стендовых испытаний, потому что
) стать последней точкой сопротивления. В Едином Государстве „нумер” — часть целого, вне которого он пустое место. При холостом прогоне двигателя космического корабля «Интеграл», например, десять наладчиков погибли в результате взрыва — „от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи” (19). Д-503 с гордостью сообщает, что это не остановило стендовых испытаний, потому что
десять нумеров — это едва ли одна стомиллионная часть
41
массы Единого Государства, при практических расчётах — это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.
Запись 19-я. Конспект: Бесконечно малая третьего порядка. Исподлобный. Через парапет.
Однако и в «Записках из подполья», и в «Мы» находим доказательства обратного. Оказывается, не так-то легко сбросить личность со счетов, есть в ней таинственное ядро — точка — сопротивления, ждущее “часа икс”, чтобы мгновенно разрастись:
Я — растворился, я — бесконечно-малое, я — точка...
В конце концов в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться — и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.
Ночь. Запись 25-я. Конспект: Сошествие с небес. Величайшая в истории катастрофа. Известное кончилось
Эти „тысячи разных кривых” — потенциал “грядущего дня”. Вопреки обыкновению, Д-503 больше не может предугадать, „что будет завтра? Во что я обращусь завтра?” (25). Он подошёл к пограничью, где пространство сократилось внутри себя самого, где время упразднило самое себя, но в итоге (и вопреки всему этому) ... он свободен. Перед ним вдруг открывается истина, не требующая доказательств: его “Я” — личность и поэт.42 Он больше не „стомиллионная часть массы” (19), а один из тех, кто самоутверждается через I (нужно ли напоминать перевод с английского?). Он выпрямляется в самодостаточную 1, которой оказывается написание имени любимой (нужно ли напоминать латинское счисление?). Более того, Женщина и есть то слагаемое, которое дóлжно прибавить к благонамеренному 4, чтобы получить 5 в иррациональном уравнении 2×2 = 5. I-330 оказывается символом заново открытого пространства (того, которое связует “Я” и “Ты”, хотя это местоимение в Едином Государстве запрещено) и вновь открытого времени (желания), а вместе с ним и свободы. Той свободы, которую Христос Достоевского, еретик из еретиков, не только не отобрал у христиан, а пронёс по Испании в самое логово инквизиции, точно так же, как I приходит дать волю законопослушному Д-503 ... перед своей казнью.43
Он больше не „стомиллионная часть массы” (19), а один из тех, кто самоутверждается через I (нужно ли напоминать перевод с английского?). Он выпрямляется в самодостаточную 1, которой оказывается написание имени любимой (нужно ли напоминать латинское счисление?). Более того, Женщина и есть то слагаемое, которое дóлжно прибавить к благонамеренному 4, чтобы получить 5 в иррациональном уравнении 2×2 = 5. I-330 оказывается символом заново открытого пространства (того, которое связует “Я” и “Ты”, хотя это местоимение в Едином Государстве запрещено) и вновь открытого времени (желания), а вместе с ним и свободы. Той свободы, которую Христос Достоевского, еретик из еретиков, не только не отобрал у христиан, а пронёс по Испании в самое логово инквизиции, точно так же, как I приходит дать волю законопослушному Д-503 ... перед своей казнью.43
Конечно, Д-503 плохо кончит — ему предстоит перенести Великую Операцию: „нумерам” Единого Государства предписано удалить центр фантазии, точку, „жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста” (31) — „каприз”, „хотенье” у человека из подполья. Благотворного усекновения не избежать: из передовицы в Государственной Газете следует, что фантазия — это „червь, который выгрызает чёрные морщины на лбу ‹...› лихорадка, которая гонит вас бежать всё дальше — хотя бы это “дальше” начиналось там, где кончается счастье” (31). Но прежде он стал автором, писателем, который говорит „я” и на котором лежит обязанность еретика. Д-503 один, говорит от себя и, в самом начале Записи, озаглавленной «Авторский долг», он в затемнённом — так полагается при обоюдополезном соитии, во всякое другое время „нумер” у всех на виду — стеклянном жилище своём впервые решает чисто писательскую задачу:
отделённый шторами от всех пластыре-целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных ‹...›. А раскрыть их — я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.
Запись 21-я. Конспект: Авторский долг. Лёд набухает. Самая трудная любовь.
Прежде довольствующийся случками по талонам Сексуального Бюро и официальной наукой, рассказчик впервые познал муки любви по вольному выбору — и он мыслит. Он стал страдающим, но и сознательным существом — страдающим, и поэтому сознательным, подобно человеку из подполья, который, кстати говоря, также является автором «Записок».
В этом писательское credo Замятина. К недоумению Д-503, составляемый им объективный (2×2 = 4) отчёт (пронумерованный конспект), который должен убедить обитателей других планет, что Единое Государство их осчастливит, помимо его воли превращается в
какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов, и падений, жизнь.
Запись 18-я. Конспект: Логические дебри. Раны и пластырь. Больше никогда
Но ещё больше огорчился бы, что его „записи, похожие на какой-то древний, причудливый роман” (31) окажутся воззванием к противостоянию инквизиторам всех мастей, и, в конечном счёте, — еретическим (подобно Евангелию, которое в «Огнях св. Доминика» Рюи читает в запрещённом инквизицией переводе с латинского на кастильский) романом.
Евангелие, утверждающее свободу как высшую ценность, оказывается у Замятина метонимией искусства в целом; правда пребывает в нём (Евангелии), даже если правда — ересь. И здесь вторя Достоевскому, еретическую правду Замятин противопоставляет государственной истине: уверенности монаха-доминиканца, что
если бы мне церковь сказала, что у меня только один глаз — я бы согласился и с этим, я бы уверовал и в это. Потому что хотя я и твёрдо знаю, что у меня два глаза, но я знаю ещё твёрже, что церковь
44
— не может ошибаться, —
Евгений Замятин Огни св. Доминика. Историческая драма в четырех действиях. Действие второе.
еретически противостоит знаменитая фраза ссыльного Достоевского из письма 1854 года к жене декабриста Наталье Фонвизиной:
‹...› если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и
действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.
45
——————————————
Примечания  1
1 „A wave slowly lifted him up. It came from afar and travelled sedately on, a shrug of eternity” //
Koestler A.. Darkness at Noon.
 2
2 Замятин безуспешно пытался издать роман в Советском Союзе, и тот вышел сначала на английском (
New York: E.P. Dutton & C°. 1924), затем на чешском (
Praha: Lidova Knihovna Aventina. 1927) и французском (
Paris: Gallimard. 1929) языках. Весной 1927 года отрывки появились в пражском журнале «Воля России» (заявлен перевод с чешского). Рукопись без купюр на Западе была опубликована в 1952 году, но только в 1988 году роман издали в России.
 3
3 См.
Любимова М. Биография Е.И. Замятина: Источники для реконструкции // Евгений Замятин и культура XX века.
СПб. 2002. С. 25 и далее.
 4
4 См.:
Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. А.Ю. Галушкина, М.Ю. Любимовой.
М.: Наследие. 1999. Некоторые статьи и политические рассказы были опубликованы на французском языке в: Autour de Zamiatine (L. Heller éd.).
Lausanne: l’Âge d’Homme. 1989.
 5 Heller L
5 Heller L. Zamjatin: prophète ou témoin? Nous autres et les réalités de son époque // Cahiers du monde Russe et soviétique, 22/1. 1981. P. 137–165. См. также:
Heller L. La prose de E. Zamjatin et l’avant-garde russe. Notes sur la correspondance des arts // Cahiers du monde russe et soviétique, 24/3. 1983. P. 217–239;
Lewis K., Weber H. Zamyatin’s
We, the Proletarian Poets, and Bogdanov’s
Red Star // Russian Literature Triquarterly, 12. 1975. P. 253–278 (также в: Zamyatin’s
We // A Collection of Critical Essays (G. Kern ed.).
Ann Arbor: Ardis. 1988. P. 188–208).
 6
6 См., Среди прочего, статьи «Завтра», «Я боюсь», «О синтетизме», «Литература, революция и энтропия» в:
Zamiatine E. Le métier littéraire (Trad. F. Monat).
Lausanne: L’Âge d’Homme. 1990.
 7 Zamiatine E
7 Zamiatine E. Nous autres.
Paris: Gallimard. 1971. В этом переводе исчезла специфика замятинского стиля, налицо изъятия, не редкость искажение смысла. Здесь, в переводе моей статьи на русский язык, роман и статьи цитируется по:
Замятин Е.И. Сочинения. Т. I–IV. Под ред. Евгении Жиглевич и Бориса Филиппова.
Мюнхен. 1988. В ряде случаев я отсылаю только к „№ записи”, которая является главой романа; таковая указана в скобках вслед за цитатой.
 8 Zamiatine E
8 Zamiatine E. Les insulaires (Trad. F. Lyssenko).
Lausanne: L’Âge d’Homme. 1983.
 9
9 На французском языке в:
Leskov N., Saltykov-Chtchédrine M. Œuvres (Trad. L. Martinez).
Paris: Gallimard («Pléiade»). 1967.
 10
10 См., например:
Jackson R. E. Zamyatin’s
We // Его же; Dostoevsky’s Underground Man In Russian Literature.
The Hague, Mouton & C°. 1958. P. 150–157;
Richards D. Zamyatin. A Soviet Heretic.
London: Bowes. 1962;
Gregg R. Two Adams and Eves in the Crystal Palace: Dostoevsky, the Bible and
We // Zamyatin’s
We. Op. cit. P. 61–76;
Туниманов В. Что там — дальше? (Достоевский и Замятин) // Русская литература. 1993. № 1. С. 62–80.
 11
11 Чёрт заявляет Ивану Карамазову: „Тут у вас всё очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределённые уравнения!” (
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть четвёртая. Книга одиннадцатая. Брат Иван Фёдорович. IX. Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича).
 12 Dostoїevski F
12 Dostoїevski F. Les nuits blanches. Les notes du sous-sol (Trad. B. de Schloezer).
Paris: Gallimard. 1982. P. 162.
 13
13 „А между тем, я уверен, что человек от настоящего страдания, т.е. от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, — да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание по-моему есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше чемъ дважды-два. После дважды-двух уж разумеется ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать” (
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. IX.).
 14
14 Идея о том, что страдание позволяет осознать свою индивидуальность, занимающая центральное место и в «Записках из подполья» и в «Мы», сравнивается в обоих произведениях с зубной болью: „И в зубной боли есть наслаждение”, — заявляет человек из подполья (
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. IV); Д-503 находит этому такое объяснение: „Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засорённый глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь?” (22).
 15 Достоевский Ф.М
15 Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. III.
 16
16 Там же.
 17 Достоевский Ф.М
17 Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. IX.
 18
18 В июне 1918 года — в то время, когда он яростно атаковал Ленина в оппозиционной прессе — Замятин пишет сатирическую притчу, где некий „прирождённый поэт-губернатор” назван Великим Ассенизатором (прозрачная отсылка к Великому инквизитору Достоевского). Этот „сумасшедший ассенизационный поэт ‹...› может быть, был исторически нужен России”: не только заставлял других, но и самолично выгребал нечистоты — и кончил тем, что провонял ... „знакомым духом охранки и жандарма” (
Замятин Е.И. Сочинения. Под ред. Евгении Жиглевич и Бориса Филиппова.
Мюнхен. 1988. Т. IV. С. 551–555). Об этом см.: Jaccard J.-Ph. Pureté, vide, assainissement. L’avant-garde et le pouvoir // Bilan de la culture soviétique (Transitions, XLI-2). Bruxelles, 2000. Р. 151–164.
 19
19 Вот как I-330 провоцирует Д-503: „А счастье... Что же? Ведь желания — мучительны, не так ли? И ясно: счастье — когда нет уже никаких желаний, нет ни одного...” (31). Позже, во время аудиенции Д-503, Благодетель повторит ему то же самое: „Я спрашиваю: о чём люди — с самых пелёнок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи...” (36).
 20 Достоевский Ф.М
20 Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. VII.
 21
21 Рассказчик отбирает честь первого кругосветного плавания у Магеллана; его профессиональные занятия математикой это извиняют. Но Д-503 грешит и непростительными для учёного ляпами. Нельзя, например,
подниматься по кругу: фигура эта принадлежит плоскому евклидову пространству —
подъём кругами предполагает спираль. О математике в «Мы» см.:
Brett Cooke L. Ancient and Modern Mathematics in Zamyatin’s We // Zamyatin’s We. Op. cit. P. 149–167. Следует отметить, что в беседе с братом Алёшей (она-то и вынудит его раскрыть содержание „поэмки” о Великом инквизиторе) непосредственно перед главой с многозначительным названием «Бунт», Иван Карамазов, говоря „если бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он её по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трёх измерениях пространства”, признаёт, что и у него самого „ум эвклидовский, земной”; между тем „находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, ещё обширнее — всё бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по Эвклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности” (
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть вторая. Книга пятая. Pro и contra. III. Братья знакомятся). За этими словами точно так же угадывается неевклидова геометрия Лобачевского, как и теория пространства-времени Эйнштейна на протяжении едва ли не всего романа Замятина.
 22
22 Один из многих возможных источников названия романа Замятина. Ср.: „И застонет стоном земля: „Новый правый закон идёт”, и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить
мы будем, мы, одни мы!” (
Достоевский Ф.М. Бесы. Часть вторая. Глава восьмая. Иван-царевич.
Курсив автора).
 23
23 „И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждет, и...
знает, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло!” (
Достоевский Ф.М. Идиот. Честь первая. V.
Курсив автора).
 24
24 Вспоминаем обращённые к Д-503 слова его возлюбленной: „А завтра... — она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. — А завтра — неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно. Ты понимаешь, что всё известное кончилось? Новое, невероятное, невиданное” (25). В статье «Завтра» (1919) Замятин соотносит понятие грядущего дня с понятием желания, и в этом перекликаясь с Достоевским: „Сегодня — обречено умереть: потому что умерло вчера и потому что родится завтра. Таков жестокий и мудрый закон. Жестокий — потому, что он обрекает на вечную неудовлетворенность тех, кто сегодня уже видит далёкие вершины завтра; мудрый — потому, что только в вечной неудовлетворенности — залог вечного движения вперёд, вечного творчества”.Эта обращённая к завтрашнему дню диалектика еретиков — Христа, Коперника, Толстого — закон не только истории, но и художественного творчества, диалектика человека будущего: „Единственное оружие, достойное человека — завтрашнего человека — это слово” (Там же).
 25
25 Ср.:
Замятин Е.И. О синтетизме. 1922.
 26 Достоевский Ф.М
26 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть вторая. Книга пятая. Pro и contra. V. Великий инквизитор.
 27
27 Там же.
 28
28 Там же.
 29
29 Там же. Курсив автора.
 30 Достоевский Ф.М
30 Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. VIII. И далее: „Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, — так он вам и тут человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пашквиля мерзость сделает. Рискнёт даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент”.
 31
31 Курсив мой. Дальнейшее не напоминает ли: „Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмём на себя. И возьмём на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их жёнами и любовницами [ср.: Lex sexualis], иметь или не иметь детей [ср.: О-90] — всё судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью” (
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть вторая. Книга пятая. Pro и contra. V. Великий инквизитор. Врезки мои. —
Ж.-Ф. Ж.).
 32
32 Там же.
 33
33 В этой пьесе та же перекличка с темами Достоевского, что и в романе «Мы», здесь те же рассуждения об истине, свободе, счастье. Даже резюме похожи: бесплодность равенства 2×2 = 4: „А у неверных, конечно, и наука неверная. Вот уж у нас в Испании, если дважды два, так спокойно можешь сказать, что это — с благословения святой церкви — четыре” (
Замятин Е.И. Огни св. Доминика. Действие первое).
 34
34 „В мире одного только недостаёт: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство, — внушает Верховенский Ставрогину, ссылаясь на взгляды Шигалёва. — ‹...› Скука есть ощущение аристократическое; в шигалёвщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалёвщина” (
Достоевский Ф.М. Бесы. Часть вторая. Глава восьмая. Иван-царевич).
 35
35 См. выше: „Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган” (
Достоевский Ф.М Записки из подполья. I. Подполье. VII). Речь идёт о вещей птице славянской мифологии; она невидима, но приносит счастье. Кроме того, в бытность Достоевского на каторге так называли заключённого, который умеет навязать свою волю окружающим. Достоевский сообщает об этом в «Записках из мёртвого дома». Таким образом, слово Каган у него связывает воедино власть, счастье и тюрьму.
 36
36
Эти события записаны Ставрогиным в его исповеди, которая печатается во всех изданиях в качестве приложения, поскольку эта глава была запрещена цензурой.
 37
37 Ср.: „Мы знаем Дарвина, знаем, что после Дарвина — мутации, вейсманизм, неоламаркизм. Но это всё — балкончики, мезонины: здание — Дарвин. И в этом здании — не только головастики и грибы — там и человек тоже, не только клыки и зубы, но и человеческие мысли тоже. Клыки оттачиваются только тогда, когда есть кого грызть; у домашних кур крылья только для того, чтобы ими хлопать. Для идей и кур — один и тот же закон: идеи, питающиеся котлетками, беззубеют так же, как цивилизованные котлетные люди. Аввакумы — нужны для здоровья; Аввакумов нужно выдумать, если их нет” (
Замятин Е.И. О литературе, революции и энтропии. 1923). Религиозный диссидент XVII века, обвинённый в ереси во время приведших к расколу Православной церкви (Раскольников, таким образом, говорящее имя) реформ патриарха Никона, протопоп Аввакум впоследствии — благодаря активной жизненной позиции, в том числе и оформленной литературно («Житие протоиерея Аввакума, написанное им самим» и послания к царю Алексею Михайловичу) — стал символом сопротивления власти предержащим (сожжён в 1682 году).
 38
38 В «Братьях Карамазовых» этот дискурс представлен словами Чёрта: „Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных” (
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть четвёртая. Книга одиннадцатая. Брат Иван Фёдорович. IX. Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича.).
 39
39 Наибольшая разница между Замятиным и Достоевским заключается, вероятно, в их подходе к проблеме Зла. У Достоевского даже влечение к греху, желание испачкаться — но исключительно по своей прихоти (рассуждения человека из подполья о фортепианной клавише и т.п.) оценивается с христианской точки зрения. Факт остается фактом: для Достоевского именно такая диалектика является залогом развития. У Замятина движущая сила перемен — революционеры — заведомо на стороне дьявола („ядовито-зелёные буквы” МЕФИ на пути к стартовой площадке «Интеграла»— прозрачный намёк на Мефистофеля; необычайно белые и острые зубы I-330 выдают в ней дьяволицу: „улыбка — укус”). У Замятина Зло (“грех”) всегда положительно — ибо кощунственно, антирелигиозно и, следовательно, еретично (что не мешает ему быть этичным), значит, с установкой на „завтра” и ответственно за противостояние застою. Таким образом, разница между двумя авторами заключается главным образом во вторичном суждении, выходящем за рамки художественного текста; актуальность последнего зависит от степени религиозности его создателя.
 40 Достоевский Ф.М
40 Достоевский Ф.М. Записки из подполья. I. Подполье. III.
 41
41 Мы находим ту же идею у Кёстлера: „Личность и бесконечность — как абсолютные величины — считались политически неблагонадёжными. Партия признавала единственный абсолют — себя, и единственное мерило личности: множество индивидуумов в N миллионов, безлично поделённое на N миллионов” (
Кёстлер А. Слепящая тьма: Политический роман. Пер. с англ. А. Кистяковского.
М.: ДЭМ. 1989. С. 190).
 42
42 Наедине с I-330 рассказчик обнаруживает себя единым в двух лицах („Было два меня”), причём двойник обитает в „скорлупе”: „Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?” (10). Наваждение быстро проходит, но этот рационалист до мозга костей испытал-таки, подобно множеству персонажей Достоевского, раздвоение. Но испытал его только при соитии с I. Перевод I с английского общеизвестен, а транскрипция его на кириллице — буква Я, зеркальное отражение латинской R, обозначающей в «Мы» ... государственного поэта. Причём рассказчик и до вскрытия „скорлупы” грезил о поэтическом творчестве: „мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же)” (3). Таким образом, правомерно транскрибировать раздвоенного рассказчика латино-кириллицей ЯR. Более того, как это часто бывает в любовных треугольниках Достоевского (Настасья Филипповна–Мышкин–Рогожин и др.), граница удвоения — женщина. В романе Замятина это ЯIR: „Неподнятыми глазами вижу всё время тех двух — I и R — рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие — ненавистные мои — лохматые руки”. Таким образом, нумерованный конспект Я представляют собой ответ на „райскую поэмку” (11) R-13, которая, в свою очередь, не что иное как ... советизированная форма „поэмки” Ивана Карамазова.
 43
43 Отметим, что если приставить „икс” бровей к имени этой женщины, получим хризму:
Ιησούς Χριστός (
IX).
 44
44 Если заменить ‘церковь’ на ‘партию’, получим политическую логику Советского Союза за все годы его существования; Замятин понимал её изначально.
 45 Достоевский Ф.М
45 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 т. Т. 15. Письма 1834–1881.
СПб.: Наука. 1996. С. 95. (выделено Достоевским. —
Ж.-Ф.Ж.). Почти двадцать лет спустя Достоевский вложил те же слова в уста персонажа «Бесов» Шатова, который упрекает впавшего в безверие Ставрогина: „Вы помните выражение ваше: „Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским”, помните это? ‹...› не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?” (
Достоевский Ф.М. Бесы. Часть вторая. Глава первая. Ночь. VII).
Воспроизведено по::
Le Bienfaiteur et la Limitation de L’Infini // Du Grand Inquisiteur à Big Brother. Arts, science et politique.
Sous la direction d’Anna Saignes et Agathe Salha. Paris: Classiques Garnier. 2013. P. 109–136.
Перевод В. Молотилова
Изображение заимствовано:
Jonathan Baldock (b. 1980 in Pembury, UK. Lives and works in London).


![]()
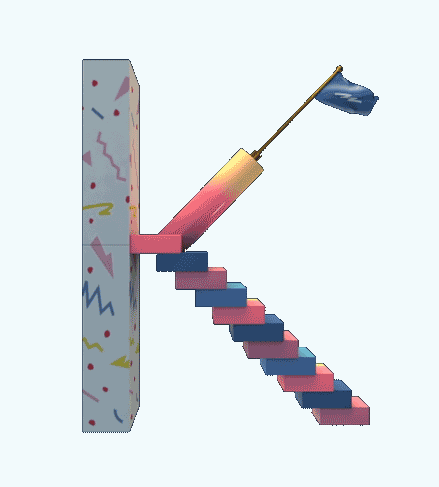 азалось бы, роман «Мы», написанный Замятиным в 1920–1921 гг. — то есть на излёте гражданской войны, когда Россия, пройдя устрашение режимом “военного коммунизма”, поняла, что с новой властью шутки плохи — в обсуждении нашей темы должен занять привилегированное место, поскольку та хронологически ограничена двумя реперными точками: Великий инквизитор и Большой Брат. На первый взгляд, это произведение Замятина и романы его коллег по жанру антиутопии составляют единый блок: все они прославились приблизительно в одно и то же время. Реалии же таковы: роман «Мы» был опубликован ещё в 1920-е годы,2
азалось бы, роман «Мы», написанный Замятиным в 1920–1921 гг. — то есть на излёте гражданской войны, когда Россия, пройдя устрашение режимом “военного коммунизма”, поняла, что с новой властью шутки плохи — в обсуждении нашей темы должен занять привилегированное место, поскольку та хронологически ограничена двумя реперными точками: Великий инквизитор и Большой Брат. На первый взгляд, это произведение Замятина и романы его коллег по жанру антиутопии составляют единый блок: все они прославились приблизительно в одно и то же время. Реалии же таковы: роман «Мы» был опубликован ещё в 1920-е годы,2![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()