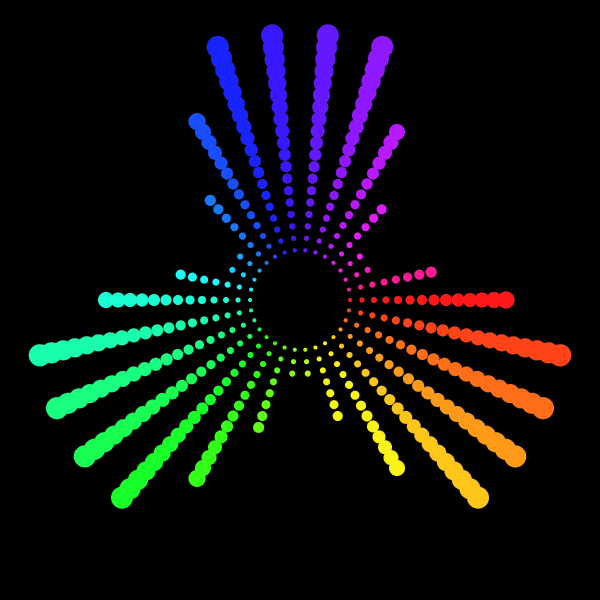Иеремия Иоффе
Хлебников
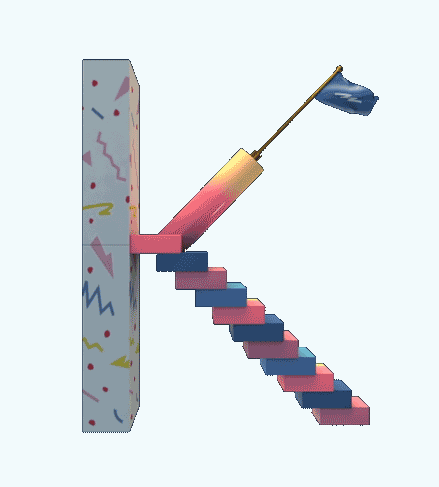
рупнейшим представителем русского конструктивизма, или кубо-футуризма, является Велимир Хлебников, „основатель будетлян”. Он не только охватил в своих стихах и прозе разные формы функционального речетворчества, но и объединил теоретическими принципами отдельные лабораторные опыты и построил монументальные литературные произведения. Слово для него — не механический знак эмпирического представления, а система динамических элементов, артикулированных тембров. Каждый звук речи по своему тембру имеет определённые движение и направление и может служить обозначением ритмических форм, контуров тела.
Бобэоби пелись губы
Вээоми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиэээй пелся облик
Гзи-гзи-гээо пелась цепь
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
Вне протяжения, но в движении, во времени, носителями которого являются речевые тембры. Звуки природы, пенье птиц, объективистическая запись которых была простым звукоподражанием, становится у Хлебникова средством выражения внутренней сущности, жизненного движения птичек, лесных существ и богов. Звуко-тембры — жесты движения, т.е. сущности, и, следовательно, — речи.
Пеночка (с самой вершины ели надувая серебряное горлышко). Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!
Овсянка (спокойная на вершине орешника). Кри-ти-ти-ти-ти́-и — цы-цы-цы-сссы́ы.
Дубровник. Вьер-ввёр-ви́ру сьек-сьек-све́к! Вэр-вэр ви́ру, век-сэк-се́к!
Вьюрок. Тьёрти́ еди́греди (заглянув к людям, он прячется в высокой ели). Тьёрти́ еди́греди!
Являясь движением, звуко-тембры переходят друг в друга, требуют определённых ритмов в своей смене и развёртываются в эмпирически заумные, но функционально осмысленные словесные действия.
Понимание звука как движения с определённым направлением приводит Хлебникова к теории падежей как направления движения слова — к теории внутреннего склонения слов, которая делает различные “словарные” слова только различными падежами одного слова.
Так бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного хищника, и образованные винительным и родительным падежами общей основы “бо”, самым строением своим описывают, что бобра следует преследовать, охотиться за ним, как добычей, а бабра следует бояться, так как сам человек здесь может стать предметом охоты со стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением своего падежа изменяет смысл словесного построения. В одном слове предписывается, чтобы действие боя было направлено на зверя (винительный — куда?) в другом слове указывается, что действие боя исходит из зверя (родительный — откуда?)
«Учитель и ученик»
Таким же образом слова лес и лысый, бог и бег, бок и бык, вол и вал, вес и высь, сети и сытый, являются разными падежами одного корня.
‹...› словесное нутро также имеет склонение по падежам. Склоняясь, иногда немая основа придаёт своему смыслу разные направления и даёт слова, отдалённые по значению и похожие по звуку.
Там же
Замкнутые логически, “словарные” слова получают связь и единство в движении гласных. Язык, как сумма слов, становится системой пересекающих друг друга рядов. Вместе с движением основ получают жизнь и суффиксы; как функциональный элемент слóва, они — носители смысла и могут переходить, переключаться от слова к слову, образовывать стыки смысловых планов. Это звуковое единство и семантическая противоположность основ становятся темой стиха, костяком функционалистических, формальных стихопостроений:
Мы чаруемся и чураемся,
Там чаруясь, здесь чураясь.
То чурахарь, то чарахарь,
Здесь чуриль, там чариль.
Семантика корней осложняется суффиксами, отсечёнными от других слов (чурахарь ← пахарь), и образует смещение и движение семантических планов, смысловых фактур. Ограниченное количество суффиксов, допустимых по механистическому словарю у каждого слова, сменяется свободным их движением, сочетанием с любой основой. Эти рассечения и сочетания слов являются способом стихотворных произведений. Таково построение из корня “мог”: могатырь ← богатырь; могун ← лгун, крикун; моглец ← наглец, подлец; могач ← силач; могушонок ← лягушонок; могенята ← мышата и т.д. Связанные синтаксически, они образуют законченные произведения, которые лишены логического движения мысли, но имеют беспрерывное движение формальных планов, пересекающих друг друга, набегающих, переходящих друг в друга, образующих замкнутую систему форм вокруг корневой формы.
Таково «Заклятие смехом»:
О, рассмейтесь, смехачи,
О, засмейтесь, смехачи.
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно.
О рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей.
О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей.
Смейево, смейево.
Усмей, осмей, смешики, смешики.
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи.
О, засмейтесь, смехачи.
Суффиксы, разнося основу в различные семантические планы, связываются, в свою очередь, этой основой, упорное повторение которой придаёт стихотворению характер заклинания, которое, по Хлебникову, возможно как внушение ритмо-тембром определённого психического движения. Ритмико-интонационное движение сплавляет разнородные семантические планы в целое и кажущееся последовательным развёртывание. Концовка, повторяя зачин, замыкает стихотворение, превращает его в закрытую систему движения.
Слова во фразе могут менять отдельные звуки, заимствовать у соседних, отдавать им свои, не утрачивая своего основного смысла, но получая дополнительные.
Пел петер [ветер] в степи
И бьюга водопада об утёсы
И бихарь седого потока
Слова могут утрачивать отдельные звуки и, оставаясь незаконченными, получить неустойчивое тяготение к различным словам, получить многозначный связующий смысл.
Зáзовь.
Зазовь манности [ту- или об-] тайн.
Зазовь обманной печали
Зазовь уманной устали.
В стихотворении «Сутемки, Сувечер» эти полисемантические тяготения служат лирическому движению тающих и возникающих вечерних настроений, но, в отличие от произведений символистов, с которыми здесь есть стык, стихотворение имеет психо-интеллектуальный, а не религиозно-мистический характер (ср. вечерние стихи Блока); у Хлебникова намечается здесь экспрессионистическая, сюрреалистическая линия.
Во многих стихотворениях отдельные фонемы становятся ведущими, магистральными, пронизывая все строки, прилагаясь к различным словам, осмысляя их, цементируя основной темой. Таким же образом в поэмах один образ или идея становятся магистральными, возникая в разных аспектах во всех поворотных частях поэм (см. конница ← конь → конина в «Ночи в окопе»).
В произнесённой фразе лежит не только смысл последовательного сочетания слов, но и всех призвуков, присмыслов, которые фонетически и семантически её сопровождают; последние только отбрасываются эмпирическим сознанием и речью. Слово, облечённое мыслью, имеет множество движений; комплекс слов, смыслов, нужных для фразы, возникает сразу, раньше чем язык её произнесёт, — так же, как слово существует в сознании всё сразу, а не в последовательности образующих его звуков (оттого в слове звуки выскакивают раньше положенного места, во фразе — словá раньше синтаксического места). Получаются смещения, перевертни, которые формально-логическое мышление исправляет как досадные заскоки, но которые конструктивистское мышление использует как орудие борьбы с причинно-следственным ходом речи, как утверждение функционального её строя. Речь есть система с функциональной зависимостью элементов. Отсюда перевертни — обратимость слова и фразы, возможность прямого и обратного чтения — как основа смыслосложения:
Кони, топот, инок.
Но не речь, а черен он.
Идем молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь.
Голод, чем меч долог?
Принципы этого рече-стихо-творчества лежат в основе поэм и прозы Хлебникова.
Так, в поэме «Разин» все её сто пятьдесят строк читаются одинаково вперёд и назад, т.е. вторая половина строки представляет собой перевёрнутое повторение первой половины:
Сетуй, утес!
Утро чорту!
Мы, низари, летели Разиным.
В этом перевертне звуковые повторы становятся семантическим средством, раскрытием смыслов слова в прямом и обратном движении. Смысл для Хлебникова, как и время, перемещаем вперёд и назад, и слово раскрывает полностью своё значение, если оно берётся во всех возможных направлениях произнесения.
Хлебников выбирает узловые для данной темы слова, фразы, и их развёртыванием, прямым и обратным, строит поэму. Так, для первой её части («Путь») это: Мы, низари, летели Разиным | Топот | Потоп! | Топора ропот | Раб бар! | Бар раб! | Раб, нежь жен бар! | Холоп — сполох | Холоп — переполох и т.д. Во второй части («Бой»): Гон ног | Рев вер | Лук скул | Ура жару | Меч мучь и т.д. Ритм этих замкнутых конструктивных строк, их чередование создаёт живое интонационное движение выкриков, окриков, призывов, напевов волжской вольницы. Всё революционное движение превращено в надсоциальную стихию, подчинённую космической закономерности, математике Лобачевского, как и самое построение строк, с их прямым и обратным движением. Это поясняет эпиграф, вторая строка которого — перевертень первой.
Я Разин со знаменем Лобачевского логов.
Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря.
Ополовинивая количество звуков, он удваивает их фонетические смысловые сочетания и придаёт им конструктивную цельность. Движение словесных смыслов подчиняется той же конструктивной закономерности, что и движение истории, которая, в свою очередь, подчинена космическим, математическим законам. Теория литературы становится продолжением энергийной, волновой теории мира. Функционально понимаемые история, культура и язык являются основой хлебниковских поэм.
Подобно движению энергии, события истории подчинены законам; знание их даёт возможность управлять временем.
Открыв законы “чёта” и “нечета” во времени, я ощутил такое чувство, что в руках у меня мышеловка, в которой испуганным зверком дрожит древний рок.
«Доски судьбы»
Как световой луч и электричество, история движется волнообразно. Её ритм, подобно ритму лучевой волны определённой длины, есть ритм возвратов и повторов, подчинённых законам космических лучей — закону сохранения энергии, в конечном итоге. Отдельные люди, народы, человечество подчинены этим законам. Таким образом,
наука о земном делается главой науки о небесном.
«Учитель и ученик»
Явления истории волнообразно, ритмически повторяются. История есть замкнутый процесс, в котором не только по прошлому можно предсказать будущее, но будущее действует на прошлое, как функция замкнутой системы. В этой теории возвратов и управляемости времени Хлебников возрождает на основе теории относительности пифагорейское понимание числа, астрологию, феодальное понимание времени и пространства, управляемого богами-владыками.
Древние населяли богами небо. Древние говорили, что боги управляют событиями. Ясно, что эти небеса совпадают с действием возведения в степень чисел времени, и что жильцы этих небес, показатели степени, и есть боги древних.
«Доски судьбы»
Стихийный материализм теории относительности, заменивший систему Птолемея конечной вселенной, здесь становится стихийным идеализмом конечной истории, т.е. эсхатологией — учением о возврате, рождении и конце народов. Эти ритмические волны, эта эсхатология — основа поэм Хлебникова. Он претворил открытие Эйнштейна в такую же поэзию неба, в какую Бруно претворил открытие Коперника. Но если Бруно дерзновенно штурмовал феодальную астрологию, то Хлебников реакционно возвращается к ней. По его мнению, астрология более истинна, чем механистическая космогония Ньютона, и он пытается с её помощью управлять временем.
Учение о добре и зле, Аримане и Ормузде, грядущем возмездии, — это были желания говорить о времени, не имея меры, некоторого аршина.
Итак, лицо времени писалось словами на старых холстах Корана, Вед, Доброй вести и других учений.
Здесь, в чистых законах времени, тоже великое лицо набрасывается кистью числа, и, таким образом, применён другой подход к делу предшественников. На полотно ложится не слово, а точное число, в качестве художественного мазка, живописующего лицо времени.
Таким образом, в древнем занятии времямаза произошёл некоторый сдвиг.
Откинув огулы слов, времямаз держит в руках точный аршин.
Те, кто захотели бы пренебречь чистыми законами времени и в то же время правильно судить, походили бы на древних самодержцев, бичующих море за то, что оно разбило их суда.
«Доски судьбы»
Таким образом, Хлебников из эпохи разложения капитализма протягивает руку к феодальным воззрениям, как протягивают художники руки к феодальной иконографии, лишённой перспективы, но объёмной и архитектоничной. Интеллект заменяет место авторитарного бога и, подобно ему, властвует над временем.
Поэмы Хлебникова вслед за его теорией тянутся к докапиталистической литературе — к «Слову о полку Игореве», где люди и природа, битвы и явления-знамения едины. Космогония становится поэтической, поэзия — космогонической.
Такова «Гибель Атлантиды». Жрец, носитель тайных знаний, держатель звёздных уставов, предвидя грядущую погибель, убивает рабыню любви — страсть, и этим вызывает катастрофу.
Не так ли разум умерщвляет,
Сверша властительный закон,
Побеги страсти молодой?
Та, умирая, обещает
Взойти на страстный небосклон
Возмездья красною звездой!
Жрец-разум и рабыня-любовь — оба равны.
Две священной единицы
Мы враждующие части,
Две враждующие дроби.
В взорах розные зеницы.
Две, как мир старинных, власти,
Берём жезл и правим обе.
Но жрец-разум стремится властвовать над любовью, и несёт гибель материку, зная неизбежность её.
Наукой гордые потомки
Забыли кладбищей обломки.
И пусть нам поступь четверенек
Давно забыта и чужда,
Но я законов неба пленник,
Я самому себе изменник. —
Отсюда смута и вражда.
Тема гибели страны, эсхатология как космический закон, является основой поэмы. Борьба интеллекта и эмоции здесь, несмотря на гибель, есть победа интеллекта, свершающего законы мира.
Походы мрачные пехот,
Копьём убийство короля
Послушны числам, как заход,
Дождь звёзд и синие поля.
Года войны, ковры чуме
Сложил и вычел я в уме.
Так энергийная теория истории оказывается основой литературной композиции, а философские понятия — элементами поэмы.
Война, в понимании Хлебникова — катастрофическое явление культуры, война — нашествие, разорение, гибель, война — суд, кара, расправа — оказывается одним из существенных сюжетов его эсхатологических поэм. До революции Хлебников и принимает войну как грозную силу мира, и оправдывает её, — оправдывает империалистически-шовинистически, желая России быть карающей, судящей, быть орудием судьбы, а другим народам — жертвой, покорёнными («Были вещи слишком сини», «Боевая славян», «Посолонь на немь», «Ночь в Галиции»). Война — стихия мира, и только расслабленная интеллигенция — писатели Толстой, Андреев, Вересаев — порицают военный подвиг, а войну понимают как бесцельную бойню, в то время как Народная песнь славит военный подвиг и войну («Учитель и ученик». С. 13).
Октябрь для него — новая волна энергийной истории после империалистической войны. Такова поэма «Ночь в окопе».
Ленин выступает, подобно жрецу в «Атлантиде», владыкой рока, но уже не гибельного, а строительного, срывающего заставу к алому чертогу, куда он поставил ногу.
И пусть земля покорней трупа
Моим доверится рукам.
‹...›
Я род людей сложу, как части
Давно задуманного целого.
Рать алая, твоя игра! Нечисты масти
У вымирающего белого.
Но победа — только волна истории:
Цветы нужны, чтобы скрасить гробы.
А гроб напомнит: мы — цветы,
Недолговечны, как они.
(В «Атлантиде» жрец к гробам бросил мост цветов).
Лицо Ленина —
Лицо сибирского Востока.
Громадный лоб, измученный заботой, —
встаёт как образ рока, как образ новый, время, твой, рядом с изваяниями древних каменных богинь. Так обессмысливается революция, отрицается поступательное движение истории.
Борьба красных и белых получает космический характер; эта извечная борьба славян и кочевников, гражданская война и феодальные стычки — оказываются волнами истории на тех же полях-степях.
Семейство каменных пустынниц
Просторы поля сторожило.
И рядом с этим суровым известняком стоит могуче и жестоко лицо Ленина. Вскрытие мощей с женской перчаткой функционально перекликается с раскопками кургана языческой Рогнеды, хранящими девические кости. Танк ползёт, как ящер до потопа.
И вновь пустыня точно встарь.
И конница скифов, и конина в лавках Москвы перекликаются. Конь красной конницы и кочевников, подобно каменным богиням-бабам, соединяет первобытное и современное, скачет сквозь века.
А конь скакал...
Как жёлт зубов оскал!
Так же смещаются, образуя единство, планы пространства — северного и южных морей. Слёзы, что льются в Москве, когда-нибудь проснутся в Каспии; Чёрное море, полное снегов Москвы, тянется обратно к Москве. Время и пространство России — единая замкнутая система, где доски каменные богинь хранят рок, а Ленин — не мышь, а мышеловка исторических судеб. Поиски лучеволновых энергийных законов истории приводят к мистике, к признанию власти космических сил над человеком, чем тот самый интеллект, который этими поисками занят, отрицается.
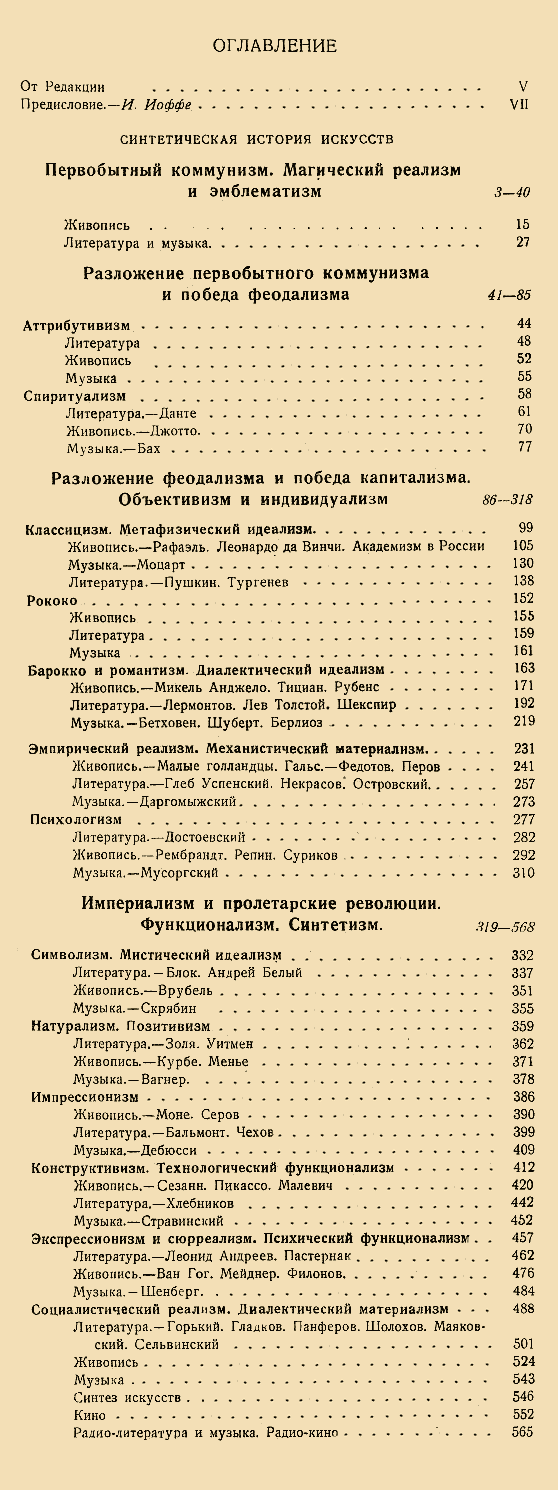
Для Хлебникова не только история, но и язык существует не как процесс неповторимых этапов, а как система, где каждый этап является функцией, планом языковой системы. Исторические и диалектные напластования — только носители особых смыслов, взаимно дополняющих и расширяющих друг друга. Конкретная история языка и есть тот материал, из которого Хлебников строит свои поэмы, посредством неё он смещает планы времени и смыслов и применяет свои теории истории. Первобытность, древние слова, славянщина, церковнославянщина — для него не стремление вернуться назад, а включение прошлого в современность, понимание современности и языкового процесса как системы речевой культуры, в которой могут быть сопряжены отдалённейшие смысловые планы, где возможно движение по различным планам. Отсюда особое построение сюжета, понимание времени стиха и поэмы у Хлебникова.
Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов.
Сверхповесть, или заповссть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый со своим особым богом, особой верой и уставом. ‹...› Строевая единица, камень сверхповести, — повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы. ‹...›
Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения.
Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из “рассказов” есть сверхповесть.
«Зангези»
Так из темброзвуков, семантических конструкций, исторических диалектов строит Хлебников свои произведения, цементируя их функциональным идеализмом, теорией истории, идущей от Эйнштейна и Римана.
Он восстаёт против эмпирического слова, но не во имя мистической интуиции, как это делали символисты, а во имя точности математического интеллекта.
В словесном мышлении нет налицо основного условия измерения — постоянства измеряющей единицы, и софисты Протагор, Горгий — первые мужественные кормчие, указавшие опасности плавания по волнам слова. Каждое имя есть только приближённое измерение, сравнение нескольких величин, какие-то знаки равенства.
«Время — мера мира»
Но из этого не следует, что слово надо упразднить, — его неопределённость следует опереть на математические постоянные.
Будучи устарелым орудием мысли, слово всё же останется для искусств, так как оно пригодно для измерения человека через постоянные мира. Но бóльшая часть книг написана потому, что хотят “словом” думать о том, о чём можно думать числами.
Там же
Так функциональная теория пространства и времени становится основой поэтики.
Хлебников с победой революции принимает Октябрь, но как победу инженерного, рационалистического интеллекта; мир у него вступает в согласие и лад, изгнав торговцев, разрушив замки мирового торга («Ладомир»).
Это шествуют творяне,
Заменившие Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж,
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города
Дугою над рабочей выей
Всемирного труда.
И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,
И будет некому продать
Мешок, от золота тугой.
Революция сливает историю человечества с космосом, становится доказательством законов, которые, как мнилось Хлебникову, нашёл он в теории волнового движения человечества как вида космических лучей.
Проза Хлебникова строится или на том же словотворчестве, или на смещении и сочетании исторических планов, прошлого с настоящим или будущим, по законам волнового цикла движения человечества, которое
в столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли сознание соединяет времена вместе, как кресла и стулья гостиной?
«Ка»
Время, понимаемое так же предметно и реально, как пространство, время, в котором персонажи перемещаются как в пространстве, время, данное целиком, всё сразу — подобно пространству, поддающемуся построению, формированию, — является основой его сюжетов.
Хлебниковский Ка странствует по глубинам прошлого — и его возвращения, несмотря на различные условия пребывания там, внутренне подобны, соответствуют друг другу как повторения одного ряда. Оказывается, по единичному явлению можно определить целую эпоху, вскрыть в частных действиях общую закономерность, расширить случайные эпизоды до исторического события, на единичном показать всё многообразие.
Я умею угол великих событий, отделённых временем в несколько лет, видеть в маленьких чертежах сегодняшнего дня.
«Перед войной»
В отличие от мистики символистов, метод соответствий которых уводит в потустороннее, идеалистический функционалист Хлебников подобия относит к истории, к закономерностям времени с его волнообразным движением.
Энергетика, наполняющая и движущая культуру токами электричества и света, окончательно сливает лучеволновое движение человечества и вселенной. Предсказания будущего — утопии — Хлебников строит на технических достижениях духовной культуры, а не материального производства.
Отсюда его «Кол из будущего». Здесь фантастические воздушные и стеклянные города, воздвигаемые государством-зодчим.
Конструктивный социализм превращается в эсхатологию, в ожидание возрождения, преображения человечества через инженерию; это даёт и «Радио будущего», которое будет передавать не только речь и музыку, цвето-картины, но и запахи, вкусы, т.е. ощущения всех органов чувств и, охватывая земной шар, объединит человечество в его умственном и психическом бытии.
Радио решило задачу, которую не решил Храм как таковой ‹...›: задачу приобщения к единой душе человечества.
«Радио будущего»
Человечество становится всемогущим божеством мира, властвующим над пространством, временем и тяготением. Идеализм Хлебникова в утопиях будущего встречается с эсхатологией символистов, однако его воскресшим божеством является не потусторонний дух, а энергетика.
Воспроизведено с незначительной стилистической правкой по:
И.И. Иоффе. Синтетическая история искусств.
Введение в историю художественного мышления.
Л.: ОГИЗ ЛЕНИЗОГИЗ. 1933. С. 442–452.


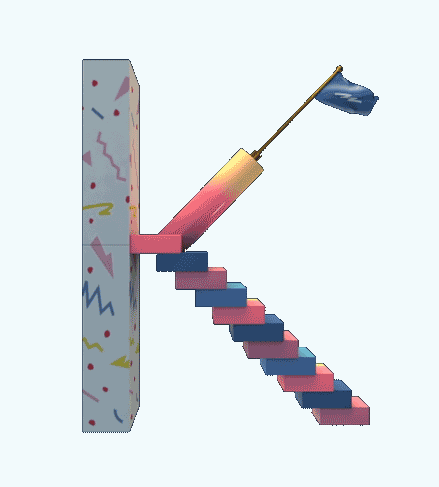 рупнейшим представителем русского конструктивизма, или кубо-футуризма, является Велимир Хлебников, „основатель будетлян”. Он не только охватил в своих стихах и прозе разные формы функционального речетворчества, но и объединил теоретическими принципами отдельные лабораторные опыты и построил монументальные литературные произведения. Слово для него — не механический знак эмпирического представления, а система динамических элементов, артикулированных тембров. Каждый звук речи по своему тембру имеет определённые движение и направление и может служить обозначением ритмических форм, контуров тела.
рупнейшим представителем русского конструктивизма, или кубо-футуризма, является Велимир Хлебников, „основатель будетлян”. Он не только охватил в своих стихах и прозе разные формы функционального речетворчества, но и объединил теоретическими принципами отдельные лабораторные опыты и построил монументальные литературные произведения. Слово для него — не механический знак эмпирического представления, а система динамических элементов, артикулированных тембров. Каждый звук речи по своему тембру имеет определённые движение и направление и может служить обозначением ритмических форм, контуров тела.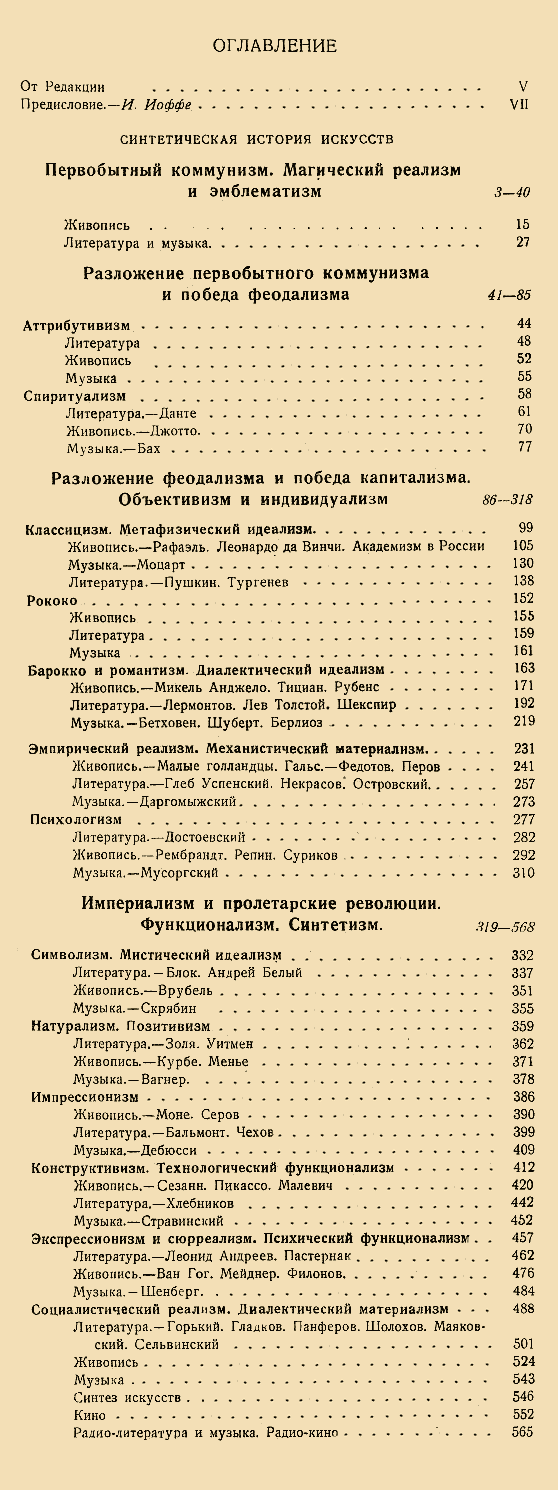 Для Хлебникова не только история, но и язык существует не как процесс неповторимых этапов, а как система, где каждый этап является функцией, планом языковой системы. Исторические и диалектные напластования — только носители особых смыслов, взаимно дополняющих и расширяющих друг друга. Конкретная история языка и есть тот материал, из которого Хлебников строит свои поэмы, посредством неё он смещает планы времени и смыслов и применяет свои теории истории. Первобытность, древние слова, славянщина, церковнославянщина — для него не стремление вернуться назад, а включение прошлого в современность, понимание современности и языкового процесса как системы речевой культуры, в которой могут быть сопряжены отдалённейшие смысловые планы, где возможно движение по различным планам. Отсюда особое построение сюжета, понимание времени стиха и поэмы у Хлебникова.
Для Хлебникова не только история, но и язык существует не как процесс неповторимых этапов, а как система, где каждый этап является функцией, планом языковой системы. Исторические и диалектные напластования — только носители особых смыслов, взаимно дополняющих и расширяющих друг друга. Конкретная история языка и есть тот материал, из которого Хлебников строит свои поэмы, посредством неё он смещает планы времени и смыслов и применяет свои теории истории. Первобытность, древние слова, славянщина, церковнославянщина — для него не стремление вернуться назад, а включение прошлого в современность, понимание современности и языкового процесса как системы речевой культуры, в которой могут быть сопряжены отдалённейшие смысловые планы, где возможно движение по различным планам. Отсюда особое построение сюжета, понимание времени стиха и поэмы у Хлебникова.