

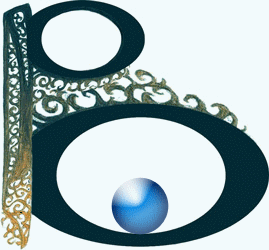 основании всякой утопии лежит мучительное ощущение, что люди живут не так. Что их совместная жизнь на Земле могла быть лучше, светлее, богаче, плодотворнее, добрее. Каким образом? Естественно, прежде всего нужно развалить ныне существующий, “неправильный” уклад жизни. В этом сходятся все утописты, это ненадолго объединяет их — столь разных — в разрушительной волне революций. Но когда дым оседает, они остаются на развалинах, снова разъединённые, тоскующие, неутолённые.
основании всякой утопии лежит мучительное ощущение, что люди живут не так. Что их совместная жизнь на Земле могла быть лучше, светлее, богаче, плодотворнее, добрее. Каким образом? Естественно, прежде всего нужно развалить ныне существующий, “неправильный” уклад жизни. В этом сходятся все утописты, это ненадолго объединяет их — столь разных — в разрушительной волне революций. Но когда дым оседает, они остаются на развалинах, снова разъединённые, тоскующие, неутолённые.Формулирование любой утопии, как правило, включает в себя обвинительный приговор тому вредоносному меньшинству, которое виновно в неправильном укладе жизни людей, в их страданиях. Для католиков в средние века средоточием зла были еретики и ведьмы. Для лютеран, кальвинистов и Льва Толстого — попы. Для последователей Робеспьера — короли, герцоги и графы. Для последователей Маркса — эксплуататоры. Для последователей Гитлера — евреи. Для последователей аятоллы Хомейни — все неверные.
Строители социалистической утопии в романе Платонова «Котлован» видят главного своего врага в “буржуе”. Девочка Настя даже „не хотела рожаться ‹...› боялась — мать буржуйкой будет”.1![]()
В системе хлебниковекой утопии, запечатлённой в таких вещах, как «Труба марсиан» и «Письмо к двум японцам», враг тоже назван с обезоруживающиы детским прямодушием: это — старшие возрасты.
Отныне мир должен разделиться на два лагеря: изобретателей (молодых) и приобретателей (старших).
«Труба марсиан», откуда взяты эти смелые призывы, писалась Хлебниковым в 1916 году. Андрею Платонову исполнилось тогда 17 лет. И молодость, и бедность (не приобретатель) , и талантливость (способность к изобретательству), казалось бы, давали воронежскому юноше права гражданства в государстве молодёжи, Государстве времени, основанном Хлебниковым. Однако, всматриваясь сегодня в мировосприятие этих двух писателей, каким оно предстаёт перед нами в их произведениях, мы начинаем сомневаться в том, чтобы они оказались по одну сторону железных прутьев. Мы не уверены, что Платонову нашлось бы место на хлебниковеком паровозе дерзости или чтобы он захотел мчаться на нем в неведомые дали будетлянства. Мы ощущаем его принадлежащим к старшим возрастам.
Попробуем проанализировать это смутное ощущение, выделив в творчестве обоих писателей те три черты, по которым мы в быту обычно отличаем взрослого от ребёнка, зрелого человека — от подростка: а) способность отвечать за свои слова и поступки; б) способность к состраданию; в) способность к иронии.
Оставим в стороне вопрос о том, насколько условное литературное “я-мы” в творчестве Велимира Хлебникова совпадало с реально жившим человеком Виктором Владимировцчем Хлебниковым, рождённым в 1885 году, учившимся — как и вождь мирового пролетариата — в Симбирске и Казани, умершим от голода в 1922-м. Будем говорить лишь о том Хлебникове, который встаёт перед нами со страниц его прозаических отрывков предреволюционной поры.
Главное, что можно сказать об этом Хлебникове: он талантливо и волнующе непредсказуем в каждом слове, в каждой строке, в каждом изгибе мысли. Но мало того: он также пытается утвердить бытийную важность этой непредсказуемости, этого постоянного ухода от утвердившихся языковых и эмоциональных связей, в системе своего утопического молодёжного государства будущего: Мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому! В том числе и в измене только что пролетевшей минуте, только что сказанным словам. Не надейтесъ, старшие, как бы говорит нам Хлебников, что вы сможете поймать нас на каком-то противоречии, что сможете обуздать нашу безграничную свободу, поставить в угол логических правил. Нет смысла хватать нас костлявыми руками и напоминать, что молодые тоже когда-нибудь состарятся и станут лицом к лицу со смертью.
Счастливое упоение собственным озорством — вот эмоциональная доминанта этого мироощущения. Но эта игра в пиратов времени должна быть гарантированно победной. В автобиографических отрывках разных лет перечисляются только великие свершения Хлебникова, его изобретения, творения и пророчества. Но ни одного упоминания о поражениях. Мы, одетые в плащ только побед... Не напоминает ли это детские игры, где каждый помнит заветные “чурики” — право выскочить из игры в тот момент, когда поражение становится неизбежным. И магия поэзии так же привлекаласъ в этих детских играх, как она привлекается в творчестве Хлебникова. „Чур-чурашки — не играшки...”; „За одним не гонка — человек не пятитонка”, — кричали мы, когда соперник был вот-вот готов пастигнуть нас. Главное преступление старших возрастов — попытки “запятнать”, попытки отнять у молодых право на “чурики”, погрузить их в свой мир, где трудятся, надеются и погибают всерьёз.
В «Котловане» Платонова языковые приёмы тоже неповторимы и непредсказуемы. Но каждый персонаж пронизан какой-то одной главной жизненной линией, одним устремлением, одной тоской, каждый имеет свой характер и свою судьбу, “изменить” которой нельзя. Рабочий Вощев ищет истину и страшится „сердечной озадаченности”. Инженеру Прушевскому „хотелось беспрерывно заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце, вместо дружбы и привязанности к людям”. Деревенский активист „с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье, строил необходимое будущее, готовя для себя в нём вечность”.
Иногда может показаться, что артель роет котлован, стараясь ни о чём не думать, а крестьяне и вовсе, по выражению одного из них, живут „нечаянно”. Но потом видишь, что это лишь маска, надеваемая перед лицом безжалостной власти. Выясняется, что каждый землекоп „придумал себе идею будущего спасения отсюда — один мечтал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пойти в партию и скрыться в руководящем аппарате”. Крестьяне тоже проявляют горячее упорство и энергию, когда дело доходит до жизненно важных вещей: сопротивляются обобществлению имущества, пытаются остановить разошедшегося молотобойца-медведя, когда тот бездумно крушит в кузнице хорошее железо.
Справедливо, будет сказать, что “подросток” Хлебников видит в застывшем и неизменном прошлом лишь угрозу бесконечной свободе и возможностям будущего; для “взрослого” Платонова “сегодня” обретает смысл лишь в том случае, если у него есть живал связь с “вчера” и “завтра”.
Второй выделенный нами элемент для сравнения — отношение Платонова и Хлебникова к состраданию.
Понятно, что, выделив старшие возрасты в отдельное и чуждое государство, Хлебников не видит никакой нужды сопереживать им. Всё его сочувствие направлено исключительно на молодых. Могилы юношей, недооценка изобретателей — вот преступления старших возрастов, за которые им нет прощения. В программу благотворных иреобразований включается пункт, который можно считать кратчайшей реализацией идей ницшеанства: Разводить хищных зверей, чтобы бороться с обращением людей в кроликов («Письмо к двум японцам»).
Для Платонова сострадание всему живому — естественная доминанта человеческого бытия. Его проявляют даже безжалостные строители коммунистической утопии, только у них оно направлено на дальних, будущих, прошлых — в ущерб ближним. Чтобы иметь живой и вдохновляющий объект сострадания, они приводят в барак строителей сироту Настю. „Товарищ Жачев, доставь нам на своём транспорте эту жалобную девочку — мы от её мелодичного вида начнем более согласованно жить”.
Примечательно, что именно эта сирота легче других подхватывает лозунги новых хозяев жизни. На их вопрос о „твёрдой линии дальнейших мероприятий”, она уверенно отвечает: „Плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало”. И на вопрос о социальном происхождении („чем у тебя папаша-мамаша занимались?”) она не отвечает прямо, а умело замазывает своё буржуазное происхошдение восхвалением Ленина и Будённого. Не об этой ли прекрасной измене своему прошлому мечтал Хлебников, распределял места на паровозе молодости?
Остальные же платоловекие герои состраждут друг другу без разбору, проявляя полное отсутствие классового сознания. В разгар раскулачивания какая-то женщина „сначала бежала по улице и голосила таким агитирующим, монашьим голосом, что Чиклину захотелось в неё стрелять, а потом она увидела, как крестьянская баба катится по низу, и тоже бросилась навзничь и забила ногами в суконных чулках”. Искатель истины Вощев сочувствует даже мёртвой природе, собирает в свою котомку всякие отжившие „предметы несчастья и безвестности. „Ты не имел смысла жизни, [говорит он подобранному сухому листу] лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб ‹...› буду хранить и помнить”. В сферу авторского сочувственного сопереживания попадают не тольно больные, голодные, умирающие, но даже и отъявленные злодеи и прохвосты — за опустелость и безжизненность их души.
Для Платонова даже мёртвые — люди. Для Хлебнинова все немолодые — ненужный хлам. Но в этом безразличии ощущается не жестокость, а всё то же детское простодушие, которое чем-то напоминает мальчика из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти»: „Бабушка, ты умрешь?.. Тебя в землю закопают?.. Вот когда я буду твою швейную машинку крутить!..”
Дети могут быть бескопечно талантливы в своих проявлениях. Они могут “глаголить истину своими младенческими устами”. Они часто говорят очаровательные и очень смешные вещи, которые мы с удовольствием пересказываем друг другу. Но одного они не умеют: острить.
Почему детям недоступна ирония? Не потому ли, что ирония всегда строится на внезапном снижении высокого? А там, где мы говорим о высоком, мы незаметно вводим понятие различных уровней человеческого бытия, которое детям недоступно.
Так или иначе, представляется весьма симптоматичным, что Хлебников во всём своем творчестве — пугающе серьёзен. Эта серьёзность доходит до апофеоза в поздних вещах, заполненных гирляндами математических формул, которые должны были объяснить все загадки бытия. Но и в расцвете своих творческих сил он не даёт иронии прорваться ни в одной строчке. Возникает ощущение, что она либо недоступна ему, либо смертельно опасна для того, чем он занят.
Другое дело — Платонов. «Котлован» — одна из самых страшных русских книг, но одновременно — одна из самых смешных. Подходящими иллюстраторами для неё могли бы быть Босх и Брейгель. Можно открывать любую страницу наугад и находить фразы и сцены, вызывающие смех сквозь слёзы.
„Мужик было упал [от удара Чиклина], но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного...”
Баба рассказывает, что её мужик так оголодал, что боится улететь от лёгкости. „Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю”.
Часто ирония блещет не в сцене, не в реплике, а просто в диковинном эпитете или в тонком смешении социалистического новояза с нормальным русским языком: „единогласная душа из тебя вон!”; „передовой ангел от рабочего состава”; „свободомыслящая походка”; „обязанность радости”; „громко пропагандировалось молоко с деревенских телег”; „плакал неотложными слезами”.
„Товарищи! мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива не что иное, как предмет нужды заграницы ‹...›
‹...› Товарищи, мы должны, — ежеминутно произносила требование труба, — обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам 30 тракторов!.. ”
Как это похоже на то, что доводилось нам слышать из репродуктора всю жизнь! И как часто нам хотелось выкрикнуть слова, которые кричит один из платоновских персонажей:
„Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..”
Список подвигов, которые Хлебников просит запечатлеть на своей могильной плите, невозможно читать без иронической усмешки: Он нашёл истинную классификацию наук, он связал время с пространством ‹...› он нашёл славяний, он основал институт изучения дородовой жизни ребёнка, он нашёл микроб прогрессивного паралича... Но вот доходишь до какой-то строчки и вздрагиваешь, как от сбывшегося пророчества: Некогда выступил с воззванием к сербам и черногорцам по поводу Босно-Герцоговинекого грабежа... И думаешь: а вдруг этот наследник русских волхвов и азиатских шаманов за восемьдесят лет провидел, что тогдашняя несправедливость обернётся сегодняшней кровавой трагедией на Балкнах? Или в другом месте: Заставил несколько пригоршней воды дроплыть вместо Каспийского моря в Ледовитое. Нет ли здесь предчувствия страшных затей с переменой течения рек, которыми увлекалось советское руководство в последние дeсятилетия своей власти?
Однако, оставляя в стороне эти отдельные угадки и совпадения, мы можем утверждать, что в ХХ веке сбылось более общее, глубокое и страшное художественное озарение Хлебникова: война между возрастами.
Всё чаще, все настойчивее всплывает на экранах наших телевизоров и на страницах журналов и газет этот образ: мальчишка с автоматом Калашникова, с ручной гранатой, с зажигательной бутылкой, с пистолетом. Диктор, словно не замечая возраста, продолжает называть его “повстанцем”, “демонстрантом”, “бойцом освободительной армии”. Но мы-то видим: это же дети, сплошные дети! Дети с повязками красных кхмеров на головах выгоняли взрослых из камбоджийских городов на верную гибель в бесплодных полях. Увешанные патронташами дети пробирались в джунглях Сальвадора, Никарагуа, Перу. Девятилетний афганский мальчик рассказывал в объектив, как легко ему было пробраться на кабульский базар и подложить гранату в корзину с перцами. Арабские дети и подростки осыпают камнями израильские патрули, а взрослые угрюмо и безнадёжно смотрят на это из дверей и окон.
Нет, конечно, не призывами русского поэта Хлебникова всё это было вызвано к жизни. Он лишь, как настоящий художник, ощутил раньше других этот болевой полюс эмоционального напряжения в человеческом сердце и отразил его в парадоксально гротескных формах. Можно, скорее, обвинить технический прогресс, который уравнял силы взрослого и подростка, дав последнему в руки автоматическое оружие. (Уже немецкие нацисты пытались использовать это, посылая батальоны гитлерюгенд в последние месяцы войны навстречу наступавшим армиям союзников.)
Но так или иначе пришло время расстаться со стереотипом, связывавшим всё светлое и доброе с детским состоянием души. „Слезинка ребёнка”, положенная Достоевским на весы судеб мира, сильно полегчала. Сегодняшний ребёнок сделался способным сам вызвать море слёз, а то и крови, и не испытать при этом ни малейших угрызений совести, до которых он просто не дозрел.
Один из героев Платонова говорит в конце «Котлована»: „Коммунизм — это детское дело”. Шестьдесят лет спустя глубокая мудрость этих слов стала очевидной. Ибо не на конкретно-историческом и кроваво-социальном, а на более глубоком — метафизическом и психологическом уровне коммунизм есть не что иное как очередное воплощение вечной детской мечты человека о жизненном устройстве, в котором не надо будет ни за что отвечать — ни за свои грехи, ни за чужие страдания, ни за разорение земли, ни за омертвение души. Потому-то ребёнок, подросток оказывается таким удобным инструментом в разрушении мира взрослых, мира, держащегося — что бы мы о нём ни думали — на чувстве долга и ответственности.
Ответственность художника в этом мире — дать нам глубже понять и почувствовать потаенные течения человеческих страстей в тех тёмных катакомбах души, до которых у нас самих не хватает смелости или таланта спуститься. Думается, и Хлебников, и Платонов этот свой долг выполнили.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||