Виктор Ховин
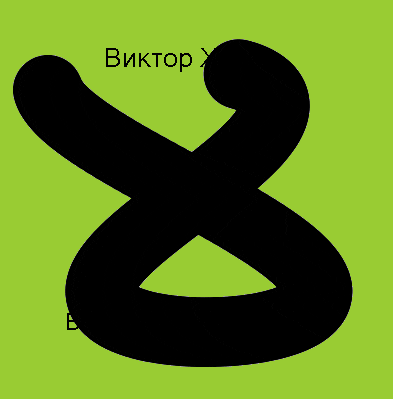

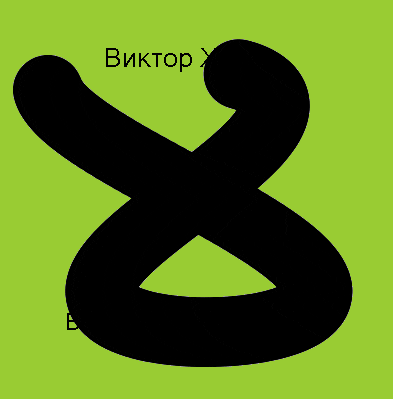

Из Москвы я уехал в Петроград на свиданье с Маяковским и Хлебниковым.
И, конечно, сразу же очутился на штабной квартире петроградского футуризма
у Осипа и Лили Бриков, где постоянно собирались Маяковский, Хлебников,
Шкловский, Рюрик Ивнев, Ховин, Эльза Триоле.
В. Каменский. Путь энтузиаста.
У Виктора Ховина вместо рубашки была надета афиша «Очарованного странника».
Лиля Брик. Из воспоминаний.
Нигилизм Ховина приводит его к отрицанию фактов. Садясь на лошадь, он перепрыгивает через неё.
В. Шкловский. Книжный Угол. 1922. №8. С. 59.
Говорить правду — это искусство, труднейшее из всех искусств.
М. Горький. Несвоевременные мысли.
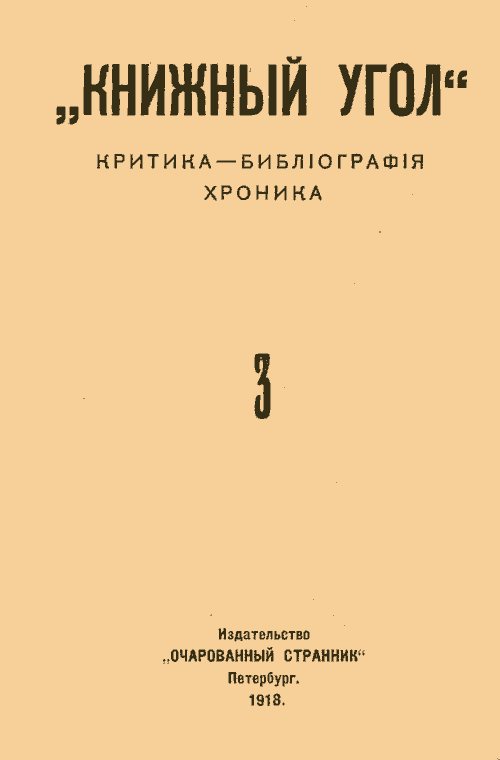 По моим данным, «Книжный угол» выходил с 1918 года (№№ 1–5), №6 увидел свет в 1919-м, №7 в 1921-м, №8 — в 1922-м. Вынося за скобки Василия Розанова, которому Ховин прямо-таки поклонялся, и Бориса Эйхенбаума, которому не очень-то благоволил, из аннальников русского футуризма в «Книжном Углу» сиживали Виктор Борисович Шкловский, Юрий Николаевич Тынянов (Ю. Ван-Визен) и Осип Максимович Брик.
По моим данным, «Книжный угол» выходил с 1918 года (№№ 1–5), №6 увидел свет в 1919-м, №7 в 1921-м, №8 — в 1922-м. Вынося за скобки Василия Розанова, которому Ховин прямо-таки поклонялся, и Бориса Эйхенбаума, которому не очень-то благоволил, из аннальников русского футуризма в «Книжном Углу» сиживали Виктор Борисович Шкловский, Юрий Николаевич Тынянов (Ю. Ван-Визен) и Осип Максимович Брик.В.М.
В. Брюсов цитирует в «Эпохѣ» В. Розанова:
„А стишки пройдут, даже раньше, чѣм истлѣет бумага”...
И возмущенно оппонирует В. Брюсов:
Бѣдный, бѣдный, г. Розанов. Шутка ли “отповѣдь” такую пережить?
Но не думаете ли Вы, г. Валерiй Брюсов, что у г. Розанова про „стишки” — это немножко серьезнѣе, а главное умнѣе и глубже, чѣм полагали Вы в ражѣ своего возмущенiя?
К тому же, не кажется ли Вам, что и г. Розанов, и даже “чернь”, знакомы, давно знакомы, с блестящей аргументацией Вашей в защиту поэзiи?
И как же полагаете Вы, столь основательно вскрывающей в той же статьѣ содержанiе понятiй “пошлый” и “банальный”, — как же полагаете Вы касательно своей “отповѣди” Розанову, что она — пошла, банальна, или просто на просто не не в мѣру... развязна?
Вышел №1 литературной газеты «Ирида».
Не газета, а Пантеон какой-то.
Недаром у «Ириды» такой величаво-спокойный, исполненный благолѣпiя и торжественности тон.
Читаешь когда, если бы только не указанiя в передовицѣ на какiя то там типографская затрудненiя и еще всякiя вскольз брошенныя замѣчанiя, кажется, что в Россiи нашей решительно ничего не произошло и даже наоборот.
Взгляните только хотя бы на заглавiе статьи академика Н. Котляревскаго:
«О нем наше первое слово»!
О ком?
Да о Пушкинѣ.
Тут Россiя разсыпается, прогнившая крошится на кусочки, а академик Котляревскiй как застыл на позавчерашнем словѣ, так с мѣста его не сдвинешь.
И всю «Ириду» тоже.
Вы бы, г-да академики и профессора, велирѣчивости и благолѣпiю своим хотя бы на минуту измѣнили.
Ну зарычали бы от боли, вѣдь больно же Вам?
Или выругались бы скверно, о благопристойности забыв.
Неужто же из “него” Россiю строить собираетесь?
Или же сладким томленьем по “нем” обновить ее хотите?
И не кажется ли Вам, что подпоркам из академическаго благодушiя сейчас не выдержать.
Вѣдь не выдержат же?
У лѣваго эс-эра Александра Блока настроенiе душевное не оставляет желать лучшаго.
„Думаю, — пишет он в №1 «Нашего Пути», — не так уж мало сейчас людей, у которых на душѣ весело, которые хмурятся по обязанности”.
Значит весело Александру Блоку?
Еще бы не весело было в таком идиллическом настроенiи:
Вдыхать нѣжные запахи апельсиновых рощ, конечно, всякому лестно, но ведь до сих пор „мiровой циклон” таковых до нас донести не успѣл и сам Ал. Блок признается, что „пока донесет, Россiи суждено пережить муки, униженiя и раздѣленiя”.
„Стыдно сейчас, — продолжает Блок, бодростью упоенный, — надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россiей, над которой пролетает революцiонный циклон”.
Но не постыдно ли муки и униженiя сегодняшней Россiи ублажать рощами апельсиновыми?
И не отвратительно ли униженную Россiю поучать сейчас елейными и паточными словами той же статьи из «Нашего Пути»:
Не стыдно-ли, Александр Блок?...
К. Бальмонт написал брошюру под названiем:
«Революцiонер я или нѣт»
Неужели и этот будет сейчас веселиться на страницах новой брошюры и спѣшить в выраженiи вѣрноподаннических чувств?
Однако оказывается, что этот то как раз и не веселится вовсе, и даже наоборот — изнывает в гнѣвѣ на тѣх, кто „упивается кровью, утирается жестокостью, улыбается убiйству и обнимает грабеж”.
И про запахи апельсиновых рощ и мiровые циклоны в брошюрѣ Бальмонта тоже ничего не сказано.
Но все же и Бальмонт “радуется”, правда радуется по своему.
— Кто я? — спрашивает он.
— Русскiй... по происхожденiю сын помѣщика и дворянин ...по судьбѣ своей прославленный поэт, имя котораго извѣстно не только в Россiи, но и в Европѣ, и дальше в Японiи, гдѣ у меня есть вѣрные почитатели и преданные друзья.
А дальше слѣдуют неинтересные разсказы из бiографiи, ужасно неинтересные, хотя и вѣрим мы, что у поэта есть почитатели даже в Японии, отчего разсказы из бiографiи решительно ничего не выигрывают, также как и политическiя разсужденiя Бальмонта о том, что „мip стоит на неправдѣ” и что „всѣ должны пользоваться благами жизни и приникать к красотѣ Mipa”.
Политическiе же стихи Бальмонта, собранные в брошюрѣ, тоже отнюдь не свѣтят отраженным свѣтом озареннаго имени поэта, а по существу дѣла суть просто на просто скверные, совсѣм скверные, и недостойные стихи.
И удивляешься, как в этой брошюрѣ, посвященной „Родному Дому — Россiи”, зовущей „во имя человѣческаго достоинства и честной, а не постыдной, жизни — к бою”, как много в ней ненужных и часто постыдных слов и как мало о Родном Домѣ.
„Но в мipѣ, гдѣ лгут, все не то”,— говорит Бальмонт. Однако то ли — в послѣдней брошюрѣ самого поэта?..
Книжный угол. Петербург: Очарованный странник. 1918. №2. С. 23–26.
Не государство, а сплошной Олимп какой-то.
Ни одна из муз не забыта.
Каждая нашла себе приют в особом, специально для этого приспособленном, Отделе Комиссариата Народного Просвещения.
А при отделах комиссии и комиссии без конца. Целая сеть комиссий.
Лучшие особняки, лучшие дворцы, — всё отдано на алтарь искусства.
И уже не чиновники, а сами поэты, художники, артисты стоят на страже современного Олимпа.
И не просто поэты, художники, артисты, но “лучшие силы” из них, даже — какова отвага просвещённой государственной власти? — привлечена молодёжь, та самая молодёжь, которая только вчера ничего кроме издёвки не встречала, ещё не вылезшая в “имена”, не признанная и известная только в небольшом кругу единомышленников.
И всё это после того, как русская художественная жизнь влачила своё никому не известное и никого не интересовавшее существование где-то на задворках общественной жизни, предоставленная самой себе и благодеяниям по большей части весьма прижимистых российских меценатов.
Ну, а помимо задворок да меценатов, была ещё дряхлая, расслабленная, бездарная опёка художественной бюрократии из академиков и титулованных знатоков.
Только вчера, а сегодня...
А сегодня?
Но только отчего же так не весело сегодня?
Отчего комиссии большевистской России страдают всё тем же хроническим несварением, каким страдали всяческие комиссии архаической России?
Отчего свобода творческой инициативы и художественной самодеятельности подменена тиранической опёкой государственной власти?
Отчего “живые силы” и “буйная молодёжь” погрязают в бюрократизме комиссариатских канцелярий?
Отчего “новое” искусство так откровенно совпадает с искусством верноподданническим и по-старому, на новый лад, “высоко патриотичным”?
Отчего так шумно скрипят перья официозных публицистов, бесстыдно путающих творчество новой культуры с апофеозами мудрой и просвещённой государственной власти?
Отчего не подумали те, коим вверено строительство новой жизни, что сейчас совершается неисправимая, роковая ошибка, и что новая жизнь должна созидаться поистине свободным, неискушённым творчеством?
Отчего у “живых и лучших сил” не просыпается чувство громадной ответственности за судьбы русского искусства, отданного ими в услужение и отдавших самих себя в услужение интересам государственной власти, и только государственной власти?
Отчего?..
Матрицы из типографии Марксовской «Нивы», с которых Комиссариат перепечатывает русских классиков — и чуть ли не в первую очередь Салтыкова, — это ли не трагический символ бессилия правительственных делателей новой культуры?
Вы только подумайте!
Матрицы «Нивы», этого кита российского интеллигентского Просвещения, в руках “коммунальных” просветителей.
Классики, как первый кирпич в фундаменте “Новой культуры”, творимой небывалыми ещё новаторами, небывалыми революционерами мысли, непримиримыми разрушителями старой цивилизации.
Салтыков, пропагандируемый с необычайным рвением Красными Газетами, из номера в номер занятыми недостойной травлей той интеллигентской мысли, которая просто-напросто должна была быть изрядно забыта.
Это ли не символ бессилия?
Это ли не трагедия творческой немощи?
И не нивские ли матрицы — тот мост, который пытаются перекинуть ретивые новаторы к новому искусству?
И не в архивах ли Российских академий пытаются обрести они пафос строительства Новой России?..
Неудачливый садовод комиссар Луначарский.
А „фиалки грядущей весны пролетарской культуры”,1![]()
Букет чертополоха из «Пламени», «Грядущего», «Творчества» и иных злаков на ниве государственно-пролетарской культуры.
„Пролетарская культура, выражая собою внутреннее содержание нового творца жизни, пролетариата”2![]()
Однако, какой ужасный поклёп на „нового творца жизни”, если и «Творчество», и «Грядущее» и «Пламя» — выражение его внутреннего содержания.
— Да, помилуйте, г-да садоводы, ведь это же просто-напросто Некрасово-Апухтино-Надсоновская слякоть, сдобренная красотами газетно-демагогического лексикона. И какого жалкого, какого ничтожного лексикона.
Новый творец жизни тут ровно не при чём. Не вышел он на пути, проложенные Вами к Новой Жизни, не вышел, ибо нечего делать ему в “парниковой” атмосфере комиссариатского садоводства.
Разве же проникают туда лучи солнца?
Разве же делают весну наёмные одописцы?
И какие же фиалки расцветут там, гражданин Луначарский?..
Митинг трудовой интеллигенции?
Ну, конечно же, не напрасно был этот митинг.
И имя Максима Горького жирным шрифтом печаталось тоже не напрасно.
Что из явного оппозиционера маститый писатель превратился в недвусмысленного сторонника советской власти — это всем очевидно.
Что его председательствование на митинге являло собой весьма двусмысленное примирение интеллигенции с правительственными докладчиками — это тоже не вызывает сомнений.
Но кому нужна была эта мировая?
Вот поистине безответный вопрос.
Неужели творцам новой жизни?
Творец новой жизни! это звучит гордо.
Но неужто же не хватило у него собственной творческой силы?
Не хватило творческого энтузиазма?
Или же призывный клич к творчеству новой жизни звучал так нестерпимо фальшиво, что творческие силы остались безучастными, и пришлось идти за подаянием?
А фиалки, значит, оказались отнюдь не фиалками, но чем-то совсем другим?
Или же это — просто-напросто демонстрирование своей силы, дипломатическое, правительственными мерами предусмотренное, манифестирование с овациями, гимнами, адресами, салютами и прочими атрибутами “сильной власти”?
Но только — кому же нужна была эта шумливая буффонада?..
Да неужели действительно не понимают государственные садоводы, что совершается сейчас непоправимая, роковая ошибка?
Неужели не понимают?
И не в том ли она, что на грядах государственного садоводства тиранической опёкой блюстителей чистоты “пролетарской” культуры ничего кроме чертополоха и выращено быть не может?
Не в том ли эта роковая ошибка, что только путь широкой самодеятельности художественных групп есть путь истинной художественной культуры?
Не в том ли она, что истинно демократическое искусство, созидающее новые формы и дающее миру новое содержание, непримиримо с канонами, вырабатываемыми в комиссариатских канцеляриях?
И неужели не понимают они, что “новые формы” и “новое содержание” не исчерпывается той жалкой, исключительно внешней бутафорией революционной действительности, которой так рьяно украшаются “дворцы” пролетарской культуры?
Неужели не понимают, что на жалких грядах государственного искусства и культуры насаждается сейчас безобразнейший бурьян самого отъявленного и жалкого “нового” академизма, и что заросшее этим бурьяном садоводство не есть новая жизнь, новая культура?..
Книжный Угол. Петербург: Очарованный странник. 1918. №4. С. 1–5.
Г.г. большевики имеют законное право
определять моё поведение так, как им угодно,
но я должен напомнить этим господам,
что превосходные душевные качества русского народа
никогда не ослепляли меня,
я не преклонял колен 3![]()
и она не является для меня чем-то настолько священным,
что совершенно недоступно критике и осуждению...
Теперь, когда известная часть рабочей массы,
возбуждённая обезумевшими владыками её воли,
проявляет дух и приёмы касты, действуя насилием и террором...
теперь я, разумеется 4![]()
в рядах этой части рабочего класса.
М. Горький. Несвоевременные Мысли.
Как будто бы немножко бестактный эпиграф? Действительно бестактный.
Сам знаю, что — бестактный, недаром из книги, которая «Несвоевременными мыслями» названа.
Только когда же „несвоевременными” были мысли эти? — тогда ли, когда пришли на ум писателю, или теперь, когда вспоминаются и напоминаются ему?
На свет появилась книга эта в те времена, когда М. Горький, „гуманитарными и идеалистическими” соображениями побуждаемый, „правду” собрался говорить.
И говорил эту правду.
Даже с сознанием собственного героизма говорил, ибо „говорить правду — это искусство, труднейшее из всех искусств”. Но настолько трудным оно оказалось, что М. Горький от позы своей героической отказался и замолчал.
Впервые откровенно и публично замолчал он на митинге трудовой интеллигенции. Впречем, на митиге, кажется, горло у писателя болело, потому-то он и вправе был ни одного слова не произнести.
Но неужто с тех пор так у него всё горло и болит?..
От горла, конечно, „говорить правду” можно перестать, но только зачем же вдруг „коленопреклоненным” его видим? — к этому уж больное горло ни в какой мере не обязывает.
И почему то, что раньше „разуметься” должно было, сейчас отнюдь не разумеется, а как раз наоборот?
Правда, М. Горький всегда „сторонником активного отношения к жизни был” («Несвоевременные Мысли»), но только отчего активность его по пути „коленопреклонения” пошла?
Что же случилось в мире „зоологических инстинктов”, в царстве „невежества политики” и „политики невежд”, заставившее писателя изменить своим первоначальным побуждениям?
Что сталось с кровавыми лоскутками его правды человеческой, не связанной „с интересами личностей, групп, классов и наций”?
Что сталось с ними?
Быть может, новую правду нашёл он?
Ну так отважьтесь же ещё раз на героизм, М. Горький, и скажите свою новую правду.
Или... старые кровавые лоскутки мешают?..
Что это — безответственность или хуже?
Издать в 1918 г. «Революционную хрестоматию футуристов», состоящую почти целиком из старых, пусть заслуженных, но в своей заслуженности поседевших вещей, это — только бессилие.
Но, поместив в той же хрестоматии предисловие г-на Луначарского, “литературная коллегия”, редактировавшая сборник, обратила против себя „пощёчину”, нанесённую когда то футуризмом общественному вкусу.
И какая вышла звонкая, какая позорная пощечина! Полупризнание таланта Маяковского, двусмысленно покровительственное отношение к футуризму вообще, не менее двусмысленная поза меценатствующего “любителя литератур и искусств”, — это ли не пощёчина?
И пусть вспомнят те, кто расписался теперь в её получении, пусть вспомнят г-да футуристы из “литературной коллегии”, что в эпоху создания ими «Пощёчины общественному вкусу», в ту эпоху существовал уже литератор Луначарский.
И кому тогда предназначалась та, первая, „пощёчина”?
Не литераторам ли Луначарским?
А теперь?
Чьего покровительства ищет теперь “литературная коллегия”?
— Литератора или комиссара Луначарского?
Ответ почти очевиден.
Ну, а тогда, что же такое «Революционная хрестоматия футуристов»?
Безответственность или...
хуже?...
Футурист Маяковский написал пьесу.
Критик Луначарский одобрил её.
А комиссар народного просвещения Луначарский способствовал изданию пьесы и постановке её на сцене.
Такова краткая хроника событий.
Впрочем, пьеса Маяковского — не просто пьеса, а апофеоз советской коммуны, а постановка её на сцене с одобрения правительственной власти — не просто постановка, но признание фабрикантами новой культуры не признанного, гонимого буржуазной культурой, молодого искусства.
Всё это было бы так, если бы не случился критик Левенсон, которому пьеса решительно не понравилась, и который не менее решительно выругал её на страницах комиссариатской газеты «Жизнь Искусства».
Критик Левенсон не принадлежит к кругу тех людей, вкусы которых я разделяю, но на этот раз критик Левенсон оказался почти правым и, даже больше, окончательно правым, правее, чем ему самому, вероятно, казалось, и все те обвинения, которые первоначально он высказал — пожалуй, несколько смело и неосновательно — нашли себе в дальнейшем полное и, увы, позорное оправдание.
Пьеса Маяковского — пьеса действительно неважная.
Пьеса плоского остроумия и фальшивого, неумного, а чаще — прямо вульгарного и глуповатого пафоса.
Пьеса, хотя и высоко патриотичная, но гарцующая на весьма недостойных трюках откровенного версификаторства, расчитана на весьма невзыскательные вкусы, но тоже высоко патриотичные.
Впрочем, „громкое ура”, овации и все прочее незамысловатым замыслом пьесы были обеспечены.
И гордый Мафарка русского футуризма был искушён.
А эстетизирующему критику Левенсону была предоставлена незавидная участь радоваться совершенно явной неудаче этого, с позволения сказать, футуристическо-большевистского трюка Владимира Маяковского.
Но какое дело русскому футуризму до неудачных трюков г-на Маяковского?
Русский футуризм может отнюдь не завидовать лёгким победам г-д Левинсонов над “молодым искусством”, ибо даже в «Революционной Хрестоматии», которая явилась плодом “новаторских” затей “футуристов из большевиков”, было предусмотрено, что „критики за грехи одного, назвавшегося футуристом, требуют к ответу всё течение”.
Мы вправе были бы не заметить неудачный акробатический прыжок Маяковского с большевистски-футуристических трапеций.
Мы могли бы обойти молчанием и весьма жалкую, до смеха жалкую, позу, принятую затем неудачливым акробатом, когда г. Маяковский письмом в «Петроградскую Правду» на имя „товарища Луначарского” требует последнего к ответу за то, что он, одобривший пьесу, назвавший её „единственной пьесой революции”, позволяет не одобрять пьесу на страницах советской печати какому-то Левенсону.
О, это требование к ответу комиссара народного просвещения, эта гордая поза великолепного возмущения, по существу же дела — просто хватание за вицмундир одобрившего начальства, это — поистине достойно цирковой арены.
Достойно, если бы... если бы не требование поэтом Маяковским административного воздействия на Левенсона. если бы не игра такими жупелами, как напоминание о сотрудничестве жестокого критика в „гнусной покойной Речи” и т.п.
Но, когда одновременно с Маяковским целая группа “деятелей искусств”, выступая на защиту поруганного поэта, „гонимого когда-то царской полицией” (какие пошлые, какие гнусавые слова), когда эта группа “деятелей” жонглирует теми же намёками, теми же жупелами, когда и она требует „административного воздействия” на буржуазного критика из «Речи», когда и она спекулирует на одобрении пьесы Маяковского „идеологом пролетариата товарищем Луначарским” и говорит о саботаже, скрытом в критической заметке г-на Левенсона, то всё это далеко выходит за пределы акробатических трюков.
И когда всё это проделывается во имя защиты оклеветанного футуризма “футуристами” в чиновничьих кокардах, когда письмо в «Жизнь Искусства» подписывается г.г. Школьником, Пуниным, Бриком наряду с нежданными апологетами футуризма г-ми Чехонинами русского искусства, то не наше ли право прервать эту недостойную спекуляцию на футуризме?
Мы спокойно наблюдали за разнузданной суетливостью отдельных господ, поспешающих за победной колесницей победителя;
Мы молча смотрели, как в течение долгих месяцев эти господа суетились в передних большевизма;
Ибо мы знали, что „за грехи одного не ответственно всё течение”.
Но теперь, когда неблаговидные успехи и не менее неблаговидные неуспехи отдельных “футуристов” приобретают значение событий в жизни футуризма, когда субъекты, понявшие весь вкус и все удобства навыков новой власти, проявляемых в широком применении административных воздействий и пользуясь тем, что этими административными воздействиям и прервана живая жизнь молодого искусства, обречённого, как и всё, на молчание, пытаются использовать выгоды своего “свободного” существования,
— Не пора ли нам теперь закрыть эту позорную страницу русского футуризма?
Не пора ли?!
Неужто и на этот раз живая, творческая, молодая Россия ответит нам бессильным молчанием?..
Книжный Угол. Петербург: Очарованный странник. 1918. №5. С. 1–6.
Ещё так недавно писал я в одном из номеров «Книжного Угла» (и казалось — это был глас вопиющего) о художниках новаторах, пытающихся отвоевать себе положение “государственной” художественной школы, о „футуристах”, — нежданных деятелях официального искусства, а уже вокруг всего этого поднялась шумиха с лёгкой руки комиссара народного просвещения.
А.В. Луначарский в статье, помещённой в органе сановных футуристов,5![]()
«Искусство Коммуны», видите ли, орган всё-таки “футуристический”, сохранивший в известной степени и старую терминологию, и багаж старых лозунгов (со включением туда ходячих слов современности), и “футуристичность” сего органа „смутила” комиссара народного просвещения, который, сохраняя, впрочем, и на этот раз по отношению к молодёжи отеческий, укоризненно-благодушный тон, пишет следующее:
“Новаторы” же, проглатывая сию ложку противоядия, замешанную на изрядной дозе весьма сомнительных комплиментов (хотя бы это великолепное „не беда”!), пытаются снять с себя обвинение в том, что будто бы хотят они “использовать” государственную власть для проведения своих “художественных идей”.
Пытаются, но... но забывают, что только в предыдущем номере «Искусства Коммуны» какая-то анонимная группа поэтов тосковала о том, что в „искусстве не проводится железная последовательность большевистской программы”.
Железная последовательность?
О, мы хорошо знаем цену этой „последовательности”. И мы также несомненно знаем, что, тоскуя о ней, группа левых поэтов тосковала о помощи железной длани красноармейца.
Недаром так неустанно и упорно «Искусство Коммуны» улавляет на страницах своих „гидру реакции и контрреволюции в искусствах”.
Недаром с психикой, взрощенной в полицейском участке или каком ином застенке и с терминологией, заимствованной у Русского или какого иного Знамени, требует она железной последовательности.
Впрочем, «Искусство Коммуны» вовсе и не пытается окончательно снять с себя обвинение в том, что хочет она использовать государственную власть. Даже наоборот, она не прочь использовать её (пока не использовала, но не прочь), если бы
„нам позволили использовать”.
Однако, какое голое, какое неказистое
„не позволяют”.
В нём подноготная того “футуризма”, который представляется “футуристами” из «Искусства Коммуны», и отсюда та линялая оппозиция, которою щеголяет иногда эта газетка, и которой пытается подменить она былое бунтарство былого футуризма.
Недаром из номера в номер «Искусство Коммуны», не переставая, впрочем, ставить знаки равенства между футуристическими чаяниями своего прошлого и всесильными сейчас понятиями ублюдочного языка современности, не уставая заверять нас, и не столько нас, конечно, сколько “их”, в своей изначальной верности большевистской идеологии, не может примириться с нерешительностью, и безучастностью своего господина к ним, первенцам коммунистической России.
Им многое позволено, но не всё. От железной же последовательности большевистской идеологии можно было бы требовать и большего.
И когда пишут художники футуристы в пылу мирной и домашней полемики с Луначарским, что „обольщать себя ложными победами, утверждать формальное своё господство им не свойственно”, и когда бросают они гордый вызов:
„Враги, если вы существуете, ждём вас”,
Впрочем, и сейчас в своём скромном негодовании они очень дипломатичны, очень осторожны и себе на уме, эти вылинявшие футуристы:
лишь бы не обидеть попечительное начальство, лишь бы не обмолвиться неосторожным словом.
Ну, а неудавшаяся карьера, желчь не получивших вовремя повышения чиновников и для всех проистекающих отсюда благородных чувств и мирной оппозиции, — для всего этого, не правда ли,
— гидры реакций и контрреволюций существуют?
А факты, которые даже «Искусство Коммуны» иногда из состояния равновесия выводят, — факты действительно удивительные.
Русские интеллигенты и те, всегда, правда, “объективностью” болевшие, даже те, про враждебность свою современности позабыв, не перестают восторженно удивляться.
Впрочем, они-то восторженно удивляются, я же с «Искусством Коммуны», объективности чуждые, отнюдь не восторженно, хотя и по-разному, удивляемся.
Ах, уж эти широкие начинания в области наук и искусств, которые даже заледенелые в антибольшевизме сердца интеллигентов в трепет привели:
— Всё-таки, знаете, во имя объективности нельзя не признать... Эта громадные суммы, которые тратятся, эти университеты, школы, институты, эти театры, издания, предприятия, эти...
И никто не хочет понять, что только от неспособности, бессилия и безучастности и эти институты, и эти предприятия, и эти издания. — Вся устрашающая бесстильность, широкая раскиданность, многоликое безвкусие современности.
Никто не хочет понять, что современные Лоренцы Великолепные, Возрождением искусств и наук будто бы на Руси занятые, — окончательными и решительными душителями творчества являются.
Это только один Лоренцо на путях Возрождения встретился, но отнюдь не всякому комиссару дано Лоренцо быть, точно также, как и не всякому коммунару обязательно в искусствах понимать и поэтом, примерно, быть, и даже не двум, трём или целому совету комиссаров обязательно Возрождение делать.
Ну, ещё политику можно сделать, ибо политика и скверной может быть, но уж искусство скверным не бывает; также как и Возрождение, ибо какое уж тогда Возрождение?
И когда всмотришься в эту необычайную картину просветительно-литературно-театральной и пр. деятельности правительства, то до ужаса удивляться приходится, как ничего, по существу ничего, не изменилось, — как в старом разбитом рыдване русская культура по старым ухабам и новым топким трясинам томительно плетётся.
И какие только породы человеческие не впряглись в победоносную, с позволения сказать, колесницу победоносного героя современности. Даже вымершими казавшиеся породы здесь оказались, не говоря уж о давнишних паралитиках русской культуры, которые, думалось, под руинами российскими с остатками живой жизни расстались.
И они впряглись.
И какую бойкость, какую резвость проявили. И тащат, тащат во все четыре стороны рыдван вышеуказанный.
Герою же никак вожжи не сдержать, вот он и плюнул:
— Тащите мол, куда хотите.
— Впряглись, и ладно. Мне всё равно. Лишь бы норовистых не было — в упряжи идти не желающих.
Этих “герой” действительно терпеть не может. И предал их за то остракизму и анафеме всяческой.
Вот и сравните теперь прежних меценатов и нынешнего.
Конечно, и при прежних остракизм и анафема бывали, но там это было дело вкуса, а потому и формы их другие были, здесь же — исключительно от безвкусия (т.е. вкус тут ровно ни при чём, а совсем другое), также как и широкая приемлемость тоже от безвкусии (лишь бы не норовистость).
А главное, умри завтра Лоренцо, или в отставку подай — и вся “культура” прахом пойдёт, все Возрождение вдребезги разлетится.
— Косметика с лица сегодняшнего дня осыплется; так и будет он, похабно ухающий, без своего фигового листка ходить.
Только по мне — лучше бы прахом пошла и вдребезги разлетелась.
Терпеть не могу платья с чужого плеча, и как-то, сознаюсь, за сегодняшний день обидно, за чистоту идеи его: смотреть даже тошно, как линяет он и в бесстильности ужасающей разлагается.
Не говорю уж о том, конечно, что изменение основ Государства Российского ознаменовать следовало хотя бы большей гласностью в вопросах “поддержек”, субсидий и пр. благ, щедрой рукой Лоренцо искусствам раздаваемых.
Только и слышишь:
Вы только не подумайте, что это намёки какие-нибудь определённые, что кляузы писать собираюсь. Отнюдь нет, но только и с существом самим, и со всеми манерами, меценатства правительственного я никак примириться не могу.
Тем же, кто в колесницу впрягся, тем, — сейчас-то им, правда, некогда: за полноту власти, обрывки порфир и кое-что другое борются; ну, а потом стыдно будет, даже очень стыдно.
Ведь за “художественные” дела ответить-то придётся.
Ну и что же ответят тогда?
А другие, — что в стихии разрушения и беспардонного нигилизма культуру своим самопожертвованием спасали?
Только первые роковым бессилием своих попыток осуждены будут.
А вторые? А вторым-то и спасать нечего было, ибо если спасать хотели, то не архивы же на самом деле или музей какой-нибудь спасать сейчас.
Ибо, что такое и культура вся, и великие памятники, и искусство всё, когда человека спасти нужно было.
Я, конечно, обиняками говорю и слова возвышенные употребляю, когда дело ведь совсем простое и мотивы простые.
Когда только о приспособляемости позорной и гнусной говорить следует.
Уж не лучше ли без оправданий совсем?
Не лучше ли с гнусностью этой сквозь годы позора прошмыгнуть как-нибудь?
А потом запамятовать её, гнусность-то, можно?
Ну, а память-то как будто прокурор не из страшных?
Книжный Угол. Петербург: Очарованный странник. 1919. №6. С. 10–16.
Взволнованная статья Б. Эйхенбаума, помещённая несколькими страницами выше в этом же выпуске «Книжного Угла», взволновала и меня, — взволновала подлинностью и значительностью своих переживаний, мучительностью своей темы, жуткой правдивостью первопричин, её вызвавших.
Для меня очевиден ужас тех “следствий”, тех фактов нашей реальной, нашей сегодняшней жизни, которые обуяли отчаянием Б. Эйхенбаума, и ещё ближе мне то чувство ответственности, о котором говорит он, за наше “вчера”, за то, что мы „проводили ночи в спорах или в беспечном веселье, потом влюблялись, женились; трудились, творили” и делали это „недаром”, и, наконец, я так же, как и он, задыхаюсь, не могу не задыхаться в страшном затишье жизни, которое умертвило живую душу сегодняшнего дня.
И всё же...
Всё же Б. Эйхенбаум жестоко обманул меня. Обманул меня началом своей статьи, тем, что, судя именно по началу, мы до конца могли бы быть с ним единомышленниками. Обманул тем, что, цитируя в начале статьи слова своего “друга” о том, что „мировая война наша есть порождение символизма: люди перестали ощущать мир, людей, вещи; если бы ощущали — не могли бы воевать”, он пренебрёг какой-то значительной и уместной правдой этих слов и, говоря о «Записках Мечтателей» и об Андрее Белом, совсем запамятовал их.
Я понимаю, что внимание его слишком поглощено “следствиями” и “случайностями” нашего времени, и ему не до символизмов теперь. И дело не в том, что он, очевидно, приемлет «Записки Мечтателей» в то время, как я их совсем не приемлю. И не в том дело, что он принял всерьёз подлинность переживаний Андрея Белого, а я уличаю последнего в самой ужасающей и раздражающей литературщине, что он поверил “кризису”, переживаемому „мечтателями” из «Записок», а я не верю ему, что именно в «Записках» увидел он „миг сознания”, а я его там не вижу, а вижу только роковую необходимость откликнуться и как-то преодолеть сегодняшний день, необходимость, которая разрешается в «Записках» преодолением “кризиса” не сознанием вовсе, а словесной фразеологией и литературной маской.7![]()
Но, запамятовав слова своего “друга”, поддавшись непонятному для меня обаянию литературной истерики сегодняшних мечтателей, сам Б. Эйхенбаум затемняет “миг сознания”, о котором говорит, умеряет трагический ужас “следствий” и низводит потрясающую жуть “случайностей” до частностей, теряющих свой потрясающий смысл.
“Миг сознания”, по Эйхенбауму, как бы ограничивается и исчерпывается авторскими исповедями, где каются, надрывно кричат и гневно требуют.
С какой настойчивостью передаёт он „раздражённые” слова А. Белого, обращённые к русским читателям, что «Эпопея» его (А. Белого) требует уединения, покоя и сосредоточенности жизни, а этого покоя и сосредоточенности у него нет, как беспокоит его „глас вопиющего в пустыне”: нужен ли кому-нибудь «Петербург» и «Серебряный Голубь», или автор их нужен только предпринимателям литературных кафэ.
И Б. Эйхенбаум вместе с А. Белым призывает к ответу „господина русского читателя за то, что тот ничего не ответил на вопрос: нужен ли я кому-нибудь”?
А. Белый взывает: „О, дайте мне возможность бросить вас всех года на два... позвольте уйти от всех... я нуждаюсь в гарантии, что за этой нужной работой не умру я от голода”...
А Эйхенбаум сейчас же бичует г-на русского читателя: „Но кто же вы, к которым взывает Белый? От кого ждёт помощи или ответа? Или просто жалуется он”?
Но вот я, я — просто один г-н русский читатель, я не знаю, чего хочет и чего требует от меня А. Белый.
И я даже не знаю, по какому праву предъявляет вообще он какие бы то ни было требования ко мне?
Неужто действительно думает он, что самым величайшим безумием нашего времени было бы „Льва Толстого заставить служить, и безумием было бы Ибсена затащить в режиссёры”?
Или неужто весь трагизм “следствий”, обнаруженных сегодняшним днём в том, что „я не знаю: нужен ли я кому-нибудь” и допишу ли я «Эпопею»?
Пусть мы дадим А. Белому самые положительные и успокоительные для него ответы на эти вопросы, пусть «Эпопея» будет дописана, и пусть Львам Толстым и Ибсенам нашим, пусть даны им будут всяческие гарантии, — ужас, бессмыслица и отчаяние нашего существования не преуменьшатся от этого.
Перед лицом и этих “следствий” и этих “случайностей” мы давно перестали быть просто читателями, и мы просто и откровенно отказываемся от литературных судилищ над собой.
Человечно и по человечности откликнулся Эйхенбаум на взывы А. Белого.
„Не для читателей пишу я статью, — говорит он, — а для того, что нужно, чтоб хоть какой-нибудь человек попался на пути А. Белого”.
Но и мне, просто одному г-ну русскому читателю, так нужно, чтоб хоть какой-нибудь человек попался на моём тоскливом и печальном сегодняшнем пути. И это единственное, пожалуй, что нужно всем „господам русским читателям”.
Подумал ли об этом самом нужном для нас, для всех нас, А. Белый, когда писал свои статьи?
Как незначительна писательская трагедия его в сравнении с чудовищным трагизмом русской жизни.
И какая нужна душевная омертвелость, какое отсутствие отзывчивости и человечности, чтобы остаться так безучастным к боли, надрывающей сейчас души миллионам человеческих существ, чтобы драму сегодняшней жизни суметь уместить в перспективе своего рабочего писательского стола, чтобы остаться сторонним свидетелем мук человеческих, суметь не сделать их своими личными муками.
Я отнюдь не зову А. Белого „читать лекции, открывать академии, организовывать университеты и участвовать оригинальною темою статьи в любом сборнике”, ибо слишком хорошо знаю цену всему этому. Я даже соглашусь с ним, что „говорить о себе, своём личном, быть может, сейчас для нас, “пишущих”, есть единственное социальное дело”.
Я соглашусь со всем этим, но я не могу принять эту жалкую литературную истерику за подлинное и социальное дело. Я не могу не удручиться тем, что „своё личное” писатель ограничивает своей домашней трагедией, закрывшей от него весь остальной мир.
И я просто не хочу ничего знать и слышать о его „личном”, если это личное исчерпывается проблемами о нужности «Петербурга» или «Серебряного Голубя» или о необходимости ему, А. Белому, отпуска, для отдохновения от нашего печального „читательского” существования.
Они так незначительны — и этот «Петербург», и этот «Серебряный Голубь», и неоконченная «Эпопея» — наряду с одной, только одной, кровавой случайностью нашего времени.
„Погодите меня хоронить; я в себе ощущаю огромную силу”, — кричит А. Белый.
И кажется, это одной из очередных трагических поз какой-то весьма сценической, маски.
На эту тему мы слышали другие слова, которые „поистине говорили” „о себе”, о „своём личном”,— почти предсмертные слова В.В. Розанова:
И до жути этих слов никогда не подняться истерической риторике А. Белого.
Не прав ли был “друг” Эйхенбаума, когда говорил, что литературная школа виновата в том, что „люди перестали ощущать мир, людей, вещи”...
И не значит ли это, действительно, перестать ощущать мир, людей, вещи, если единственное социальное дело видеть в этой насквозь литературной трагедии, вознесённой на гомерическую высоту гомерическими ходулями литературных ухищрений и словесной изощрённой стилистики?
Книжный Угол. Петербург: Очарованный странник. 1921. №7. С. 25–30.
Сумбурный журнал.
И редактор сумбурный.
И сотрудники сумбурные.
Как же не сумбурные, когда в 7 выпуске «Книжного Угла» Эйхенбаум помещает одну статью, а Виктор Ховин на ту же тему совсем другую и диаметрально противоположную. В 8 выпуске тот же Эйхенбаум почтит юбилей Опояза всякими приветственными словами, а Виктор Ховин тут же „обругает” одного из китов Опояза Виктора Шкловского и „разнесёт” методологию его, Виктора Шкловского, своего главного сотрудника и чуть ли не соредактора и уж, наверное, самого верного друга «Книжного Угла», а Виктор Шкловский в свою очередь всячески готов „унизить” книгу этого же Виктора Ховина и ни во что ставит методологию последнего.
Как же тут обойтись без статьи на тему “Наши цели”, или “Наши задачи”, или “Pro domo sua”, как принято выражаться на изысканно газетном лексиконе, когда даже издания отнюдь не сумбурные и решительным единодушием блещущие, в которых и “цели наши”, и “задачи наши” насквозь и сразу видны, без таких статей не обходятся?
«Книжному Углу» уж, наверное, “pro domo sua” кое-что разъяснить совершенно необходимо.
Правда это, что с Эйхенбаумом я немедленно поссорился, правда и то, что вот сейчас Виктора Шкловского „обругаю” и методологию его начну разносить. Но всё же...
Все же и Б. Эйхенбаум и Виктор Шкловский — это чуть ли не единственные люди, с которыми я сотрудничать могу и с которыми «Книжный Угол» выпускаю и выпускать буду.
Вот с “драконовцами” какими-нибудь и разговаривать не хочу и с «Летописью Дома Литераторов» вряд ли у нас какая беседа произойти может, не говоря уж о всяких «Вестниках» нашей хиреющей «Литературы».
Правда „ссоримся”, правда „обругаю”. Но только современники мы с ними, т.е. доподлинные мы люди такого-то месяца 1921 г. — Интересы у нас одни, вкусы одни, волнения общие.
Это не важно, что вкусы свои мы по-разному мотивируем, что интересы каждый по-своему утверждаем, и волнения свои разными средствами успокаивать собираемся.
Мы хоть „ссориться” можем, а вот с «Летописью Дома Литераторов» — ничего не могу.
Вышла «Летопись», а мне не холодно и не жарко.
Пусть себе вышла.
Могла и не выходить...
И, действительно, с «Летописью» даже спорить не о чем.
Слова-то, как будто, сегодняшние: тут и “поэт и революция”, и «Эпопея» Андрея Белого, и про Вл. Маяковского, но не волнуют люди и сами не волнуются. А главное — ни в чём не сомневаются.
В статье «Наши Цели», в которой именно “рго domo sua” всё и написано, этой уверенности в себе и довольства собой уж очень много.
Тут и про „открывшиеся двери” Дома Литераторов, и про „весьма оживлённую культурную работу”, и про „самые широкие рамки”. Про всё сказано.
Даже общественные нотки проскальзывают, что вот, мол, „вновь откроется возможность общения с читателем, пусть в тесных и явно недостаточных пределах” и т.д., и т.д.
Но по мне — лучше бы этих „тесных и явно недостаточных пределов” совсем не было, чем заполнять их инспирированной, так сказать, шумихой вокруг «Смены вех», — явления совсем пустого и вызванного к жизни мотивами решительно сомнительными.
И не к чему было звать к себе, в Дом Литераторов, г-д Адрияновых и Гредескулов, этих безголосых пророков мировых катаклизмов, не имеющих ничего нам сказать такого, чего бы мы не знали без них и чего бы мы заведомо от них не ожидали.
Не нужны были одинаково и возражения целого ряда других лиц, — возражения, то полные лицемерия, фальши или просто откровенной лжи, то совсем ненужные своей никчемной и невыразительной словесностью.
Совсем не прав был оратор благодаривший Дом Литераторов за устройство таких собеседований, которые „вновь научат говорить тех, кто четыре года молчал и научат слушать тех, кто отвык слушать”.
— Прервать „четырёхгодичное молчание” лицемерной ложью или пустой фразеологией не значит „научиться говорить”, а я, один из тех, кто „отвык слушать”, предпочитаю процесс отвыкания удовлетворению этой пустой и ненужной шумихой.
„Тесные и явно недостаточные пределы” или должны быть заполнены напряжённым содержанием и людьми, чувствующими ответственность за содержание заполняемых ими пределов, или... да зияют они, эти пределы, своей естественной пустотой.
Обречённая попытка со стороны Дома Литераторов “делать” сейчас российскую общественность. Это — общественность уездного захолустья.
И не только идейное бессилие литераторов с Бассейной повинно в этом, но и внутренние пороки, коими страдают они безмерно.
Характерно, например, отношение Дома Литераторов к зарубежной русской общественности и литературе.
Какая такая общественность русская вне Дома Литераторов?
И что эта за литература русская, через конкурс Дома Литераторов не прошедшая?
Я-то отнюдь не сторонник всего “зарубежного”. Я даже не убеждён в том — существует ли вообще это “зарубежное”.
Четыре года из Петербурга носа никуда не казавши. чудится мне иногда, что помимо Невского да Литейного и мира-то никакого нет; готов поверить я тогда, что и литературы помимо домолитераторовской никакой нет, и что хребтом российской общественности действительно он, Дом Литераторов, только и является.
А хребтом этим Дому Литераторов ужасно хочется стать.
Так в хребты и норовит пробиться.
Этим я не хочу сказать, что какой-то другой хребет есть, и что хребет этот в каком-нибудь Берлине или Париже находится. Отнюдь нет. Какой уже тут хребет у русской общественности?
Но только и неприязнь Дома Литераторов к “зарубежному” забавляет.
Ященко в «Русской Книге» позволил себе похвалить какого-то беллетриста Дроздова, а «Летопись» всполошилась.
Какой такой Дроздов?
И в нашем Альманахе не участвовал, и конкурсом нашим не премирован, и даже нашими обедами не питался, и вдруг — на тебе: писатель великий!
Ну, а вдруг этот самый „многословный публицист” взял да и написал прекрасный роман, или два прекрасных романа, или ещё больше, и что если, несмотря на отсутствие в нём „эстетической меры и такта”, проф. Ященко всё же надеется, что он, Дроздов, „поддержит славу русской литературы”, и позволил себе это сделать без редакционной коллегии Дома Литераторов, что ж из этого?
Из заметки в Летописи явствует, что Дроздова-беллетриста редакционная коллегия не читала, так чем же как не бессмысленным и нелепым соревнованием можно объяснить этот выпад?
Впрочем, в этой же заметке вообще констатируется, что в «Русской Книге» в отделе рецензий, что ни отзыв — то “дружеские комплименты”, и, очевидно, не в меру дружеские.
Если это так, — а я в защитники «Русской Книги» не записываюсь, — то это, несомненно, отрыжка скверной репортёрской привычки, которой, увы, страдает и сама «Летопись».
Напомню заметку из №1 «Летописи»:
Если бы об Ирецком самую восторженную статью написали, — может, его «Гравюры» и достойны такой статьи, — я ничего не сказал бы.
Но против заметок паточных я, против духа репортёрского.
Руки липнут, и на языке сладко, и мысли дурные — и от этих “дружеских комплиментов”, и от объятий широких и товарищу по редакции (который ни душой ни телом в этом, наверное, не виноват), и издательству А.С.К., и печати двухкрасочной, и 15-ой типографии, и художнику Лео, и Анисимову, наконец. Объятия так широки, что они ещё многое вместить могли, да нечего.
Слова позавчерашние — молчу.
Мысли прадедовские — пусть себе.
Но только без духа. Духа такого, действительно, вынести не могу!
Р. S.
После того как предыдущая заметка была написана, вышел №4 «Летописи», в котором Ник. Волковыский полемизирует с Влад. Набоковым.
В 1920 г. Ник. Волковыский, литератор отнюдь “не правительственный” и, даже наоборот, состоящий к правительству в некоторой оппозиции, поместил в «Известиях» статью под названием «Река мелеет», в которой обличал действительно грешную во многом русскую эмиграцию, но который одновременно обнаружил и характерную для русского интеллигента душевную дряблость: это неумение сильно ненавидеть, эту постоянную погоню за постылой объективностью, это тоскливое и неизменное “постолько-посколько”.
Статья была по тому времени совсем неуместная и совсем не нужная, и то, что была помещена она на страницах правительственного „чуждого мне партийного органа”, тоже вряд ли было „допустимо” и вряд ли „целесообразно”, приняв во внимание, повторяю, всю жестокость, всю ожесточенность того времени.
Что ответил Влад. Набоков Ник. Волковыскому — я не знаю, но, как утверждает теперь Ник. Волковыский, сама жизнь, „всесильная и всеубедительная жизнь день за днём вскрывала глубокую неправду, таившуюся в словах г. Набокова” и значит ту правду, которую так несравненно предвосхитил Волковыский.
В чём же эта „правда”, коей так горд литератор из «Летописи»?
Но, увы, как не у места эта героическая и победоносная поза Ник. Волковыского, и как, увы, неповинны мы в отстаивании своего „права на независимость”, и как призрачны „завоевания” наши и „уважение к нам” эфемерно.
И Ник. Волковыский знает это не хуже меня.
Всесильная и всеубедительная жизнь победила, но ни он, ни я, ни мы...
Река русской жизни действительно становится полноводнее, но отнюдь не нашими усилиями и как раз вопреки нашей многолетней и постыдной инерции.
И если не Влад. Набокову выступать в роли обличителя нашей „привычки к рабству”, то всё же чем как не ею объяснить и наше четырёхгодичное интеллигентское существование, и обличения в „чуждом мне органе”, и, наконец, гордое свободомыслие самого Влад. Набокова на берегах Шпрее?
Всесильная и всеубедительная жизнь победила.
Победила не только „груды революционного хаоса”, но осилила и нашу привычку к рабству и всучила нам эфемерные завоевания наши.
Жизнь победила.
Но не победил... Ник. Волковыский.
Книжный Угол. Петербург: Очарованный странник. 1922. №8. С. 1–9.
1. О червях
Человек умер. День, другой — и труп начинает распадаться: какие-то таинственные бактерии делают своё разрушительное дело. Ещё дни, недели, и закопошатся черви и будут доедать — торопливо, поспешно, жадно — доедать то, что было человеком.
Тем, кто знал человека — близким человека — эти бактерии разложения, эти черви непременно ненавистны и отвратительны: они разрушают мёртвую, но всё же дорогую форму. Но биологу ясно: даже эти отвратительные черви нужны, даже эти отвратительные черви полезны. Без них трупы загромоздили бы весь мир: кто-то должен пожирать трупы.
Россия, старая наша Россия, умерла. Какие-то черви неминуемо должны были явиться и истребить её огромный и тучный труп. Черви нашлись, слепые, мелкие, голодные, жадные, как и полагается быть червям. Пусть они отвратительны, эти черви, но социологу ясно: они были нужны. Кто-то должен разрушать трупы.
И вот России уже нет, и нет её трупа. От России остался один только жирный перегной — жирная, не оплодотворённая, не засеянная земля. Работа разрушения кончена: время творить. Кто-то должен прийти, вспахать и засеять то пустынное чернозёмное поле, которое было Россией. Но кто же?
Мы знаем одно: эта работа не для червей. Эта работа под силу только народу. Не оперному большевистскому “народу”, насвистанному для вынесения бесчисленных резолюций о переименовании деревни Ленивки в деревню Ленинку, а подлинному Микуле Селяниновичу, который лежит сейчас связан, с заткнутым ртом.
Идеология тех, кому история дала задачу разложить труп, естественно должна быть идеологией разложения. Конечная цель разложения: это nihil, ничто, пустыня. Вдохновение разрушительной работы — это ненависть. Ненависть — голодная, огромная, ненависть — великолепная для того, чтобы одушевить разложение. Но по самой своей сути — это чувство со знаком минус, и оно способно организовать только одно: организовать разложение. Творческой силы в ненависти нет и не может быть. Ждать творческой силы от ненависти так же нелепо, как ждать творческой работы от двенадцатидюймового орудия. Двенадцатидюймовое орудие — мощная сила, но эта сила не может вспахать ни одной межи. Партия организованной ненависти, партия организованного разрушения делает свое дело уже полтора года. И свое дело — окончательное истребление трупа старой России — эта партия выполнила превосходно, история когда-нибудь оценит эту работу. Это ясно.
Но не менее ясно, что организовать что-нибудь иное, кроме разрушения, эта партия, по самой своей природе, не может. К созидательной работе она органически не способна. К чему бы она ни подходила, за что бы она ни бралась, вероятно, с самыми искренними и лучшими намерениями, всё обращалось в труп, всё разлагалось.
Взяли в свои руки промышленность, развеяли по ветру прах капиталистов, выкинули “саботажников”, и уже не на кого больше сваливать вину. Но промышленности нет, заводские трубы перестали дымить одна за другой, и уже официальные газеты заводят речь о концессиях, о приглашении иностранных капиталистов и иностранных “саботажников”, чтобы организовать социалистическую российскую промышленность.
Национализировали торговлю, издали строжайший декрет о том, что магазины при национализации будут закрыты не больше недели. Но вот уже месяцы, а окна магазинов по-прежнему забиты досками, торгуют одни только спекулянты.
Поставили казённых комиссаров над домами, и в одну зиму дома обратились в клоаки, в мёрзлые, залитые водой сараи.
Взяли продовольствие, взяли транспорт, и еле ползут издыхающие пароходы; полна затонувших барж Нева; слагаются сказки о том, что когда-то ходили трамваи.
Проникли в деревню и допустили здесь маленькую “ошибку”, как недавно назвал это Луначарский. И в деревне из страха реквизиций съеден весь скот, съедены лошади, съедены семена. После весёлой коммунистической игры на “деревенскую бедноту”, конечно, уже никто не станет сеять “излишков”: выгодней быть записанным в привилегированное сословие “бедноты”...
Правда, создали красную армию и ежедневно выдают себе за это похвальные листы. Но создание армии — только лишнее доказательство неспособности к подлинной созидательной работе. Потому что сама по себе армия — орудие разрушения. Потому что создание армии — работа производительная не более, чем производство пушек и бомб. Потому что всякая армия — это голодный миллионный рот, это многоголовый потребитель, который не производит ни единой нитки.
Пока ясно одно: для созидания материальной оболочки, для созидания тыла новой России разрушители непригодны. Пулемётом нельзя пахать. А пахать давно уже пора.
20 марта 1919
Евгений Замятин. Сочинения. Том четвёртый. Мюнхен, 1988. С. 557–559.
Несчастный, лысый старик Сократ. У него — только слово; против него — тысячи тяжеловооружённых. Но он один против тысяч был страшен: ему дали цикуты.
Хилый и нищий Галилеянин с рыбаками. Против Него — стража иудейских первосвященников и римские легионы. Но слово Галилеянина было страшней легионов: Его распяли.
Синие гектографированные листки. Против них — войска, полицейские, жандармы. Но синих листков боялись российские самодержцы: за синие листки гнали в каторгу.
Жалкие “интеллигентские” и “лжесоциалистические” газетки. Против них — коммунистические штыки и пулемёты. Но жалких газеток трепещут повелители пулемётов: жалким газеткам нещадно затыкают рот.
И они правы: те, кто поил цикутой Сократа; те, кто распинал Галилеянина; те, кто гнал в каторгу революционеров; те, кто теперь заткнул рот печати. Они правы: свободное слово сильней тяжеловооружённых, сильней легионов, сильней жандармов, сильней пулёметов.
И это знают теперешние, временно исполняющие обязанности. Они знают: свободное слово прорвёт, смоет жандармскую коросту с лика русской революции, и она пойдёт вольная, как Волга, — без них.
Ночная нечисть права, что боится петушиного крика. Они правы, что боятся свободного слова.
[18/5 июня 1918]
Евгений Замятин. Сочинения. Том четвёртый. Мюнхен, 1988. С. 552.
Губернаторы русские все были прирождённые поэты. У всякого, кроме его канцелярского дела, было ещё дело для души: кто насаждал в губернии вольнопожарные дружины; кто заводил оркестры во всех городских садах и бульварах; кто — американские мостовые Мак-Адамса; кто — столовые и больницы для бесхозяйственных собак. И в губернии, где скакали в солнечно-сияющих касках вольнопожарные дружины, — непременно развороченные мостовые и грязища; в губернии, где кормили и лечили бесхозяйственных собак, — непременно дохли от голода люди по градам и весям. Такое уж дело поэзия: берёт всего человека, и ежели для него поэзия в собачьих больницах — плевать ему на весь мир, кроме собачьих больниц.
Для одного такого прирождённого поэта-губернатора была поэзия в ассенизации. Приехал, по канцелярии пробежал мимоходом. Доклады разные слушал — так себе слушал: в одно ухо вошло — в другое вышло.
Кончил доклады — вырос мой губернатор, выпрямился: Наполеон, глаза сверкают.
— А что у вас, позвольте спросить, сделано по ассенизации?
Господи, что же: бочки — как бочки, золотари — как золотари. Что же тут может быть?
— Как что может быть?
И прочитал Великий Ассенизатор лекцию... не лекцию — поэму об ассенизации. В ассенизации всё, и от ней все качества. Поставить ассенизацию на должную высоту — и не будет славнее губернии...
И начались казённые реформы. Были выписаны из Ливерпуля патентованные стальные бочки Годкинса, ассенизационные помпы Вартангтона. Заведена была для золотарей особая форма: с кожаным круглым фартучком, кожаными рукавицами и кожаной шапочкой. И в светлые ночи запоздавший гуляка мог лицезреть самого Великого Ассенизатора в круглом кожаном фартучке, вдохновенно мчавшегося на патентованной бочке Годкинса...
Великий Ассенизатор, как и все поэты, ради своей поэзии был самоотвержен. И скоро пошёл от него такой дух, что чиновники, не совсем безносые, переводились подальше; губернаторша уехала к родителям, губернаторский дом опустел. Но Великий Ассенизатор неукоснительно и самоотверженно продолжал свое дело.
Городовые, тюремные надзиратели и делающие карьеру молодые люди — все были записаны (добровольно, конечно) в добровольный обоз. И по ночам мчались на патентованных бочках.
В великую среду, когда к Пасхе производилась по губернаторскому распоряжению чистка со сбором всех сил: городовых, тюремных надзирателей и молодых людей, — арестанты из губернского острога все до единого очень спокойно ушли. А на Фоминой неделе ушли Великого Ассенизатора.
Впрочем, кому неизвестно, что отставные губернаторы не пропадают, а возрождаются, как птица Феникс из пепла? Великий Ассенизатор, великий ассенизационный поэт получил теперь в управление не губернию, а Россию.
И вот снова — всё в ассенизации. Патентованные бочки Годкинса гремят по России, по полям, по людям: что поля и люди перед великой задачей патентованного ассенизационного обоза? Самоотверженный ассенизатор всё глубже пропитывается запахом ассенизационного материала, и всё слышней знакомый дух охранки и жандарма. Но Великий Ассенизатор по чём попало — по-прежнему мчится на бочке, в круглом кожаном фартучке и в кожаных рукавицах.
Спору нет: ассенизация нужна. И может быть, был исторически нужен России сумасшедший ассенизационный поэт. И может быть, кое-что из нелепых дел Великого Ассенизатора войдёт не только в юмористические истории российские.
Но сумасшедшие ассенизационные помпы слепы: мобилизацией для гражданской войны выкачиваются последние соки из голодных рабочих; высасываются из слабых остатки веры в возможность устроить жизнь без пришествия варягов.
И всё нестерпимей несёт от ассенизаторов знакомым жандармско-охранным букетом — и все, не совсем безносые, бегут вон, зажавши остатки носов.
Для Великого Ассенизатора близка Фомина неделя.
[21/8 июня 1918]
Евгений Замятин. Сочинения. Том четвёртый. Мюнхен, 1988. С. 553–555.
Печатая настоящее письмо верноподданных художников, редакция на совести подписавших оставляет утверждение, что „художник Анненков никем из левых не был приглашён”. Центр тяжести выступления Анненкова не в этом, а в том, что он, по-видимому, правильно понял цель предполагавшегося сноса памятников: это — акт, мотивированный не художественными соображениями, а политическими.
Освобождающиеся пьедесталы коронованных болванов должны укрепить треснувшие пьедесталы болванов некоронованных: лёгкая победа над бронзовыми царями должна замазать глаза на тяжкие унижения перед живыми Карло-Вильгельмами; нет хлеба — так по крайней мере будет зрелище, рассчитанное на удовлетворение зубодробительных инстинктов. Снос памятников делается не во имя украшения нашей жизни — до того ли? — а во имя украшения увядающих наших помпадуров новыми лаврами. Можно ли верить, что заботятся об украшении жизни те, кто из Кремля, цитадели красоты, сделал красногвардейскую цитадель? Какое дело до красоты принципиальным бегемотам и какое дело красоте до них?
Тяжелее всего унизительная, прислужническая роль, какую навязывают искусству правящие архангелы, позванивая серебрениками. И прав тот художник, которому траурно в эти дни.
[30/17 апреля 1918]
Евгений Замятин. Сочинения. Том четвёртый. Мюнхен, 1988. С. 545–546.
Уважаемый Иосиф Виссарионович,
Моё имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли.
Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорблённую невинность. Я знаю, что в первые 3–4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В своё время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме поставленный в одной из моих статей (журн. «Дом искусств», №1, 1920) , был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.
С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в конце концов она привела к тому, что я назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали чёрта — так критика сделала из меня чёрта советской литературы. Плюнуть на чёрта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его — меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» — еще в 1916 году — некий критик умудрился найти... „издевательство над революцией в связи с переходом к НЭП’у”; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел „притчу о поумневших после НЭП’а вождях”. Независимо от содержания той или иной моей вещи — уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной. Недавно, в марте месяце этого года, Ленинградский Облит принял меры к тому, чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений: для издательства «Академия» я проредактировал комедию Шеридана «Школа злословия» и написал статью о его жизни и творчестве: никакого моего злословия в этой статье, разумеется, не было и не могло быть — и тем не менее Облит не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать моё имя как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать всё же нельзя — разрешено было печатать и статью, и даже моё криминальное имя.
Этот факт приведён здесь потому, что он показывает отношение ко мне в совершенно обнажённом, так сказать — химически чистом виде. Из обширной коллекции я приведу здесь ещё один факт, связанный уже не с случайной статьей, а с пьесой большого масштаба, над которой я работал почти три года. Я был уверен, что эта моя пьеса — трагедия «Атилла» — заставит, наконец, замолчать тех, кому угодно было делать из меня какого-то мракобеса. Для такой уверенности я, как будто, имел все основания. Пьеса была прочитана на заседании Художественного совета Ленинградского Большого Драматического театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов ‹...›
Пьеса была принята театром к постановке, была разрешена Главреперткомом, а затем... Показана рабочему зрителю, давшему ей такую оценку? Нет: затем пьеса, уже наполовину срепетированная театром, уже объявленная на афишах — была запрещена по настоянию Ленинградского Облита.
Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить моё положение, тем более, что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом» Пильняка. Для истребления чёрта, разумеется, допустима любая подтасовка — и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году, — был подан рядом с «Красным деревом» как моя последняя, новая работа. Организована была небывалая ещё до тех пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было всё, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая в МХАТ’е 2-м уже четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в изд-ве «Федерация» было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немедленному обстрелу, что испытали на себе и «Федерация», и «Земля и фабрика», и особенно — «Изд-во писателей в Ленинграде». Это последнее изд-во ещё целый год рисковало иметь меня в числе членов правления, оно осмеливалось использовать мой литературный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей — в том числе и коммунистов. Весной этого года ленин. отд. РАПП’а добилось выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. «Литературная Газета» с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно добавляя: „...издательство надо сохранить, но не для Замятиных”. Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный приговор этому автору был опубликован.
В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то всё же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР — с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на один год, выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции.
Я знаю: мне очень нелегко будет и за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу — об этом достаточно убедительно говорит моё прошлое (принадлежность к РСДРП (б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде — меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком. Но даже при самых трудных условиях там я не буду приговорён к молчанию, там я буду в состоянии писать и печататься — хотя бы даже и не по-русски. Если обстоятельствами я приведён к невозможности (надеюсь, временной) быть русским писателем — может быть мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время писателем английским, тем более что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть «Островитяне» и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски. Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню здесь ещё другое имя: Б. Пильняка. Как и я, амплуа чёрта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?
Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах более обычных, хотя и не менее серьёзных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит) — мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две моих пьесы, переведённые на английский и итальянский языки (пьесы «Блоха» и «Общество почётных звонарей», уже ставившиеся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей; предполагаемая постановка этих пьес, вдобавок, даст мне возможность не обременять Наркомфин просьбой о выдаче мне валюты. Все эти мотивы — налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу — является безвыходное положение моё, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь.
Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие обращавшиеся к Вам писатели, позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена.
Июнь, 1931 г.
Евгений Замятин. Сочинения. Том четвёртый. Мюнхен. 1988. С. 310–314.
| Персональная страница Виктора Рувимовича Ховина на ka2.ru | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||