Виктор Ховин
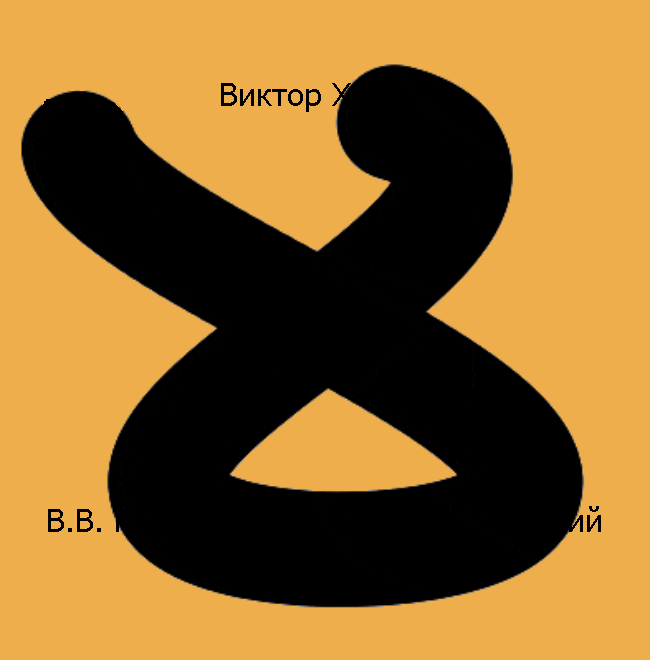
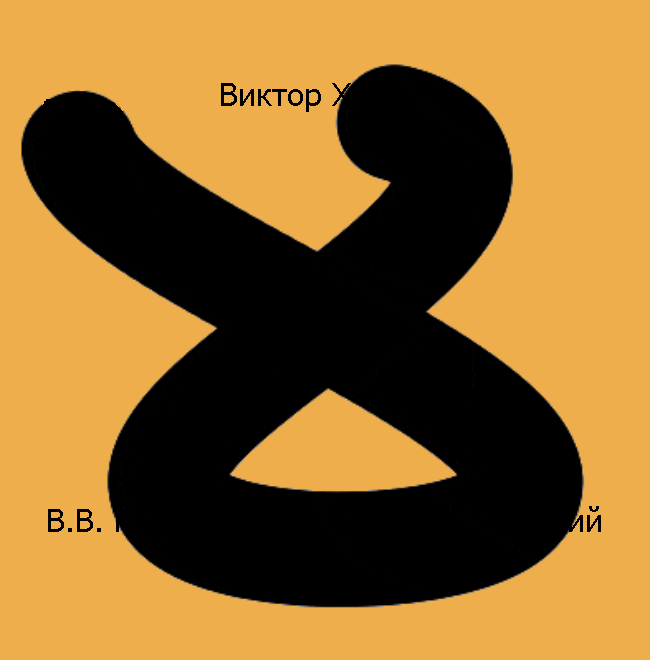
 знаю, что те немногие, которые любят, продолжают любить Розанова и те многие, которые начинают сейчас ценить и любить Маяковского, будут недоумевать по поводу этого странного, неожиданного сочетания:
знаю, что те немногие, которые любят, продолжают любить Розанова и те многие, которые начинают сейчас ценить и любить Маяковского, будут недоумевать по поводу этого странного, неожиданного сочетания:И, несмотря на это, или, быть может, поэтому я твёрдо и убеждённо заявляю, что Маяковский — как бы неожиданное отображение одного из рядов Розановских идей. Одного потому, что Маяковский несравнимо ýже Розановского диапазона, он как бы слепок с одного из прозрений Розанова, нежданное исполнение одного из его мечтаний.
Вина ли Розанова в том, что жизнь так по-свойски расправилась и с его идеями, и с его прозрениями, и с его мечтаниями?
Вина ли Маяковского в том, что он, как в кривом зеркале, отразил некую часть Розановщины?
Но не об их “вине” стоит говорить сейчас, а о вечной правоте жизни живой.
Права она и теперь в этой неожиданной и коверкливой реализации Розановщины в Маяковском.
„Я — самый нереализующийся человек”, — говорил о себе Розанов.
И поделом ему, что до известной степени Маяковскому довелось реализовать его.
Спор между Розановым и горделивой российской интеллигенцией, спор между Розановщиной и благородной интеллигентской идеологией всех цветов и окрасок разрешён.
Разрешён самой жизнью. Той невероятной катастрофой, в которую она нас бросила.
И разрешён в пользу Розанова и Розановщины.
Я не знаю, где теперь гордые и благородные обличители Розанова: изменили они своим “гуманным” и возвышенным идеям на территории нашей благословенной родины, или, переведя их на иностранную валюту, творят свое “великое” дело спасения Культуры на территориях Парижей, Лондонов и Варшав.
Но салом чьих идей и идеологий покрыта сейчас поверхность жизни? И не только нашей, но и всей Европы.
Чей оголённый и непритязательный цинизм блуждает теперь — и не только на развалинах России, но и всей Европейской Культуры?
Где тот героизм, который был обещан нам великолепной гуманностью, божественной возвышенностью этих идей и этой Культуры?
„Человек — это звучит гордо”! — было лозунгом всего европейского “гуманизма”. Но если этот лозунг попран ужасными разрушителями мирового порядка у нас, то где же на протяжении всей европейской цивилизации соблюдён он?
Мы знаем теперь, как звучит „человек”. Знал это гораздо раньше нас и Розанов, этот ужасный “циник”, эта безнадёжно опустошённая душа, по терминологии тогдашних обличителей.
И не только знал. Но и посмел об этом сказать вслух.
Посмел надсмеяться над парадом величественных европейских идей; надсмеяться над пресловутым европейским “гуманизмом”, освящённым опереточностью всяческих гаагских конференций.
И не только надсмеяться, но и утверждать какой-то свой “гуманизм”. “Циничную”, но подлинно человечную человечность?
— Человек?! О, это звучит совсем не гордо.
— Посмотрите на меня. Какая уж тут гордость!
„Я не хочу истины, я хочу покоя”. „У меня флюс болит”. Разрывался в своей откровенности, в разоблачении самого себя, этот великий аскет слова и мысли.
И всей Европейской Культуре, обличающей Розанова, действительно понадобился ужасный злокачественный флюс, чтобы предстать в своём естественном, отнюдь не гордом виде. И это после блестящей мишуры, в которой она покоилась раньше, после всех идеологических и словесных бирюлек, коими украшала себя.
А Розанов только от флюса в потенции бежал и мишуры, и бирюлек.
Утверждал себя во всём своём человечестве и не хотел занимать никаких гордостей и возвышенностей у идей всяческих и в мирах потусторонних.
Понял ложь и фальшь всяческих ценностей, которые не по плечу человеку, или по плечу до поры до времени и пожелал остаться только с тем, за что ответить мог, что всегда б по плечу было.
И Розанов, быть может, первая страница истории подлинного человекоборчества.
Впервые сказанная мысль подлинного гуманизма.
Но только мысль.
Этот самый нереализующийся человек взошёл психологизмом открытого в себе подлинного человечьего мира и умер...
И вот пришёл Маяковский.
Я всецело предоставляю представителям формальной поэтики изнывать в бесплодных попытках найти и исчерпать Маяковского в его метрике, ритмике, рифмах и тому подобном; я предоставляю им копошиться в дебрях “сюжетосложений” и обнаруживать заведомо и явно без них обнаруженное, или заведомо и явно не обнаруживаемое вообще, даже при наличии их трудолюбивых попыток.
Для меня Маяковский в другом:
„Я человек!” „Весь из мяса!” — Так и прёт из всего Маяковского.
„Я над всем, что сделано, ставлю “Nihil”!”
Честный?
— Не знаю, что такое честность.
И то же самое говорил Розанов:
На месте всей культуры, всех идей её, понятий, категорий, отвлечённостей, формул — одно громадное сплошное и жирное Nihil.... и человек.
Правда, он оказался таким громадным, таким жилистым, с вывороченным наружу мясом, с таким трубным, площадным голосом. Таким враждебным бесплотному психологизму Розанова, не похожим на него.
Но зато человек!
Несомненный и подлинно реализовавшийся в жизни человек. А не слова о нём, не мысль о нём.
Самое ценное в Маяковском — его необычайная законченность, эта невероятная, небывалая реализация своего темперамента. Начиная от внешности, кончая самым незначительным словом, голосом его, манерой произносить свои стихи.
И это не случайность, конечно, что напечатанные стихи Маяковского производят иное, меньшее, впечатление по сравнению с чтением их самим автором. И наивны те, кто ставит это в минус поэту. Рождённые колоссальным темпераментом, они могут быть выговорены так, как должно, только его темпераментом.
И недаром была ненависть Розанова к литературщине, вечная и неуёмная борьба его с Гуттенбергом. Недаром всё это по-своему выражается и Маяковским:
„Книги? Ничего не хочу читать”.
„Я думал, книги делаются так” ... Но делаются они не так, как хотелось бы поэту.
И если Розанов требовал внимания к интонациям своих мыслей, если настаивал он на значимости и значительности акцента произносимых им слов, то Маяковский тоже не хочет примириться с мёртвой законченностью, беззвучностью Гуттенберговского способа запечатления своих стихов, вообще с запечатленностъю, и не мыслит своих слов, произнесённых не его зычным, площадным голосом.
И вот эта ненависть Розанова к литературщине, это вечное препирательство его с Гуттенбергом и дали повод В. Шкловскому в его недавнем докладе о Розанове в поте лица доказывать, что Розановское творчество это — не флюида какая-то, не выговаривание какое-то, а литература, с литературными приёмами сопряжённая.
Пустая затея была. Неблагодарная задача.
Ибо, конечно же, книги Розанова — и «Уединенное», и «Опавшие Листья» — это литературное творчество. И поскольку стремился Розанов к выразительности своих слов, постольку литературный приём был в руках его единственным оружием, и оружием, которым владел он вполне совершенно.
И не смотря на то, что всё это именно так, — не пустой фразой в устах Розанова было:
Точно так же, как не случайны и слова Маяковского:
„Эта! В руках! Смотрите! Это не лира Вам!”
„Песнь” умолкла, — но от этого Розанов не перестал быть писателем.
Не лира в руках Маяковского, но он остается поэтом.
Какая уж тут лира!
У Маяковского-то!
Не до „песен” им. Т.е. не до старых песен. Иные мотивы, иные слова. По-иному поёт душа. И иная душа.
Гудит Маяковский.
И вот этот наш серый Синай, вот это новое человечье евангелие с маленькой буквы, рождённое человеком с Пресни, вот это и есть опорная точка нового гуманизма.
Здесь, конечно, прежде всего, старая тяжба человека с небом, но нового человека, и по-новому выраженная, и о новом.
„Эта вот зализанная гладь, это и есть хвалёное небо?”
Негодует поэт так же, как в своё время негодовал и Розанов:
И, быть может, нигде, как в этих словах, не реализовался с такой определённостью, с такой горячностью Розанов, и никогда слова его не были более темпераментны. Дело другого рода, что если у Розанова всё это было судилищем, словесной тяжбою, то Маяковский, отнюдь не склонный к словесным препирательствам, просто выпустил пух из пуховиков небесных.
Но было бы невероятной ошибкой предполагать, что тяжба эта происходит только в сфере религиозного сознания. Конечно же нет. Это борьба со всякими “выспренностями” и “якобы идеализмом”, со всякой “праведностью”.
И разыгрывается она отнюдь не в церковном храме только и не вокруг Лика Христа или Бога, а и под недавно ещё спокойной сенью храмов Культуры и вокруг той “Иконы”, созданной веками человеческой мысли, имя которой — “Культура”.
— Против культуры во имя человека, во имя скрижалей серого Синая.
И именно во это имя Розанов с таким упорством настаивал на правоте всего человеческого, упорствовал в цинизме своём и из кожи лез вон, чтобы не подумали, что человек это звучит гордо; так же как и Маяковский во стократ циничнее настаивает на том, что
„Я площадной сутенёр и карточный шуллер”.
Это ещё почище, чем розановский носовой платок, без которого он никак на тот свет явиться не пожелал.
Небывалое презрение к подачке, невероятная боязнь чем-нибудь одолжиться у Бога, у небес, у идеологий и поэзии.
И если Розанов, правда, без ножовщины, но так нетерпимо расправлялся с “Культурой” и “Истиной”, если футуризм вместе с Маяковским сворачивал голову не только “Культуре”, но и её Великим Представителям, Учителям человечества, то делали они это возмущённые поклёпом — пусть трижды возвышенным — на человека и человечность.
А поклёп был ужасный, чудовищный, чудовищно лживый.
И как характерно, что Розанов так негодовал на изгнание торгующих из храма.
Ведь это же быт, это обиход человеческий, так как же осмелились изгнать его? И ведь изгнан он не только из храма Божьего, но книжниками и фарисеями из Храма Культуры. И она, вся эта фарисейская и лицемерная Культура, вся она покоилась на этом пренебрежении к человеку, к его земному обиходу.
Но вот развалился Храм Культуры. Не стало благословенной сени его, куда скрывалось человечество от дел земных, где заимствовало оно те красоты, которые растрачивало потом в путях жизненных. Не стало прохладной сени. Не стало успокоительных красот. Не по плечу оказались они человеку. Не выдержали испытания.
И остался оголённый человек на оголённой земле.
Остался перед скрижалями Серого Синая. И к нему, к этому Синаю привела его жизнь живая.
Вот почему у Маяковского читаем мы:
„Мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал”
„А мне сквозь строй, сквозь грохот, как пронести любовь к живому”.
И это то же, что и неуёмная любовь Розанова к земному и человеческому за счёт праведного и возвышенного.
„Болит душа... Болит душа... Болит душа”... Постоянный refrain розановского творчества.
Болит за то, что больно человеку в мире, больно вещам в мире.
Мучится нестерпимою болью жизнь живая.
А Маяковский даже кровавой слюною брызжет:
„Голову размозжу о каменный Невский”.
И размозжит. Потому что
Это Вам не абстракции и отвлечённые решения. И это не “проклятые вопросы”. И не великолепные постановки мировых трагедий — боль, отчаяние и ужас которых разрешались в спасительных и великолепных, ни к чему не обязывающих, катарсисах. И это, наконец, не разрешение “возвышенных проблем”, — проблемы Гамлета какого-нибудь. И не отвлечённые вопросы: „куда идёт мир?” Или: „что станется в конце концов с жизнью?”
А совсем другие мотивы, совсем иначе поставленные вопросы:
Пусть Маяковский когда-то в разговоре со мной, когда я воспользовался “лирическими” цитатами из него о „боли и жизни”, старался убедить меня в том, что это — самое слабое в его творчестве. Иначе и быть не могло для него, немыслимого без ножа и кастета.
С другой стороны, если Розанов в письме ко мне старался подойти к футуризму, который в сущности его ни в какой степени не интересовал, вероятно, из желания отдать дань моему увлечению, и ничего не преуспел в этом, так это потому, что действенная динамичная сущность футуризма, его площадной голос и кастет в руках его, не могли быть не враждебны Розанову.
На этом я и кончаю свою статью. Но только снова оговариваюсь.
Я думаю, я знаю, что некоторые из Вас, прочтя заголовок моей статьи, подумали: почему В.В. Розанов и Владимир Маяковский, а не Владимир Маяковский и Фома Кемпийский, положим. Или: не В.В. Розанов и ещё кто-нибудь.
Но, повторяю, не желание провести параллель между Маяковским и Розановым, или сравнить их, или противопоставить друг другу вызвали в жизнь эти страницы.
И отнюдь не намерение, обратившись к самому лёгкому и недоказательному способу доказательств, т.е. вырвав отдельные цитаты из них, доказать, что Маяковский — продолжатель Розанова, или что Розанов — предтеча Маяковского.
Нет. Совсем иное желание.
Желание показать, как в моей читательской психологии сочетались эти два имени. На каком перекрёстке своих личных блужданий встретил я их: Вас.Вас. Розанова и Владимира Маяковского.
25/XII-20 г.
И жиды, и русские воистину обнимутся и начнут небесный танец,
и пойдут вместе к слитной судьбе.
Вас.Вас. Розанов. Из письма.
Некрасиво получается. Виктор Ховин — критик-интуит, ему и не такое с рук сходило. Но мне точно не сойдёт. Ой как не сойдёт.
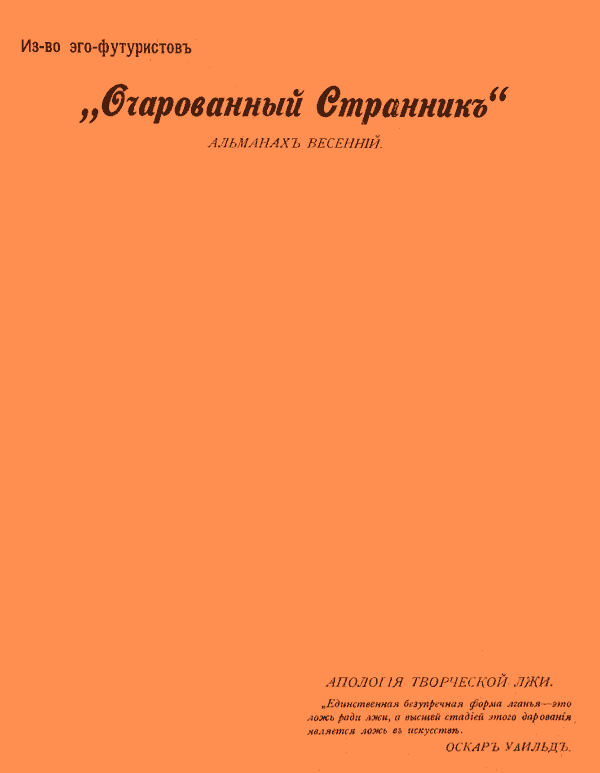 Издавал альманах Виктор Романович Ховин ‹...›. Первый выпуск «Очарованного странника» имел подзаголовок «Критик-интуит» и содержал только критические статьи и обзоры, но со второго номера Ховин стал печатать и поэзию, а подзаголовок сменил на «Альманах интуитивной критики и поэзии». Несмотря на свой многословный и подчас манерный стиль, Ховин был способным и серьёзным критиком, убеждённым в том, что после расцвета русской декадентской поэзии наступил период застоя и упрощения; его борьба с символистами, марксистами и “новым христианством” Мережковского была попыткой (впрочем, тщетной) освежить общую атмосферу. ‹...›
Издавал альманах Виктор Романович Ховин ‹...›. Первый выпуск «Очарованного странника» имел подзаголовок «Критик-интуит» и содержал только критические статьи и обзоры, но со второго номера Ховин стал печатать и поэзию, а подзаголовок сменил на «Альманах интуитивной критики и поэзии». Несмотря на свой многословный и подчас манерный стиль, Ховин был способным и серьёзным критиком, убеждённым в том, что после расцвета русской декадентской поэзии наступил период застоя и упрощения; его борьба с символистами, марксистами и “новым христианством” Мережковского была попыткой (впрочем, тщетной) освежить общую атмосферу. ‹...›О Ховине писал Глеб Струве (Russian Literature, 1976, IV–2, p.109), но этот локоть вне пределов досягаемости моих зубов. Да оно и к лучшему. Наверняка Струве не весьма противоречит Маркову, какой смысл множить сущности. Да, чтобы не забыть: Маяковскому так однажды влетело за Вас.Вас. Розанова, что мама не горюй.
— Ещё не хватало читать этого подонка, — поддакнет Ховину Владимир Владимирович Маяковский, принятый в семью железнодорожников не только с распростёртыми объятьями, но и с раздвинутыми ногами.
Я предупреждал, что буду писать о запретном? Предупреждал. Накостыляют, ох и накостыляют. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, вышел поезд запоздалый.
Но почему железнодорожники? Потому что мама так воспитала. Сызмалу внушено, и внушено сурово: еврей — матерное слово. А за жида могли выпороть. Приходилось выкручиваться. Делается так: заключённый → зэка, железнодорожник → жэдэ. Зачем напрягать язык и голосовые связки длиннотой Эрец Израиль, если можно выразиться коротко и ясно: депо.
С железной дорогой разобрались, теперь вкратце о подрывниках путей сообщения. Все знают, что рельсовая война — конёк русского мыслителя Вас.Вас. Розанова (1856–1919). При этом оказывается, что Виктор Романович Ховин (1891–1944) — лучший друг этого народного мстителя за распятого римлянами Христа. Кому написал Розанов своё последнее письмо?
20 января 1919 г., Сергиев Посад
В. Розанов
Последнее лобзанье в полном сознании разверстой (23 января старого стиля 1919 г.) могилы. Обещает и за гробом помнить. Неутомимый подрывник и народный мститель за распятого римлянами Христа обещает и на том свете не забывать друга-железнодорожника. Составителя поездов, скажем так.
Владимир Фёдорович Марков (1920–2013) данными о жизни Виктора Романовича Ховина после выпуска восьмого номера «Книжного угла» не располагает, и это не поставишь ему в укор. Ховин покинул богоспасаемое отечество, найдя приют в Латвии, а потом во Франции, откуда и был 7 марта 1944 г. препровождён в Освенцим (Аушвиц). Сюда, как известно, гнали на переплавку весь подвижной состав Европы, а именно: конку, трамвай, дрезины с мускульным приводом, дрезины-пионерки, бронелетучки, путеукладчики, паровозы на перегретом паре и паровозы на насыщенном паре, а также бронепоезда и снегоуборщики. Местный железнодорожник Юлиан Тувим этот железный поток одобряет не весьма: „Антисемитизм — международный язык фашизма”.
Четыре слова, из них половина мне запрещена под страхом нагоняя от главнеба. Приходится Юлиана Тувима переводить приблизительно так: рельсовая война — зов сердца выродков любой расы, рода и племени. Приблизительно, ибо рельсы опять-таки заимствованы у проклятого Запада (англ. rails от лат. regula, прямая палка).
Так вот, пытался я Розанова читать по молодости лет, теперь калачом не заманишь. Причина первая: жестоко порицает Гоголя за Фемистоклюса и Алкида Маниловых. Вот же ж, дескать, человеконенавистник: детей не пощадил! Ничего не понимаю, где тут преступление против детства. Напротив того, Гоголь хвалит образовательный уровень помещика Манилова: не всякий знает, что Алкид — родовое прозвище Геракла, он же Ираклий, Геркулес и Эркюль. Отец Геракла пожелал остаться неизвестным, матушку звать Алкмена, деда, соответственно, Алкей; вот вам и родовое прозвище Алкид. Другое дело, что Гоголь тихой сапой протаскивает в дворянские гнёзда глагол алкать, от коего происходит не весьма почтенное имя существительное. Но где тут человеконенавистничество? Он же дворянским гнёздам не пускает красного петуха. Отнюдь! Гоголь Петра Петровича Петуха (перелицованного Питуха, даже не вопрос) приводняет на добычу налима личным иждивением, а не руками рабов!
Во-вторых, не понравилась мне предательство подрывником Розановым святого (для Эйхмана, Розенберга, Шкуро, Краснова и примкнувшего к ним Власова) дела рельсовой войны: как прижало, тотчас перелицевался в попрошайку на паперти (а вот мы её туда пристроим) синагоги. Эту сметану, которую народный мститель вымаливает у безработных его молитвами кочегаров и смазчиков, я запомнил на всю жизнь.
10 января 1919 г.
Василий Вас. Розанов
И как после этого мы назовём вагон и маленькую тележку розановской взрывчатки Христа ради? Назовём репетиловщиной: шумим, братец, шумим. Эвона когда уразумел почётный железнодорожник Александр Эммануилович (см. выше) Беленсон, что и отрывок, и взгляд, и все розановские нечто свободы совести не касаются: чего нет, того нет!
При этом Виктор Романович Ховин не только прощал Розанову его милые шалости, но влёкся к нему всей душой: любил. А мы от апостола Павла знаем, что любовь человека к человеку всему благоволит, всё покрывает и так далее. Бог есть любовь, короче говоря. Но именно Бог, а не Б-г.
Письмо Вас.Вас. Розанова про сметану, яйца и кошерную щуку я знаю сызмалу. А вот это прочёл позавчера.
Любящий В. Розанов
| Персональная страница Виктора Рувимовича Ховина на ka2.ru | ||
| карта сайта | 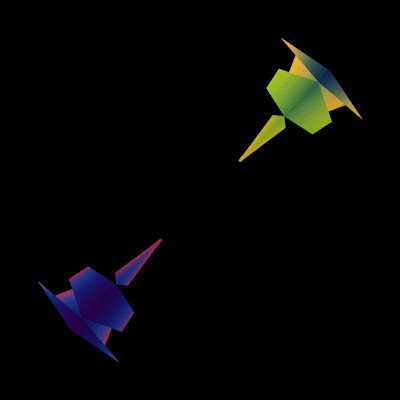 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||