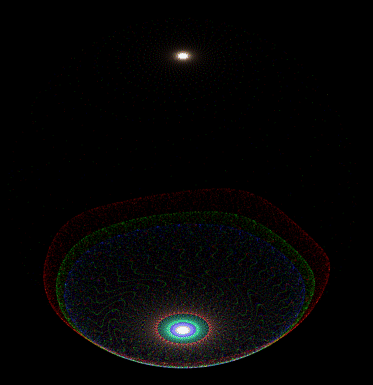О. Ханзен-Лёве
Казимир Малевич между Кручёных и Хлебниkовым
1. Малевич-авангардист: калькулированная эволюция

ак все представители русского авангарда, так и Малевич думал и действовал в категориях обновления, инновации и остранения в рамках бурной перемены художественных школ и группировок 1910-х–1920-х гг. Его интерес к вопросам организации, пропагандирования, стратегии определённых позиций и концепций резко и быстро меняющихся конфигураций “измов” — типичен для Малевича-авангардиста или, вернее, для его стратегии: довести до конца (или до абсурда) все доминирующие или находящиеся в состоянии “становления” течения в искусстве (от неоимпрессионизма до кубизма, от футуризма до примитивизма, от кубофутуризма до супрематизма и т.д.).
1
В этом смысле Малевич был типичнейшим модернистом, стремление его — не столько оглашать господствующие художественные позиции, сколько предвосхищать только что формирующиеся течения или “перевыполнять план” уже доминирующих концепций. Возникает впечатление, что Малевич перешагнул ускоренной съёмкой главные “измы” авангарда, следуя таким образом за внутренней логикой развития искусства, на основе усиления и радикализации центральных и/или периферийных конструктивных принципов и эстетических концептов определенных течений. Таким образом Малевич-авангардист выступил концептуалистом avant la lettre в том смысле, что он постоянно занимался определением и установлением позиций данного направления в контексте других син- и диахронных течений.
2
Итак, инициальная структура русского авангарда, т.е. его установка на начало в архаическом и принципиальном смысле, компенсируется именно у Малевича установкой на конец, на предельную реализацию художественности, или философской программы.3
Подобная ориентация к финальности принимает у Малевича эстетические признаки остранения в духе русского формализма, так как все инновации со временем автоматизируются и требуют постоянного обновления восприятия. В этом случае финальность реализуется на уровне техники, приёмов, конструктивных принципов. Этот феномен, как мы знаем, у Малевича получает название “прибавочный элемент”, чья концепция очень похожа на Тыняновский принцип эволюционной функции перемены доминант, т.е. конструктивных принципов, двигающихся от периферии к центру — и обратно.
Для Малевича, как и для формалистов,4 художник является не пассивным объектом в “борьбе жанров” или “направлений” в синхронном эстетическом процессе, а скорее всего активным участником, который в состоянии узнать заранее и профессионально предвосхитить изобретения и приёмы, концепты и теоремы в сложном взаимодействии группировок и позиций. Уважение Малевича к изобретателям и экспериментаторам было всегда сильно развито, и это сказывается в его теоретических текстах:
художник является не пассивным объектом в “борьбе жанров” или “направлений” в синхронном эстетическом процессе, а скорее всего активным участником, который в состоянии узнать заранее и профессионально предвосхитить изобретения и приёмы, концепты и теоремы в сложном взаимодействии группировок и позиций. Уважение Малевича к изобретателям и экспериментаторам было всегда сильно развито, и это сказывается в его теоретических текстах:
‹...› человек просто маленькая копия того божества, которое создалось в нас же ‹...› и много уже есть таких людей, которые дошли до совершенства действия одной мыслью, приводя ею в движение целый народ и материалы заставляя принять другой вид.
Такие люди пока существуют в виде вождей-правителей, и идеедателей, совершенстводелателей.
‹...› [он] открывший новое тело, машину или аппарат, подымет множество трудовых рук к умножению последнего, и мир принимает другой вид ‹...› его же мысль и создает таковые машины, которые умножают его дело, освобождая человека от труда. А так как совершенство человека будет продолжаться дальше, то, конечно, в будущем оно придёт в состояние Бога, который через “да будет” творил мир. Каждый царь-правитель только движет жизнь через “быть по сему” или “да будет” ‹...›.
Казимир Малевич. Лень как действительная истина человечества. 1921.
Во всех цитатах курсив мой — A.A.H.-L.5
Совершенно другой тип финальности для Малевича (и это уже не аналитическая установка на совершенствование в смысле технической “перфектности” или “предельности”, “крайности” в реализации определённого принципа или концепта) — “совершенство” в духе религиознофилософского мышления, конципированное, например, под влиянием книги Гершензона Тройственный образ совершенства (Москва, 1918), оказавшей сильное влияние на супрематиста.
Под “совершенство(вание)м”, по Малевичу, понимается эсхатологическое состояние “покоя”, которое приписывается в первую очередь Богу (ср. книгу Малевича «Бог не скинут»),6 природе или вообще миру или коллективному сознанию после истории, оно проступает за предметностью, в сфере “за-уми” или состоянии “беспредметности”. Это то, что, например, приписывается в философии природы Шеллинга (или Тютчева) природе, а также хаосу (бесцельность, невыразимость, невы- сказанность), вся эта апофатика соответствует супрематистской философии “Ничто” и “нулевой формы”. “Совершенство” в этом смысле радикально перешагивает категории технического прогресса и “совершенствования”, которые, по Малевичу, принадлежат сфере утилитарного, “харчевого быта”, типичного для всех направлений внутри и вне авангарда, сконцентрированные на успехе, “выгоде” (по Достоевскому), на практических целях и функциях.7
природе или вообще миру или коллективному сознанию после истории, оно проступает за предметностью, в сфере “за-уми” или состоянии “беспредметности”. Это то, что, например, приписывается в философии природы Шеллинга (или Тютчева) природе, а также хаосу (бесцельность, невыразимость, невы- сказанность), вся эта апофатика соответствует супрематистской философии “Ничто” и “нулевой формы”. “Совершенство” в этом смысле радикально перешагивает категории технического прогресса и “совершенствования”, которые, по Малевичу, принадлежат сфере утилитарного, “харчевого быта”, типичного для всех направлений внутри и вне авангарда, сконцентрированные на успехе, “выгоде” (по Достоевскому), на практических целях и функциях.7
Эсхатологическое “совершенство” (т.е. Vollkommenheit)8 всё-таки не совпадает с классической категорией “завершённости” (Vollendung), где признак “конечности” (весьма важный для метафизической эстетики Мандельштама и его “танатопоэтики”) не играет никакой роли. Для Малевича, как и для футуристов, “конца не будет”, или наоборот, мир постоянно начинается “с конца” (Мирсконца у Хлебникова и Кручёных) и именно поэтому заново.9
всё-таки не совпадает с классической категорией “завершённости” (Vollendung), где признак “конечности” (весьма важный для метафизической эстетики Мандельштама и его “танатопоэтики”) не играет никакой роли. Для Малевича, как и для футуристов, “конца не будет”, или наоборот, мир постоянно начинается “с конца” (Мирсконца у Хлебникова и Кручёных) и именно поэтому заново.9 Мета-физика смерти или даже “некропольная культура” памяти и персональной телео-логик смерти образует у Малевича “пустое место”, некую “а-топию”, несмотря на то, что его ранним манифестам свойственны апокалипсические интонации и угрожающие жесты эсхатологических пророчеств:
Мета-физика смерти или даже “некропольная культура” памяти и персональной телео-логик смерти образует у Малевича “пустое место”, некую “а-топию”, несмотря на то, что его ранним манифестам свойственны апокалипсические интонации и угрожающие жесты эсхатологических пророчеств:
Я — начало всего, ибо в сознании моем создаются миры.
Я ищу Бога, я ищу в себе себя.
Бог, всевидящий, всезнающий, всесильный. —
Будущее
совершенство интуиции, как
Вселенного мирового сверхразума.
Я ищу Бога, ищу своего лика, я уже начертил
Его силуэт, и стремлюсь воплотить себя...
Я-начало всего. 1913.10
“Совершенство” для Малевича достигается не путём перешагания границы жизни и смерти (в смысле аполлинической идеи “Tod und Vollendung” или дионисийской формулы: “Stirb und werde”): всё это ещё укладывается в рамках “жизне-творчества”, т.е. экзистенциального состояния героического образа человека в смысле “Rites de passage” мифопоэзии (или мифологии по типу К.Г. Юнга или Кампбелла).11 Для Малевича экзистенциальные категории (“личность” как “персона”, “жизнь” как биографический нарратив, “судьба” как “смысл жизни” или её театрализация и т.п.) замещаются внекатегориальностью эвидентных, “безобразных” и внефикциональных “феноменологических” состояний, к примеру, словом или божественной сферой “покоя”.
Для Малевича экзистенциальные категории (“личность” как “персона”, “жизнь” как биографический нарратив, “судьба” как “смысл жизни” или её театрализация и т.п.) замещаются внекатегориальностью эвидентных, “безобразных” и внефикциональных “феноменологических” состояний, к примеру, словом или божественной сферой “покоя”.
В известной формуле футуристов: „Только мы лицо нашего времени”,12 продолжающей лермонтовскую концепцию «Героя нашего времени», героизм как экзистенциальная и персональная категория заменяется или пародией на “героизм”, или вне-героизмом “лица времени”, которое надо понять как внеперсональное существо, как коллективное состояние.
продолжающей лермонтовскую концепцию «Героя нашего времени», героизм как экзистенциальная и персональная категория заменяется или пародией на “героизм”, или вне-героизмом “лица времени”, которое надо понять как внеперсональное существо, как коллективное состояние.
В витебском трактате «О новых системах в искусстве» (1919) требование совершенства связывается с эмфатическим жестом новатора и изобретателя “новой системы” не только в искусстве, но и в перестройке жизни и мира:
Я иду
Э-эл-эль-ул-эл-те-ка
Новый мой путь
„Ниспровержение старого мира искусства да будет вычерчено на ваших ладонях.”
Став на экономическую супрематическую плоскость квадрата как совершенства современности, оставляю его жизни основанием экономического развития её действа.
Новую меру, пятую, оценки и определения современности искусств и творчеств объявляю экономию, под её контроль вступают все творческие изобретения систем техник, машин сооружений, так и искусств живописи, музыки, поэзии, ибо последние суть системы выражения внутреннего движения иллюзированного в мире осязания.
О новых системах в искусстве. Собрание сочинений, т. 1, с. 153.
С точки зрения аналитической эстетики художник-эволюционист должен знать и использовать законы развития и замены художественных систем и линий, т.е. он должен быть специалистом по вопросам будущей доминантности “прибавочных элементов”, которые тогда существуют и действуют как периферийные, даже случайные конструктивные принципы, когда господство других принципов затмевает всё остальное.
13
2. „Плевать на алтарь футуризма”: критика скорости
Отношение Малевича к футуризму и, тем самым к авангарду в целом, крайне амбивалентно. С одной стороны, постоянно подчёркивается первенствующая роль футуризма как революционный переворот, как взрыв в художественной культуре 1910-х гг., с другой стороны, Малевич с самого начала критикует итальянский футуризм, именно в связи с его увлечённостью скоростью и техническим прогрессом, автомобилями, авиацией, урбанизмом и т.п.
Перемена направлений в искусстве происходит не оттого, что утерялась острота или найдена новая красота; в зародыше творческих сил было заложено — найти форму, через которую мы смогли бы получить указания новых дорог и строений в пространстве. Но сознание путалось среди кустов, заросших парков, берегов рек и чердаков крыш. Футуризм сильно ощутил потребность новой формы и прибег к новой красоте “скорости” и машине, к единственному средству, которое смогло бы его унести над землей и освободить от колец горизонта.
Письма к М.В. Матюшину. Июнь 1916, с. 193.14
Обычно супрематизм Малевича отождествляется с авангардом в целом, авангард — соответственно — с футуризмом и с культом скорости и техники.
Высказывания Маринетти и футуристов, где в центре внимания и понимания стоит принцип “современности” и “прогресса” в техническом смысле, создавали модель авангарда. Более того, общий динамизм современной жизни определял и даже детерминировал динамизм “формы”, произведений искусства в целом. По примеру русских формалистов, в частности Романа Якобсона (имеется в виду его критика Маринетти и его фундаментальная работа о Хлебникове 1919–1921),15 Малевич противопоставляет русский тип футуризма и авангарда итальянскому, т.е. фальшивому, критикуя старомодность и ложность детерминирования искусства жизнью или внеположной реальностью. Ещё Якобсон цитирует в связи с этим известные слова Кручёных в альманахе «Трое» (1913) — сначала идут слова лингвиста, потом известные формулы Кручёных:
Малевич противопоставляет русский тип футуризма и авангарда итальянскому, т.е. фальшивому, критикуя старомодность и ложность детерминирования искусства жизнью или внеположной реальностью. Ещё Якобсон цитирует в связи с этим известные слова Кручёных в альманахе «Трое» (1913) — сначала идут слова лингвиста, потом известные формулы Кручёных:
И здесь решающим побудителем нововведения [новых приёмов в итальянском футуризме Маринетти] является стремление сообщить о новых в мире физическом и психическом. Совершенно иной тезис был выдвинут русским футуризмом. Раз есть новая форма, следовательно есть и новое содержание. Форма таким образом обуславливает содержание. Наше речетворчество на всё бросает новый свет. Не новые объекты творчества определяют его истинную новизну. Новый свет, бросаемый на старый мир, может дать самую причудливую игру.
Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. С. 26.
Одновременно с Якобсоном и почти теми же самыми словами, Малевич критикует атавизм и традиционный “тематизм” итальянцев в их стремлении вывести новые формы из новых жизненных факторов, или наоборот, детерминировать динамизм формы или вообще искусства чисто техническим или эмоциональным динамизмом, понятым только метафорически или аллегорически.16 Для Малевича искусство никогда не должно быть “выражением”, “отображением” или “отражением” чего-то другого. Все это для него выступает под знаком “миметизма”, даже сильнее, порабощения искусства (и в связи с этим человека) под требованиями “действительности” или, точнее, того, что выдумывается как идея или образ “реальности”, которая потом дублируется “образами” искусства. И как Якобсон, Малевич резко отвергает идею о том, что художники работают под влиянием переживаний и эмоционального воздействия динамизма новой жизни.17
Для Малевича искусство никогда не должно быть “выражением”, “отображением” или “отражением” чего-то другого. Все это для него выступает под знаком “миметизма”, даже сильнее, порабощения искусства (и в связи с этим человека) под требованиями “действительности” или, точнее, того, что выдумывается как идея или образ “реальности”, которая потом дублируется “образами” искусства. И как Якобсон, Малевич резко отвергает идею о том, что художники работают под влиянием переживаний и эмоционального воздействия динамизма новой жизни.17
Ключи супрематизма ведут меня к открытию ещё не осознанного.
Новая моя живопись не принадлежит земле исключительно. Земля брошена как дом, изъеденный шашлями. И на самом деле, в человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение “отрыва от шара земли”.
В футуризме и кубизме, почти исключительно разрабатывалось пространство, но форма его, будучи связана с предметностью, не давала даже воображению присутствие пространства мирового [т.е. космоса]; его пространство ограничивалось пространством, разделяющим вещи между собою на земле.
Повешенная же плоскость живописного цвета на простыне белого холста даёт непосредственно нашему сознанию сильное ощущение пространства. Меня переносит в бездонную пустыню, где ощущаешь творческие пункты вселенной кругом себя.
Письма к Матюшину. Июнь 1916. С. 192.
Для Малевича и для русского типа авангарда новый динамизм настоящего современного искусства понимается как внутреннее явление, как энергетическое поле, однако ни в коем случае как линейное, последовательное движение. Именно в бергсоновском преодолении линейности,18 в категории 3-го измерения и в его заменой 4-ым (или даже 5-ым) измерением, т.е. в своеобразном преодолении “пространственных форм” и состоит главное завоевание авангарда. С этой точки зрения итальянский футуризм вновь превратил временнýю форму (движения) в спациальную, пространственную:
в категории 3-го измерения и в его заменой 4-ым (или даже 5-ым) измерением, т.е. в своеобразном преодолении “пространственных форм” и состоит главное завоевание авангарда. С этой точки зрения итальянский футуризм вновь превратил временнýю форму (движения) в спациальную, пространственную:
Неизвестно, кому принадлежит цвет — Земле, Марсу, Венере, Солнцу, Луне? И не есть ли, что цвет есть то, без чего мир невозможен. Не те цвета — скука, однообразие, холод — это голая форма слепого, и Бенуа, как глупец, не знает радости цвета. Цвет есть творец в пространстве.
‹...› Здесь удаётся получить ток самого
движения, как бы от прикосновения к электрической проволоке.
Добивались передачи движения на манекенах животных, людей и машинах. Я никогда не получал такого тока от этого движения.
Моё сознание поглощалось самой
бегущей лошадью. Бежала лошадь, но не движение.
Удивительно, чем
покойнее вид плоскости на холсте, тем сильнее пропускается ток
динамики самого движения.
Росток из семени, говорят учёные, движется с такой скоростью, что не может сравниваться ничего в мире, но мы этого не видим и не ощущаем; очевидно,
форма сохраняет в себе ток и не пропускает его к нам.
Письма к Матюшину. Июнь 1916. С. 192.19
Когда он полемизирует против символистов или анти-авангардистов, Малевич требует от футуризма жест обновления, радикальности и освобождения от старых навыков и категорий мышления и творения. Тогда для художника старое искусство — “лохмотья”, как это агрессивным тоном проповедуется в его манифесте «От кубизма и футуризма к супрематизму» (Москва, 1916).20 Поэтому позиция Малевича в оценке динамизма и детерминизма (искусства в категориях жизни или наоборот) всегда связана с вопросом, с кем он полемизирует: с лже-авангардистами, или неавангардистами, производственниками (конструктивистами) или символистами, например, Мережковским:
Поэтому позиция Малевича в оценке динамизма и детерминизма (искусства в категориях жизни или наоборот) всегда связана с вопросом, с кем он полемизирует: с лже-авангардистами, или неавангардистами, производственниками (конструктивистами) или символистами, например, Мережковским:
Мережковский ‹...› стоит на страже у развалин ворот старого искусства и ждет, что вот-вот принесут знаменитых цезарей... ‹...›
Но боги умерли и больше не воскреснут... ‹...›
И не площади нового века, среди бешеного круговорота моторов, на земле и небе стоит Мережковский, смотрит обезумевшими глазами, держит кость цезаря над седой головой и кричит о её красоте.
Но не слышны слова его на аэропланах, а на земле для многих понятнее, ближе и живее гудения пропеллера.
Государственникам от искусства. 1918. Собрание сочинений. Т. 1. С. 78.
У футуристов Малевич критикует установку на чисто тематическую “футурологию”, т.е. на эмфатическое, эмоциональное понимание динамизма или модернизма современной “жизни”; символистов Малевич критикует как “пассеистов”, которые склонны ездить на колясках в современном городе:
Футуризм учит скорость как современную ценность. Но для нас нужнее только живописная ценность, ее супрематия над вещью. Мы очищаем формы нашего искусства от налёта дряхлости. Чем меньше прошлого касания, тем светлее новый день нашего творчества. ‹...› Через хамство ли зовём молодых, чтобы они вырастали плоды на своём огороде. Они должны быть лицом своего времени. ‹...›
Футуризм посылает к будущему, супрематизм — к настоящему.
Но смешно возвеличиваться в будущем, как и в прошлом. Пусть каждый день будет нашим отношением. И я счастлив, что живописная плоскость, образовавшая квадрат, есть лицо современного дня.
Государственникам от искусства. 1918. Собрание сочинений. Т. 1. С. 81.
Итак, настоящий авангард, т.е. в основном русское Будетлянство, настоящее искусство, т.е. супрематизм, стремится к динамизму формы, т.е. к динамизму как состоянию. “Покой” мыслится как за-умное, беспредметное состояние природы или Бога, космоса или супрематического сознания. “Покой” — это по существу внутреннее состояние “динамизма”, вне всяких категорий и образов, вне эмпирических и детальных проекций, которые Малевич, нередко одновременно с выпадами на шопенгауэровский «Мир как воля и представление», подвергает резкой критике.
Скорость, динамика, темп и т.п. у футуристов осмысляются в категориях пространства и предметности; с одной стороны, творцы славославили интуитивность и антирациональность современного мышления и ведения, с другой — оставались в рамках утилитарных или прагматических представлений.
Для Малевича настоящее искусство — это самовитое, самодовлеющее творчество, независимо от предметной и утилитарной сфер. Так как только супрематизм остался верным этим требованиям, он один был и в праве требовать для себя “первенства”, т.е. “супрематии” не только в рамках искусства, но и в космических масштабах:
Мы, супрематисты, были непослушными детьми, как только завидели свет, сейчас же убежали от слепой няни.
Мы выбежали к новому миру, там увидели чудеса, не было ни кости, ни мяса, мир железа, стали, машины и скорости царил там.
‹...› В новом же мире тесно на земле, мы летим в пространство ‹...›
Мы побеждаем того, кому приписано творение, и мы доказываем полётами крыльев, что мы всё пересоздадим, себя и мир, и так без конца будут разломаны скорлупы времени и новые преображения будут бежать.
Мы, супрематисты, заявляем о своём первенстве, ибо признали себя источником творения мира, мы нормальны, ибо живы.
Я пришёл. 1918, Собрание сочинений. Т. 1. С. 108.
‹...› Жизнь изменила самым резким
образом свои формы быта ‹...› Нам стало ясно, что Искусства есть два, одно питающееся
Результатами обыденной нашей жизни, другое непосредственным
Творчеством знаков увеличивающих жизнь
Одно Искуство (академизм) свидетельствует совершившийся
Факт семейных недоразумений, другое Супрематизм творит
Знаки
независимо от нашей жизни. ‹...›
Под огромным натиском силы Кубизма и Футуризма
Лопнул череп Академизма пали законы вожжей перспективы
Анатомии и вещи распалились ‹...›
Мы идём к
новой Религии.
„Мы разграничили...” 1918. // Поэзия. С. 100–102.
Таким образом, футуризм сделал своё, он совершил революционный шаг из мира “мяса” в мир “машины” и “железа”,21 и всё же остался в рамках старого мира, так как продолжал оценивать искусство как “средство”, как “орудие” для того, чтобы достигать внеположные цели. Передать “чувство” скорости на уровне тематики и мотивов для Малевича означает остаться в сфере старомодного реализма и его мимезиса; окончательно освободиться футуризму так и не удалось — и не только футуризму, но и таким художникам, как Кручёных с одной стороны, и Хлебникову, с другой.
и всё же остался в рамках старого мира, так как продолжал оценивать искусство как “средство”, как “орудие” для того, чтобы достигать внеположные цели. Передать “чувство” скорости на уровне тематики и мотивов для Малевича означает остаться в сфере старомодного реализма и его мимезиса; окончательно освободиться футуризму так и не удалось — и не только футуризму, но и таким художникам, как Кручёных с одной стороны, и Хлебникову, с другой.
3. Заумная поэзия — заумная живопись
Главным праздником “интер-медиальности” была постановка “оперы” «Победа над солнцем» (1913),22 где изобразительные и вербальные, театральные и музыкальные “языки” сливались, или вернее, “монтировались” в один жанр.23
где изобразительные и вербальные, театральные и музыкальные “языки” сливались, или вернее, “монтировались” в один жанр.23 То, что раньше служило декоративным целям, теперь выполняло самостоятельную роль. “Декорации” становились не только объектом обнажения или остранения, как, например, в романтической или символической инсценировке («Балаганчик» Блока): они выступали “декларациями” медиальности, т.е. моделями сцены с двоякими обрамлениями “Gückkastenbühne” — и тем самым, превращались, как известно, в модели картины (или в картину моделей) с названием «Чёрный квадрат» (1915).
То, что раньше служило декоративным целям, теперь выполняло самостоятельную роль. “Декорации” становились не только объектом обнажения или остранения, как, например, в романтической или символической инсценировке («Балаганчик» Блока): они выступали “декларациями” медиальности, т.е. моделями сцены с двоякими обрамлениями “Gückkastenbühne” — и тем самым, превращались, как известно, в модели картины (или в картину моделей) с названием «Чёрный квадрат» (1915).
Основа интермедиальных проекций — концепт или конструкт “передачи” трёхмерного пространства в двухмерную поверхность картины. Основа интервербальных проекций — перенос слово- и мифотворческих процессов из словесной сферы в визуальную, из заумной поэзии в “заумную живопись”. В вышецитированной известной картине Малевича “графическая заумь” — под знаком /Кр/, т.е. фамилией Кручёных,24 — играет роль связывающего звена между идеографическими и вербальными, словесными знаками. Тем самым /Кр/ указывает на ту концепцию “зауми”, которая для Малевича служила толчком к развитию “заумной живописи” или “алогизма”.25
— играет роль связывающего звена между идеографическими и вербальными, словесными знаками. Тем самым /Кр/ указывает на ту концепцию “зауми”, которая для Малевича служила толчком к развитию “заумной живописи” или “алогизма”.25
Несмотря на то, что на уровне мифопоэзии и семантики код словесного мира Хлебникова кажется крайне близким к архаизму и, впоследствии, к супрематизму — в частности к философским и религиозным тезисам Малевича, — несмотря на несомненную и глубокую близость между председателем Земного шара и носителем “космического сознания”, выбор Малевича в этот период пал на “алогизм” Кручёных.26
Удаляясь от словотворчества и мифотворчества Хлебникова и его стремления к выработке звёздного языка, т.е. нового/старого “кода мира” на основе лингвистических или семантических “универсалий”, в отличие от “семантизма” Хлебникова, Малевич предпочитал “алогизм” Кручёных и его намеренную хаотичность и произвольность. Главное для Малевича в период 1913–1915 — это освободительная динамика реконструкции парадигматических и прагматических правил и норм или, наоборот, контрастное сочетание “далековатых” мотивов и мотиваций.
В отличие от „словарей” Хлебникова и его семантических досок судьбы, “звучизм” Кручёных, его экспрессионизм и эмоционализм, идеальным образом реализовали те провокационные свойства, которые Малевич именно в этот период требовал от искусства: полное освобождение от всех “правил” и “задач”, дословный “а-логизм”, понятый как “анти-логизм”. Но уже в 1913-м г. в письме к Матюшину, Малевич резко отвергает сведения а-логизма к произволу или к игре со случайностями:
И вижу, что в настоящее время всё больше и больше начинает попадаться
бессмысленного черчения, изображающего то одно, то другое, чем
сводится к нулю всякая сложность постижения. Я думаю, что 1) искусство есть то, что не всякий может проникать в вещи, что это оставлено только выродкам времени; 2) что нельзя чертить ни одной линии
без контроля разума и смысла, а у нас больше всего встречаешь работы, деланные по какой-то бессмысленной судороге.
Мы дошли до отвержения разума, но отвергли мы разум в силу того, что в нас зародился другой, который в сравнении с отвергнутым нами может быть назван
заумным, у которого тоже есть
закон и конструкция и смысл, и только познав его, у нас будут работы основаны на законе истинно живом, заумном; этот ум нашел себе средство кубизм для выражения вещи ‹...›.
Письмо к М. Матюшину. Июнь 1913 г.27
Сюда относится известная серия картин Малевича 1912–1915 гг. как, например, «Англичанин в Москве», «Лётчик», «Корова и скрипка» или, как самое типичное выражение “алогичности” «Композиция с Мона Лизой» 1915 г., где “алогизм” или даже “дадаизм” («Мона Лиза») и супрематизм («Чёрный квадрат») синхронно соприсутствуют на одной и той же картине.28
Существует однако и обратный случай: диахронического сочетания супрематических признаков (индексов) вместе с архаическими мотивами крестьянского периода в конце 1910-х – начале 1930-х гг., когда Малевич даже передатирует картины для того, чтобы заново передать эволюцию, или вернее ин-волюцию художественного процесса до и после “квадрата”, т.е. нулевой формы супрематизма, как водораздела, как нулевого года рождения Христа.
4. Между Хлебниковым и Кручёных — или против всех
В то время, как Хлебников искал до- и подкультурных, архаично-будетлянских правил универсального языка, математических законов индивидуальной или коллективной судьбы и т.п., Кручёных раскладывал уже существующие словесные тексты (например, Пушкина или Гоголя), чтобы играть с не-морфологическими обломками словесных масс. Архаизм Хлебникова и анархизм Кручёных, каламбуризм и анаграмматизм, анальность и оральность, образуют дуальную модель “заумной поэтики” 1910-х гг.29 Самые важные признаки противопоставления поэтики Кручёных и Хлебникова можно свести к следующим:
Самые важные признаки противопоставления поэтики Кручёных и Хлебникова можно свести к следующим:
| Кручёных | Хлебников |
| | |
| установка на речь | на язык |
| экспрессивность | самовитость |
| прагматические контексты | парадигматические |
| перформативность | текстуальность |
| новизна и провокация | архаичность |
| анти-позиция | |
| поэтика эффекта | поэтика реализации и развертывания |
| инфантилизм | наивизм |
| каламбуризм | анаграмматизм |
| “сдвиг” словоразделов | ана-семантизм |
| асемантизм | ана-топика, анатопика |
| дефект | новые правила |
| звучизм | семантизм |
| текучесть | сочетаемость |
| язык тела | тело языка |
| обеспредмечивание | овеществление |
| экстаз и глоссолалия (хлысты) | археология |
танец речевых органов (Белый)30 | следы |
Несомненно освобождение “звучизма” от всяких семантических и практических функций на основе хлыстовской глоссолалии в манифестах Кручёных нашло у Малевича сильную поддержку, в частности, в его поэтологическом трактате «О поэзии» (1918–1919).31 У обоих авторов расширение поэтического слова и вообще художественного мышления за границы “смысла” и “разумности” (Кручёных: „слово шире смысла”, с. 66) приводит к сфере подсознательного (с. 66) и “иррационального”, “мистического”, “герметического” (П. Успенский. Tertium Organum)32
У обоих авторов расширение поэтического слова и вообще художественного мышления за границы “смысла” и “разумности” (Кручёных: „слово шире смысла”, с. 66) приводит к сфере подсознательного (с. 66) и “иррационального”, “мистического”, “герметического” (П. Успенский. Tertium Organum)32 и сектантского (с. 67):33
и сектантского (с. 67):33
Люди исключительной честности — русские сектанты — решились на это. Обуреваемые религиозным вдохновением ‹...› они заговорили на языке “духа святого” ‹...› И вот получилось новое слово, которое уже не ложь, а истинное исповедание веры, „обличение вещей невидимых”. „Намос памос багос”... ‹...› (из речи хлыста Шишкова). Замечательно, что некоторые сектанты ‹...› начинали вдруг говорить не только на таком заумном языке, но и на многих иностранных языках до того им неизвестных.
Новые пути слова. 1913. Манифесты, с. 67)
Обоснование зауми и вообще творчества на основе экспрессивной ритмической динамики “глоссолалии” появляется и у Малевича в трактате «О поэзии». Привожу только самые выразительные места из него:
1) Поэзия, нечто строящееся на ритме и темпе, или же темп и ритм побуждают поэта к композиции форм реального вида.
2) Поэзия — выраженная форма, полученная от видимых форм природы, их лучей — побудителей нашей творческой силы, подчинённая ритму и темпу.
Иногда поэт реальную форму мира облекает в ритм и темп, а иногда побуждает поэта буря восставшего в нем ритма чистого, голого к созданию стихотворений без форм природы. ‹...›
О поэзии. 1919. Собрание сочинений. Т. 1. С. 142.
Есть поэзия, где остается чистый ритм и темп как движение и время; здесь ритм и темп опираются на буквы как знаки, заключающие в себе тот или иной звук. Но бывает, что буква не может воплотить в себе звуковое напряжение и должна распылиться. Но знак, буква зависит от ритма и темпа. Ритм и темп создают и берут те звуки, которые рождаются ими и творят новый образ из ничего, (с. 142).
Все слова есть только отличительные знаки, и только. Но если слышу стон — я в нем не вижу и не слышу никакой определенной формы. Я принимаю боль — у которой свой язык — стон, и в стоне не слышу слова, (с. 143)
Поэту присущи ритм и темп и для него нет грамматики, нет слов, ибо поэту говорят, что мысль изречения [так!] — есть ложь, но я бы сказал, что мысли ещё присущи слова, а есть нечто, что потоньше мысли и легче и гибче. Вот это изречь уже не только что ложно, но даже совсем передать словами нельзя, (с. 144)
Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог. Он сам внутри себя, какая буря возникает и исчезает. ‹...›
Он сам как форма есть средство, его рот, его горло — средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. Т.е. он поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называем человеком. Человек-форма такой же знак, как нота, буква, и только, (с. 145)
Поэт боится выявить свой стон, свой голос, ибо в стоне и голосе нет вещей, они голые, чистые образуют слова ‹...› Ритм и темп включают образ поэта в действо. Сам же невидим и не видавший мир, не знающий, что есть в мире, ибо это знает только разум, как буфетчик свой шкап. ‹...› (с. 146)
Поэт не мастер, мастерство чепуха, не может быть мастерства в божеском поэта, ибо он не знает ни минуты, ни часа, ни места, где воспламенится ритм. ‹...›
В нём начнется великая литургия.
Тоже дух, дух религиозный ‹...›
Дух церковный, ритм и темп — есть его реальные выявители.
В чём выражается религиозность духа, в движении, в звуках, в знаках чистых без всяких объяснений — действо, и только, жест очерчивания собой форм, в действе служения мы видим движение знаков, но не замечаем рисунка, которого рисуют собой знаки. ‹...›
Тайна — творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигаются таинства нового. ‹...› (с. 147)
Тот, на которого возложится служение религиозного духа, — являет собой церковь, образ которой меняется ежесекундно. ‹...›
Церковь — движение, ритм и темп — её основы.
Новая церковь, живая, бегущая, сменит настоящую ‹...›
В поэзии уже промчались бегом первые лучи нового поэта, свободного от искусства мастерства, легкого и свободного. Гортань его зеркально чиста, и говор его чист, и нет в нем вещей неуклюжих — ведь ужасен современный и прошедший поэт.
Черна гортань его, выползают слова-вещи: табурет, розы пахучие, (с. 148)
Самое высшее считаю моменты служения духа и поэта, говор без слов, когда через рот бегут безумные слова; безумные ни умом, ни разумом непостигаемы.
Говор поэта — ритм и темп — делят промежутки, делят массу звуковую и в ясность исчерпывающие приводят жесты самого тела.
Когда загорается пламя поэта, он становится, поднимает руки, изгибает тело, делая из него ту форму, которая для зрителя будет живой, новой, реальной церковью.
Здесь ни мастерство, ни художество не может быть, ибо будет тяжело земельно загромождено другими ощущениями и целями.
Улэ Эле Лэл Ли Оне Кон Си Ан
Онон Кори Ри Коасамби Моена Леж
Сабно Оратр Тулож Коалиби Блесторе
Тиро Орене Алиж.
Вот в чём исчерпал свое высокое действо поэт, и эти слова нельзя набрать, и никто не сможет подражать ему. (С. 148–149)
Таким образом, Малевич принимает и даже продолжает глоссолалическое оправдание не только “зауми”, но вообще поэзии и искусства, понимаемого как биоритмический и космический процесс — и в то же самое время как состояние “возбуждения”, “раздражения”, которое производится только в сфере интуитивного сознания, за пределами трёхмерности. Идеи Кручёных о художественной экономике (ср. его концепцию „эко-эз” 1917-го г.)
34
вторгается в антихозяйственную “экономику” Малевича, т.е. в сферу чистого искусства и беспредметности. Здесь господствует 4-х-мерность, здесь архаичные и футурологические, сектантские и герметические принципы сочетаются в Новый мир заумного сознания.
Одновременно с этим, Малевич подвергает резкой критике все усилия “оправдания” и каузального обоснования самовитого, беспредметного и бессмысленного художественного творчества, так как все подтверждения об автономности искусства иначе оказались бы непоследовательными и ложными. Эта критика встречается уже в 1916 г. в письме к Матюшину:
‹...› новые поэты повели борьбу с мыслью, которая порабощала свободную букву и пытались букву приблизить к идее звука (не музыки). Отсюда безумная или заумная поэзия „дыр бул” или „вздрывнул”. Поэт оправдывался ссылками на
хлыста Шишкова, на нервную систему, религиозный экстаз и этим хотел доказать правоту существования „дыр бул”.
35
Но эти ссылки уводили поэта в тупик, сбивая его к тому же мозгу, к той же точке, что и раньше. Поэту не удаётся выяснить причины освобождения буквы. Слова как „таковые” — это вылазка Кручёного, и, пожалуй, она даёт ему ещё существование. Слово „как таковое” должно быть перевоплощено “во что-то”, но это остается
тёмным, и благодаря этому многие из поэтов, объявивших войну мысли, логике, принуждены были завязнуть в мясе старой поэзии (Маяковский, Бурлюк, Северянин, Каменский). Кручёных пока ещё ведёт борьбу с этим мясом, не давая останавливаться ногам долго на одном месте, но „во что” видит над ним. Не найдя „во что”, вынужден будет засосаться в то же мясо. ‹...›
‹...› и слово „как таковое” уже кажется не вполне освобождённым, потому что оно слово. Умное или заумное — это не важно. Они близки между собою, одинаково сильны — это два полюса. Но задача поэзии буквы — выйти из этих двух полюсов к самой себе.
Письмо к Матюшину. Июнь 1916. Ежегодник. С. 190–191.
Крайне интересно стремление Малевича выяснить и обличить крипторелигиозные мотивации в оправдании „слова как такового” внехудожественными причинами и, что самое главное, возвести его основание до уровня “инкарнации”, т.е. воплощения Слова-Логоса, Сына Божия в плоть, обозначаемого в обозначающем. С типичной для него иронией, или вернее сарказмом, Малевич ассоциирует аскетическую формулу о борьбе души с пристрастиями плоти с обратным мотивом — воплощения Слова в плоть. В обоих случаях исходная мотивация этих формул искажается и сильно остраняется, чтобы обнажить псевдо-религиозную, символистскую мифопоэтику, против которой Кручёных так резко и часто выступал. Единственное спасение Малевич ожидает от возврата к исконным и радикальным началам “зауми”, к звучизму и буквализму, т.е. к слову как таковому и букве как таковой. Только таким образом можно спастись от наивно-реалистического заблуждения и, тем самым, от гибели Нового искусства. Несмотря на эту фундаментальную критику, для Малевича Кручёных все же остаётся героем освобождения искусства и поэзии; без него и сам Малевич безнадежно заблудился бы в лесу символов и телесных (т.е. предметных) искушений, которые в период 1913-го г. исходили от искусителя Татлина. Татлин и Хлебников выполняли роль соблазнителя и уничтожителя беспредметности и слова как такового, потому что они оба, каждый по-своему, грешили относительно принципа фундаментальной самовитости и заумности художественного творчества. У Татлина заблуждение коренится в стремлении к конструктивизму и производству, у Хлебникова, как мы ещё увидим, к потенциальной утилитаризации поэтических и исторических правил и законов. Таким образом, что касается чистоты и последовательности беспредметной поэзии и заумной живописи, в конечном счёте Кручёных побеждает Хлебникова.
5. Буква как таковая
Идея “буквализма” играет для Малевича-заумника важную роль, так как для него музыкальность поэтического языка, фонетический или просодический принцип, весьма важные для символистов и футуристов, почти целиком заменяются установкой на графическую и ритмическую стороны поэтического языка. Несомненно Малевич был (в отличие от Матюшина, Кандинского или Клее), самым “амузическим” и в то же самое время антимузыкальным авангардистом своего времени. Идея Иванова о вагнеровском синтетизме форм искусств (Gesamtkunstwerk) была для него так же чужда, как ницшеанская и символистская идея о первенстве принципа “музыкальности” в хоре всех искусств.
Если Малевич говорит о ритме и темпе (например, в статье «О поэзии»), он не видит их в категориях музыкальной динамики, гармоничность и мелодичность для него совершенно неприемлемые качества эстетики. Ритм для него — космический принцип, как и всеобщая динамика “заряжения”, которая не имеет ничего общего с „музыкой сфер” пифагорейского или символистского космоса.36
Несомненно, Малевич отождествляет письменность и устность, графематическую и фонетическую сторону языка, когда исходя из Кручёных подтверждает, что основная задача поэзии — буквы. В письме к Матюшину июня 1916 г. читаем:
Я тоже посылаю ему [Кручёных], как он называет, „ветрописи”. Пишу ему новые свои задачи и мысли о слове, о композиции словесных масс (до сих пор компонировалась рифма, а не слова). Пока видны три случая в поэзии. В первом случае возникла мысль (о вещах) ‹...› Поэзия описательная, и чем складнее и плавно удавалось описать поэту лунную ночь, тем больше поэзии (какая чепуха).
Буквы были знаки для образования слова.
Письмо Малевича М.В. Матюшину. 1917. // Поэзия. С. 116–117.
Но задача поэзии буквы — выйти из этих двух полюсов к самой себе. И мне кажется, что новым поэтам нужно определённо стать на сторону звука (не музыки). Тогда можно избежать катастрофы ввязнуть в брюзглое мясо старой поэзии, (с. 117)
Много писалось о том, что футуристы (в частности Кручёных и Малевич) не могли различать графемику от фонетики. Первым Бодуэн де Куртенэ37 критиковал лингвистические ошибки и невежество футуристов, в то время как Роман Якобсон в своей работе о Хлебникове говорил о том, что „поэтическая этимология”38
критиковал лингвистические ошибки и невежество футуристов, в то время как Роман Якобсон в своей работе о Хлебникове говорил о том, что „поэтическая этимология”38 беспроблемна и вправе противоречить лингвистическим данным и правилам, если только семантическая система осталась последовательной и автономной. Как Фрейд в своей аналитической психологии берёт всерьёз „психическую реальность” клиента (несмотря на фактическую), так и Якобсон утверждает законность и правдивость дословного понимания поэтического текста, как прямое продолжение поэтического языка на синтагматической оси.
беспроблемна и вправе противоречить лингвистическим данным и правилам, если только семантическая система осталась последовательной и автономной. Как Фрейд в своей аналитической психологии берёт всерьёз „психическую реальность” клиента (несмотря на фактическую), так и Якобсон утверждает законность и правдивость дословного понимания поэтического текста, как прямое продолжение поэтического языка на синтагматической оси.
В графическом уровне поэтического текста, в поэзии как жанре „само-письма”,39 Малевич мог видеть связывающее звено между заумной поэзией и живописью.
Малевич мог видеть связывающее звено между заумной поэзией и живописью.
Сначала не было букв, был только звук. По звуку определяли ту или иную вещь. После звук разъединили на отдельные звуки и эти деления изобразили знаками. После чего смогли выражать для других свои мысли и описания.
Новый поэт — как бы возврат к звуку (но не язычеству). Из звука получилось слово. Теперь из слова получился звук. Этот возврат не есть идти назад. Здесь поэт оставил все слова и их назначение. Но изъял из них звук как элемент поэзии. И буква уже не знак для выражения вещей, а звуковая нота (не музыкальная). И эта нота-буква, пожалуй, тоньше, яснее и выразительнее нот музыкальных. Переход звука из буквы в букву происходит совершеннее, нежели из ноты в ноту.
Письмо Матюшину. Июнь 1916. Ежегодник. С. 190–191.
Размышления над двоякой природой графемы как языкового знака и как идеограммы, как факта письменности и факта живописи, графики и даже книжного “медиума” (книги и альманахи футуристов воспринимались как художественные объекты), нередко встречаются в авангарде этих лет, например, у Кандинского размышления о семиологическом статусе графем.40
В отличие от других авангардистов 10-х гг. Малевич довольно сдержанно относился к жанрам леттризма,41 несмотря на то, что Буквы часто встречаются в его картинах алогического периода. Другое дело — “графа-мания” Малевича-писателя, графемо-графическая организация его огромного наследия, где текстовые, “буквенные массы” и блоки таким же образом конфигурируются, как визуальные массы в супрематических картинах:42
несмотря на то, что Буквы часто встречаются в его картинах алогического периода. Другое дело — “графа-мания” Малевича-писателя, графемо-графическая организация его огромного наследия, где текстовые, “буквенные массы” и блоки таким же образом конфигурируются, как визуальные массы в супрематических картинах:42
Придя к идее звука, получили нота-буквы, выражающие звуковые массы. Может быть, в композиции этих звуковых масс (бывших слов) и найдётся новая дорога. Таким образом, мы вырываем букву из строки, из одного направления, и даём ей возможность свободного движения. (Строки нужны миру чиновников и домашней переписки). Следовательно, мы приходим к 3-му положению, т.е. распределению буквенных звуковых масс в пространстве подобно живописному супрематизму. Эти массы подвинут в пространстве и дадут возможность нашему сознанию проникать всё дальше и дальше от земли.
Письмо к Матюшину. Июнь 1916. С. 191–192.
Для Малевича, таким образом, ритмичность выступает как космический принцип — в отличие от музыкального, аполлинического принципа “вибрации” у Кандинского и других “герметистов”.43 Новое искусство, в частности заумная поэзия, не столько рефлектирует и передаёт космические движения и процессы (как в биоэстетике), сколько возбуждает их в смысле Биокосмизма (Федорова или Богданова).44
Новое искусство, в частности заумная поэзия, не столько рефлектирует и передаёт космические движения и процессы (как в биоэстетике), сколько возбуждает их в смысле Биокосмизма (Федорова или Богданова).44 Малевич, несомненно, в отличие от аполлинизма Кандинского, продолжает дионисийский принцип “(анти-)культуры как взрыва”, творчества как экстатического перешагивания, как эксцесса. Этот экспрессивный жест сильно чувствуется и в его ранних полупоэтических выкриках в духе современного ему стиля “бури и натиска”.
Малевич, несомненно, в отличие от аполлинизма Кандинского, продолжает дионисийский принцип “(анти-)культуры как взрыва”, творчества как экстатического перешагивания, как эксцесса. Этот экспрессивный жест сильно чувствуется и в его ранних полупоэтических выкриках в духе современного ему стиля “бури и натиска”.
В ранней декларации художника «Заметка о поэзии, душе, ритме, темпе...» (1918. «Поэзия». C. 118–123)45 космический принцип ритмичности и текучести связывается с антропологическим дерзновением в духе Фейербаха, с целью отождествления земного и человеческого тела:
космический принцип ритмичности и текучести связывается с антропологическим дерзновением в духе Фейербаха, с целью отождествления земного и человеческого тела:
‹...› есть поэзия, где остается чистый ритм как масса, располагающаяся или опирающаяся на буквы, освобожденные от вещи.
‹...› Загораются краски, бьёт вихрем ритм в поэта ‹...› это буря его Я, оно хочет говорить так, как никто. ‹...›
Так должно тоже быть в поэзии, ибо голос творчества высшего экстаза есть соприкосновение с Божественностью “Я”, творящего из ничего реальный звук, формы которого рисуют напряженность, литургийность своего духа. (с. 119)
Жесты как таковые, крик как таковой, ничего не имущее кроме себя, в них и будут голоса моего “Я”.
Интересным образом у Малевича этот космический принцип ритма и темпа, текучести и алогичности сочетается с минималистским отрывком, с формулой чистой заумности, где алогическая ассоциативность обрывается и кульминирует в завершающей, чисто заумной строке текста:46
Я нахожусь в 17 верстах от Москвы
Сейчас 3 минуты первого 11 июля 1-й час 1918
‹...› Темп и ритм рычаги,
которые подымают вертящиеся в бесконечности нашего сознания ‹...›
Все готовится встретить меня.
Поэзия. С. 104–106
Я иду
У-эл-эль-ул-эл-те-ка Новый Мой Путь.
С. 107
Подобной формулой кончается и манифест «О поэзии»:
Улэ Эле Лэл Ли Оне Кон Си Ан ‹...›
Вот в чем исчерпал свое высокое действо поэт, и эти слова нельзя набрать, и никто не сможет подражать ему.
О поэзии. С. 149.
Элементы этого минималистского жанра почерпнуты частично из графического и морфологического фонда Хлебникова, в части из его «Слова о Эль»,
47
теряя семантическую установку. Есть несколько примеров подобных “серийных” мини-жанров Малевича, где алогизм заумной поэзии переходит в беспредметность супрематической поэзии.
Только что цитированный текст «Я иду...» выполняет, между прочим, двойную роль: с одной стороны, он самостоятельный пример упомянутого словесного супрематизма, с другой — фигурирует как “паратекст”, т.е. как мотто для другого, теоретического жанра («О новых системах в искусстве». Витебск. 1919. Собрание сочинений. Т. 1. С. 153), а заодно и как “лото” или “гимн” УНОВИСа в Витебске.48
Самый радикальный пример словесного супрематизма — несомненно почти-нулевой текст, индицирующий свою “тему”, т.е. “музыку” и в то же самое время уничтожающий эту тему “молчанием”. В таких случаях, разумеется, близость мини-жанров Малевича к подобным жанрам у Обэриутов несомненна:
Цель музыки
Молчание.
Поэзия. С. 112.
6. Председатель космоса — председателю Земного шара
Отношения между Малевичем и Хлебниковым ещё сложнее и невысказаннее, чем отношения Малевича к Кручёных, или, как он писал Матюшину, к „Крученому”. В основном отношения между Малевичем и Хлебниковым не были уравновешенными, наоборот — односторонними. Если, с одной стороны, Хлебников серьёзно изучал размеры и пропорции супрематических картин Малевича, который этим гордился, то супрематист сам не так бескорыстно и свободно изучал звёздный язык и будетлянскую мифопоэзию Хлебникова.49 Все же мнение и оценки Хлебникова, его математика истории и судьбы, космические и планетарные спекуляции играли для Малевича решающую роль.
Все же мнение и оценки Хлебникова, его математика истории и судьбы, космические и планетарные спекуляции играли для Малевича решающую роль.
Видимо Хлебников был знаком с «Чёрным квадратом» Малевича: на выставке «0,10» (1915) он изучал и измерял числовые измерения рисунков и картин супрематиста.50
Хлебников, как и Малевич, видел в природе не только сферу самодовольных законов (например, закон гравитации), а скорее всего поле (или книгу), которое/которую человек-творец постоянно пере-рабатывает и пере-писывает. Таким образом, мифа-поэт — не только читатель Единой книги,51 но и писатель, “делатель” в смысле “poiesis”. Неслучайно Хлебников тоже является продолжателем идей Фёдорова о “перестройке” законов природы (и истории). Снятие гравитации так же как и энтропии, перераспределение сил — главная цель подобной “природной революции”. Параллельно с культурной революцией (социально-политической уже не интересовались ни Малевич, ни Хлебников), в центре внимания и активности стояла “поэтическая революция”, в рамках которой биосфера и семиосфера должны слиться в одно целое, в книгу-дерево мира.
но и писатель, “делатель” в смысле “poiesis”. Неслучайно Хлебников тоже является продолжателем идей Фёдорова о “перестройке” законов природы (и истории). Снятие гравитации так же как и энтропии, перераспределение сил — главная цель подобной “природной революции”. Параллельно с культурной революцией (социально-политической уже не интересовались ни Малевич, ни Хлебников), в центре внимания и активности стояла “поэтическая революция”, в рамках которой биосфера и семиосфера должны слиться в одно целое, в книгу-дерево мира.
Влияние идей Хлебникова на ранние философские трактаты Малевича чувствуется и в стиле и жестах космического мыслителя, в частности в гиперболизме демиургического человека, находящегося не только в центре творения, но и на месте Бога творителя. Подобные идеи в духе Фейербаха в это время встречаются везде; особенно и сильно у Малевича и Хлебникова развита именно идея само-возвышения.
Хлебников видел в картинах и рисунках Малевича автономные графические миры, на основе которых он заменил и вычислил хронологические соотношения, в центре которых стоит число 365 (теневой год; Хлебников, фонд, цит. по книге: Е. Ковтун. Sangesi. Zürich. 1993. С. 40). Главное для Хлебникова, как и для Малевича, — первенство времени над пространством, 4-ого измерения над 3-им, интуитивного познания в “алогизме” в живописи и зауми в поэзии над рациональным и утилитарным сознанием.
Хорошо известны и очень показательны сходства между космическими проектами/проекциями (построениями, “спутниками” и станциями) у Хлебникова и у Малевича. В космической мифопоэзии (или космических фантазиях) Хлебникова, например, в тексте «Утёс из будущего» (1921–1922), цитированном в этом контексте в книге Ковтуна,52 найдётся немало мест, где будетлянин развёртывает типичную для него (и вообще кружка Матюшина, Е. Гуро и др.) комбинацию природных, биологических, органистических форм и мотивов с техническими и утопическими. Общая тема и здесь — “безвесие”, снятие гравитации как признак космического состояния и сознания:
найдётся немало мест, где будетлянин развёртывает типичную для него (и вообще кружка Матюшина, Е. Гуро и др.) комбинацию природных, биологических, органистических форм и мотивов с техническими и утопическими. Общая тема и здесь — “безвесие”, снятие гравитации как признак космического состояния и сознания:
Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.
Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.
Другие шагают по воздуху. Опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени ‹...› По тропинке отсутствия веса ходят люди точно по невидимому мосту.
‹...› Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Тэ. Летучая змея здания. Оно нарастает как ледяная гора в северном море. Прямой стеклянный утёс отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром, — лебедь этих времен. На крылечках здания сидят люди — боги спокойной мысли ‹...›.
Утёс из будущего. 1921–1922. Творения. 1986. С. 566.
Архаизация утопии и/или утопизация архаизма имеет у Хлебникова скорее экологический, чем экономический характер. Нежность и теплота, с которой он говорит о биосфере, в частности о зверях, в строгом и холодном мире Кручёных и особенно Малевича немыслимы. Неслучайно Кручёных требует от искусства внеэмоциональности и агрессивной мрачности — в отличие от эмоционализма итальянских футуристов и, как мне кажется, в отличие от характерной “нежности” у Хлебникова.53
Во всяком случае, сфера растений или зверей совершенно чужда и безразлична космическому миру Малевича. Тема съедобности мира, типичная для “каннибалической поэтики” Хлебникова, у Малевича встречается редко; если вообще, то в контексте критики “харчевого быта”, где главное свойство утилитаристского человека — “жрать”, глотать и уничтожать. Наверняка, доказательства известной формулы „человек человеку — волк” Малевич мог черпать из упомянутой книги Гершензона «Тройственный образ совершенства» (Москва, 1918), хотя в ее контексте “звериная природа” человека не служит положительным примером для отождествления человека с миром природы или зверей, а как раз наоборот. У Хлебникова, как и у Е. Гуро, Матюшина и других представителей “органицизма” или “органики” в русском авангарде,54 природа не Зверинец,55
природа не Зверинец,55 т.е. “тюрьма для зверей”, а наоборот — рай и утопическое небо свободных детей земли, совместно с человеком:
т.е. “тюрьма для зверей”, а наоборот — рай и утопическое небо свободных детей земли, совместно с человеком:
‹...› Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки в пустом покое, темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. ‹...› Кругом пустое “нет”. Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его стены. Построили в сердце звериные города. Казалось, человек захлебнется в углероде себя. Его счастье было печатный станок, в котором для счёта не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без чисел не могла быть написана. ‹...› Целые части счёта исчезали, как вырванные страницы рукописи. ‹...› Но свершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, её спящую душу хлеба и мяса.
Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок. И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.
Утёс из будущего. 1921–1922. С. 657.
Таким образом, у Хлебникова мир вещей и зверей, растений и построений человека ближе к земле,56 чем атопическая сфера беспредметности у Малевича. Всё-таки в работах Малевича нередко встречаются мотивы из мифопоэзии архаиста, например, мотив черепа,57
чем атопическая сфера беспредметности у Малевича. Всё-таки в работах Малевича нередко встречаются мотивы из мифопоэзии архаиста, например, мотив черепа,57 один из центральных в поэтическом мире Хлебникова. В особенности места из книги «Бог не скинут»:
один из центральных в поэтическом мире Хлебникова. В особенности места из книги «Бог не скинут»:
‹...› Возбуждение — космическое пламя живёт беспредметным и только в черепе мысли охлаждает своё состояние в реальных представлениях своей неизмеримости ‹...›.
Бог не скинут. Витебск. 1922. С. 3–4; Собрание сочинений. Т. 1. С. 237.
Череп человека представляет собою ту же бесконечность для движения представлений, он равен вселенной, ибо в нём помещается всё то, что видит в ней; в нём проходят так же солнце, все звёздное небо комет и солнца, и также они блестят и движутся, как и в природе, также кометы в нём появляются и по мере своего исчезновения в природе, исчезают в нём. Эпоха за эпохой, культура за культурой появляются и исчезают в его бесконечном пространстве.
Не будет ли и вся вселенная тем же странным черепом, в котором без конца несутся метеоры солнц, комет и планет, и что они тоже одни представления космической мысли и что всё их движение и пространство и они сами беспредметны, ибо если бы были предметны — никакой череп их не вместил. Мысль движется, ибо движется возбуждение и в движениях своих творят реальные представления или в творчестве сочиняют реальное как действительность, и всё сочинённое изменяется и уходит в вечность небытия как и пришло из вечного бытия... (С. 240–241)
Ещё в ранних текстах Малевича можно найти хлебниковский мотив
черепа, в виде “скорлупы”, в которой могут вместиться вся земля и весь космос (как в средневековом представлении о “полом мире”):
58
‹...› Разум — первое образование лика человека; интуиция — смутное образование второго лика нового образования будущего человека, но предопределяется в глубине времени начало третье, которое завершит собою целое звено мирового строения; от него ничто не скроется, и многие миллионы страниц мира будут читаться сразу. Ни одна деталь не ускользнет из будущего черепа сверхмудрости. Но то, что сейчас в тайне, будет яснее солнца.
Я начало всего. С. 2.
В следующем полупоэтическом тексте молодого Малевича объединены несколко центральных мотивов Хлебникова:
‹...› Уменьшилась ли земля — или увеличивалось наше сознание
творить, и уход наш. ‹...›
Нить ума слова и звук присасывались
К вещам образуя собой целую сеть паутины. ‹...›
Я вижу землю маленькой как муху в паутине
Паутина чисел захлестнула ее, берите числа и расширяйте
Сеть паутины, так как другие планеты звёзды уже летят
К вам на выручку земли, знайте и не бойтесь им не
Поняты числа хотя из чисел состоят. В числе ваше
Спасение число хирургический нож режущий тело. ‹...›
Числа и цвет новые миры токов материалов
Числа и цвет тоньше гибче духа. ‹...›
Цвет и числа и звук правят миром.
Уста Земли и Художник. 1916? // Поэзия. С. 76–80.
Преждевременная смерть Хлебникова вызвала у Малевича желание у себя в последний раз осмыслить совпадения и несовпадения с мифо-поэтикой будетлянина, отношения с которым были очевидно так крепки, что он чувствовал необходимость отграничения (как и в других подобных случаях, например, по отношению к Татлину или Лиссицкому). Надо отметить, что с одной стороны, Малевич старается отдать должное Хлебникову, что касается его математических и астрономических теорий о вычислении коллективной или индивидуальной судьбы. С другой стороны, Малевич резко отвергает астрологическую и герметическую утилитаризацию поэтических или художественных структур и законов, типичные, по его мнению, для Хлебникова в его мифопоэтических творениях, как например, в «Зангези».
Хлебников, по словам Малевича, „астроном человеческих приключений”,59 но его ни в коем случае нельзя назвать „альфой футуризма или зауми”. Эта честь принадлежит, и здесь заключается кольцо, никому другому как Маринетти в Италии и Кручёных в России. С точки зрения современной науки, творчество Хлебникова в области астрономии истории и словотворчества — бесценно и неоспоримо, но это не имеет ничего общего с поэзией или с искусством. При всём новаторстве в словотворчестве Хлебников всё-таки остаётся в рамках “практического языка”, т.е. до-эстетической сферы, так как новые словообразования, неологизмы и архаизмы, служат практическим и поэтическим целям если не сегодняшнего дня, то, по крайней мере, будущего. Чем Хлебников занимается — это не “заумное дело”, а “умное”, чисто рациональное, реалистическое (там же). Вместо самовитого слова, он производит „утилитарное слово” практически-предметного реализма. В то же время там, где Кручёных освобождается от потребностей практического реализма, где он занимается творением чистого ритма и беспредметного слова, там он несомненно „заумный поэт” (там же). Далее Малевич сравнивает по принципу развёртывания исходной метафоры или мотива поэзию Хлебникова (о кометах) с кометой, которая временно попала в плен мира, как, например, «Зангези». В этом тексте сочетаются академические интересы к правилам птичьего языка со спекуляциями о языке богов. Однако для Малевича эти языки остаются практическими, они не “заумные” в чистом виде и поэтому «Зангези», как и весь языковой космос Хлебникова, принадлежит к миру сему, а не к чистому искусству.
но его ни в коем случае нельзя назвать „альфой футуризма или зауми”. Эта честь принадлежит, и здесь заключается кольцо, никому другому как Маринетти в Италии и Кручёных в России. С точки зрения современной науки, творчество Хлебникова в области астрономии истории и словотворчества — бесценно и неоспоримо, но это не имеет ничего общего с поэзией или с искусством. При всём новаторстве в словотворчестве Хлебников всё-таки остаётся в рамках “практического языка”, т.е. до-эстетической сферы, так как новые словообразования, неологизмы и архаизмы, служат практическим и поэтическим целям если не сегодняшнего дня, то, по крайней мере, будущего. Чем Хлебников занимается — это не “заумное дело”, а “умное”, чисто рациональное, реалистическое (там же). Вместо самовитого слова, он производит „утилитарное слово” практически-предметного реализма. В то же время там, где Кручёных освобождается от потребностей практического реализма, где он занимается творением чистого ритма и беспредметного слова, там он несомненно „заумный поэт” (там же). Далее Малевич сравнивает по принципу развёртывания исходной метафоры или мотива поэзию Хлебникова (о кометах) с кометой, которая временно попала в плен мира, как, например, «Зангези». В этом тексте сочетаются академические интересы к правилам птичьего языка со спекуляциями о языке богов. Однако для Малевича эти языки остаются практическими, они не “заумные” в чистом виде и поэтому «Зангези», как и весь языковой космос Хлебникова, принадлежит к миру сему, а не к чистому искусству.
В оригинале эти заключительные оценки Малевича звучат следующим образом:
Альфа футуризма был, есть и будет — Маринетти. Альфа заумного был и будет Кручёных ‹...›
Хлебников, хотя и творил слова новые, но видоизменял побеги слова от старого практического корня. Видел в них будущее практическое слово. С его точки зрения будетляне должны быть не заумными, а умными, как будущий мир практического реализма. Два современника — Кручёных и Хлебников — поставили себе задачу, аналогичную живописи: вывести поэзию слова из практического действия в самоцельное, как они говорили, самовитое слово ‹...›
Такова поэзия [хлебниковского типа зауми] целиком умна, как академический живописный реализм, как весь практический предметный мир. Если этот вывод считать сущностью поэзии, а жизнь практическую её содержанием, то заумь не есть поэзия ‹...› Если же поэт свободен и волен создать свое поэтическое слово, свой чистый поэтический ритм, ‹...› тогда Кручёных заумный поэт. ‹...›
Свободные кометы иногда попадают в плен миру, который включает их в свою систему. ‹...› Велемир Хлебников был одной из комет, вовлечённый землею в свою систему событий, ума, чисел, языка. ‹...› Его поэзия тоже принадлежит уму. Каждая построенная им буква есть нота песни обновленного практического мира.
В. Хлебников. // Поэзия. С. 132–135.
——————————————————
Примечания 1
1 Уже во времена возникновения супрематизма Малевич занимался спекуляциями об эволюции и периодизации в истории авангарда, начиная с импрессионизма, проходя через футуризм и кончая кубизмом и супрематизмом (
Казимир Малевич. От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм.
Москва. 1916 [Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1.
Москва. 1995. С. 35–54] или «О новых системах в искусстве».
Витебск. 1919 [Собрание сочинений. Т. 1. С. 153–184]).
 2
2 Ср.
A. Hansen-Löve. Zur Poetik des Minimalismus in der russischen Dichtung des Absurden. // Mirjam Gollers, Georg Witte (Hg.). Minimalismus.
Wien. 2001. С. 133–186, здесь: c. 141;
A. Hansen-Löve “Wir wußten nicht, daß wir Prosa sprechen”. Die Konzeptualisierung Russlands im russischen Konzeptualismus. // Hansen-Löve (Hg.) “Mein Rußland”. Literarische Konzeptualisierungen und kulturelle Projektionen. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 44.
Wien. 1997. C. 432–507, здесь: C. 436 сл. О Малевиче как предтече минимализма и концептуализма ср. Barbara Rose в:
G. Stemmrich. Minimal Art. Eine kritische Retrospektive.
Dresden-Basel. 1995. C. 281 сл.;
M. Tuchmann. Die russische Avantgarde und die zeitgenössigen Künstler.
Ibid. C. 528–540; ср. так же:
В. Кулаков. Минимализм: стратегия и тактика. // Новое литературное обозрение, 23. C. 258;
он же: Поэзия как факт.
Москва. 1999. С. 303 сл. Постмодернизация Малевича в смысле концептуализма встречается и у Бориса Гройса, например, в его книге:
Boris Groys. Über das Neue, Versuch einer Kulturökonomie.
München. 1992. С. 66 сл., 88 сл., 125 сл.
 3 Aage Hansen-Löve.
3 Aage Hansen-Löve. Diskursapokalypsen, Endtexte und Textenden. Russische Beispiele. // K. Stierle, R. Warning (Hg.). Das Ende. Figuren einer Denkform, Poetik und Hermeneutik, XVI.
München. 1996. С. 196 сл.
 4 О. Ханзен-Леве
4 О. Ханзен-Леве. Русский формализм.
Москва. 2001. С. 497, 517 сл.
 5 К. Малевич
5 К. Малевич. Лень как действительная истина человечества. Труд как средство достижения истины. // Философия социалистической идеи.
Витебск. 1921; английский перевод: ‘Sloth’. Selected Writings, IV, С. 73–85. Здесь цит. по русскому оригиналу, Стеделийк Мусеум, Собрание Ханс вон Риесен.
 6
6 Теодицея Малевича развёртывается в его трактате «Бог не скинут». Искусство. Церковь. Фабрика, [1920],
Витебск. 1922. (Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. С. 236–265);
Aage Hansen-Löve. Von der Bewegung zur Ruhe mit Kazimir Malevic. // Georg Witte (Hg.), Kinetographien.
Berlin.
 7 Ф.M. Достоевский
7 Ф.M. Достоевский. Записки из подполья. Полное собрание сочинений. Т. 5.
 8 Rainer Grübel
8 Rainer Grübel. Vollendung ohne Ende? Ambivalenz der Teleologie oder: Wider tyrannische Perfektion.
Rainer Grübel. Literaturaxiologie. Zur Theorie und Geschichte des asthetischen Wertes in slavischen Literaturen.
Wiesbaden. 2001. С. 133–177.
 9 Aage Hansen-Löve
9 Aage Hansen-Löve. Diskursapokalypsen, Endtexte und Textenden. C. 231 сл.
 10
10 Цит. по изданию:
Казимир Малевич. Поэзия.
Москва. 2000. C. 87.
 11 J. Campbell
11 J. Campbell. The Hero with a Thousand Faces.
New York. 1949. Мифопоэтические основы “предела” и его перешагания-трансгрессии в “действиях” героя в сюжете чувствуются и здесь:
Ю.М. Лотман. Происхождение сюжета в типологическом освещении. Т. 1. С. 224 сл.
 12
12 Ср. манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу». 1912. // Владимир Марков (изд.). Манифесты и программы русских футуристов.
München. 1967. C. 50.
 13
13 О теории „прибавочного элемента” ср.
К. Малевич. Einführung in die Theorie des additionalen Elementes der Malerei.
К. Малевич. Die gegenstandslose Welt. // Bauhausbuch, 11.
München. 1927 (= Nachdruck: Neue Bauhausbücher.
Mainz-Berlin. 1980);
Mojmír Grygar. The Contradictions and the Unity of Malevich’s World-Outlook. // Avant Garde, 5/6.
Amsterdam. 1991. C. 193 сл.
 14 К. Малевич
14 К. Малевич. Письма к М.В. Матюшину. // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 г.
Ленинград. 1976. С. 177–195, здесь С. 193.
 15 Р. Якобсон
15 Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. 1921. // Texte der russischen Formalisten, Bd. II.
München. 1972. С. 18–135. К критике псевдо-динамизма итальянских футуристов у раннего Якобсона и Малевича ср.
Aage Hansen-Löve. Randbemerkungen zur frühen Poetik Roman Jakobsons.
 16
16 О красоте скорости у футуристов ср.
F.Т. Marinetti. Gründung und Manifest des Futurismus (1909). // Umbro Apollonio. Der Futurismus. Manifeste und Dokumente.
Köln. 1972. С. 34.
F.T. Marinetti. Die futuristische Malerei — technisches Manifest. C. 40–43; Gründung und Manifest des Futurismus (1909). C. 33.
F.Ph. Ingold. Der große Bruch. Rußland im Epochenjahr 1913.
München. 2000. C. 136 сл.;
Aage Hansen-Löve. Von der Bewegung zur Ruhe mit Kazimir Malevic. // Georg Witte (Hg.). Kinetotographien.
 17 P. Якобсон
17 P. Якобсон. Новейшая русская поэзия. C. 31. К критике отождествления эмоционального языка с поэтическим или эстетическим ср.
О. Ханзен-Леве. Русский формализм. C. 103.
 18
18 О влиянии Бергсона на Малевича ср.
Hilary L. Fink. Bergson and Russian Modernism. 1900–1930.
Evanston, Illinois. 1999. C. 77 сл.
 19
19 О критике внешнего движения и мнимого динамизма итальянских футуристов ср.:
Hilary L. Fink. Bergson and Russian Modernism. C. 85.
 20 К. Малевич
20 К. Малевич. Собрание сочинений. Т. 1. С. 77.
 21 К. Малевич
21 К. Малевич. От кубизма и футуризма к супрематизму. Собрание сочинений. Т. 1. С. 35–55.
 22
22 Sieg über die Sonne. Aspekte russischer Kunst zur Beginn des 20. Jahrhunderts. Katalog zur Ausstellung der Akademie der Künste.
Berlin. 1983.
 23
23 О системе интермедиальности в искусстве авангарда ср.
Aage Hansen-Löve. Intermedialität und Intertextualität. // W. Schmid, W.-D. Stempel (Hg.). Dialog der Texte. Wiener Slawistischer Almanack, Sonderband, 11.
Wien. 1983. C. 291–260.
 24
24 См. эмблему на обложке брошюры Кручёных «Победа над солнцем» (1913), где двойной квадрат указывает на сценическое пространство так же, как и на схему Вильгельма Вундта, цитированную в статье Шкловского «Пространство живописи и супрематисты». //
В. Шкловский. Гамбургский счёт. Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933).
Москва. 1990. С. 96. Неслучайно на обложке книги Малевича «От кубизма и футуризма к супрематизму» (Москва, 1916) чёрный квадрат представляется как двойной квадрат.
 25 A. Flaker
25 A. Flaker. Ruska Avangarda.
Zagreb. 1984. C. 143 сл.;
он же. Nomadi ljepote. // Intermedijalne studije.
Zagreb. 1988. C. 115 сл.;
Rainer Crone, David Moos. Kazimir Malevich. The Climax of Disclosure.
München. 1991. C. 100;
F.Ph. Ingold. Der große Bruch. С. 41 сл., 131 сл.
 26 Aage Hansen-Löve
26 Aage Hansen-Löve. Krucenych vs. Chlebnikov. Zur Typologie zweier Programme im russischen Futurismus. // Avant Garde, 5/6. 1991. C. 15–44;
он же. Русский формализм. C. 92 сл.
 27
27 К алогизму Малевича ср.
Jewgenij F. Kowtun. Sangesi. Chlebnikov und seine Maler.
Zürich. 1993. C. 42; там же: ‘Письмо к Матюшину’. 1913 (прим. 51).
 28 Rainer Crone, David Moos
28 Rainer Crone, David Moos. Kazimir Malevich. The Climax of Disclosure;
Felix Ph. Ingold. Bildnis des Autors als Unperson. Zur Ästhetik und Poetik des russischen Kubofuturismus. // F.Ph. Ingold, Werner Wunderlich (Hg.), Fragen nach dem Autor. Positione und Perspektiven.
Konstanz. 1992. С. 9–171;
он же. Der große Bruch. С. 153 сл.;
Aleksandar Flaker. Glossarium der russischen Avantgarde.
Graz–Wien. 1989. К “алогизму” ср.
Ежи Фарино. “Аллогизм” и изосемантизм авангарда (на примере Малевича). // Russian Literature. XL–I. 1996. C. 91;
J.-Cl. Marcadé. L’avant-garde russe. 1995. C. 115 сл.;
Charlotte Douglas. Jenseits des Verstandes: Malewitsch, Matjuschin und ihre Kreise. // Maurice Tuchmand, Judi Freeman (Hg.). Das Geistige in der Kunst. Abstrakte Malerei 1890–1985.
Stuttgart. 1988. С. 188;
W. Sherwin Simmons. Kasimir Malevich’s Black Square and the Genesis of Suprematism 1907–1915.
New York – London. 1981. C. 71 сл.
 29
29 См.
Aage Hansen-Löve. Krucenych vs. Chlebnikov. Zur Typologie zweier Programme im russischen Futurismus. C. 15–44.
 30 Aage Hansen-Löve
30 Aage Hansen-Löve. Allgemeine Häretik, russische Sekten und ihre Literarisierung in der Modeme. // Rolf Fieguth (Hg.). Orthodoxien und Heresien in den slavischen Literaturen. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 41.
Wien. 1996. С. 171–184, здесь С. 231 сл.
 31
31 О поэзии. // Изобразительное искусство, 1. 1919. Цит. по: Собрание сочинений. Т. 1. С. 142–149;
Александра Шатских. Казимир Малевич и поэзия. // К. Малевич. Поэзия.
Москва. 2000. С. 9 сл.; ср.
С. Казакова. К истокам “беспредметного искусства”. // Russian Literature, XXXIV-II. 1993. С. 135–160.
 32 Р.D. Ouspensky
32 Р.D. Ouspensky. Tertium Organum. The Third Canon of Thought. A Key to The Enigmas of the World.
London. 1957 (русский оригинал). Ср. о влиянии Успенского и герметизма на русский авангард и на Малевича:
Maurice Tuchman, Judi Freeman. Das Geistige in der Kunst. Abstrakte Malerei 1890–1985. С. 131 сл.;
John E. Bowlt. Esoterische Kultur und russische Gesellschaft. // Maurice Tuchman, Judi Freeman (Hg.). Das Geistige in der Kunst. Abstrakte Malerei 1890–1985;
Charlotte Douglas. Jenseits des Verstandes: Malewitsch, Matjuschin und ihre Kreise;
там же. C. 187 сл.;
John F. Moffitt. Marcel Duchamp: Alchimist der Avantgarde. C. 257–271.
Sixten Ringbom. Überwindung des Sichtbaren: Die Generation der abstrakten Pioniere. // Maurice Tuchman, Judi Freeman (Hg.), Das Geistige in der Kunst. Abstrakte Malerei 1890–1985. C. 131 сл.;
О.H. Шизирева. Логика иррационального. К вопросу о позднем творчестве К.С. Малевича. // Русский авангард 1910–1920-х годов в европейском контексте.
Москва. 2000. С. 254 сл.;
Anthony Parton. Avantgarde und mystische Tradition in Rußland 1900–1915. // Okkultismus und Avantgarde. Von Munch bis Mondrian 1900–1915.
Frankfurt. 1995;
Linda D. Henderson. Die modeme Kunst und das Unsichtbare: Die verborgenen Quellen und Dimensionen des Okkultismus und der Wissenschaften. С. 13–31;
F.Ph. Ingold. Der große Bruch. С. 43;
Mojmir Grygar. The Contradictions and the Unity of Malevich’s World-Outlook. C. 201 сл.
 33
33 О сектантских моментах у Малевича ср.
Aage Hansen-Löve. Allgemeine Häretik... С. 235 сл.
 34
34 Ср.
Кручёных. Нособойка.
Тифлис. 1917; ср.
Т.В. Горячева. К понятию экономии творчества. // Русский авангард 1910–1920-х годов в европейском контексте. C. 265 сл.;
А. Шатских. Казимир Малевич и поэзия. C. 29 сл.;
John Е. Bowlt. Demented Words. Kazimir Malevic and the Energy of Language. // Zaumnyi futurizm i dadaizm v russkoi kul’ture,
Bern–Berlin etc. 1991. С. 295 сл.
 35
35 Ср. Кручёных в сборнике «Помада» (Москва, 1913); о хлыстах в связи с заумной поэтикой ср.
Кручёных. Декларация слова, как такового. C. 65; ср.
Aage Hansen-Löve. Allgemeine Häretik... С. 231 сл.;
F.Ph. Ingold. Der große Bruch. С. 174 сл.
 36 Aage Hansen-Löve
36 Aage Hansen-Löve. Der russische Symbolismus. Bd. 2. C. 97 сл.
 37 И.С. Бодуэн де Куртенэ
37 И.С. Бодуэн де Куртенэ. К теории слова как такового и буквы как таковой. // Отклики, 8. 1914; о “графической зауми Кручёных” см.
С. Третьяков. Бука русской литературы.
Москва. 1922; подробнее о “графической зауми” в рамках формализма, ср.
О. Ханзен-Леве. Русский формализм. С. 88–91.
 38 Р. Якобсон
38 Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. С. 97 сл.
 39
39 Ср. футуристический манифест Кручёных и Хлебникова «Буква как таковая», С. 60–61. Термин „само-письма” встречается в рамках манифестов футуристов в альманахе «Садок судей». 1912. C. 52.
 40 В. Кандинский
40 В. Кандинский. К вопросу о форме. // Синий всадник.
Москва. 1966. C. 57; ср.
О. Ханзен-Леве. Русский формализм, с. 72.
 41 Jewgeni F. Kowtun
41 Jewgeni F. Kowtun. Sangesi. Chlebnikov und seine Maler. C. 24 сл.;
Gerald Janecek. The Look of Russian Literature. Avant-Garde. Visual Experiments, 1900–1930.
Princeton. 1994;
Владимир Поляков. Книги русского кубофутуризма.
Москва. 1998.
 42 А. Шатских
42 А. Шатских. Казимир Малевич и поэзия. С. 9–61;
А. Шатских. Слово Казимира Малевича. // Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1.
Москва. 1995, С. 9–18.
 43
43 О значении вибраций в оккультизме ср.
Linda D. Henderson. Die modeme Kunst und das Unsichtbare: Die verborgenen Wellen und Dimensionen des Okkultismus und der Wissenschaften. // Okkultismus und Avantgarde, Katalog. C. 13 сл.;
А. Шатских. Малевич после живописи. C. 11;
John Е. Bowlt. Esoterische Kultur und russische Gesellschaft. // Maurice Tuchman, Judi Freeman (Hg.). Das Geistige in der Kunst. Abstrakte Malerei 1890–1985, c. 178.
 44
44 Подробнее о влиянии Н. Фёдорова на “биокосмистов” ср.
Michael Hagemeister. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben. Werk und Wirkung.
München. 1989. С. 241 сл.
 45 К. Малевич
45 К. Малевич. Заметка о поэзии, духе, душе, ритме, темпе (1918). // Поэзия. C. 118–123.
 46 A. Шатских
46 A. Шатских. Казимир Малевич и поэзия. C. 26;
О. Ханзен-Леве. Русский формализм. С. 93 сл.
 47 B. Хлебников
47 B. Хлебников. Слово о Эль. 1921. // Собрание сочинений. Т. 2.
Москва. 2001. С. 84–86.
 48 А. Шатских
48 А. Шатских. Поэзия. C. 26;
А. Шатских. Витебск. С. 149 сл.;
А. Шатских. Слово Казимира Малевича. Т. 1. С. 16.
 49
49 К мифопоэтике Хлебникова ср. «Der Kopf des Weltalls, die Zeit im Raum» и «An die Maler der Welt», cp.
Larissa A. Shadowa. Suche und Experiment.
Dresden. 1978, C. 123, 321 сл.
 50 Jewgenij F. Kowtun
50 Jewgenij F. Kowtun. Sangesi. Chlebnikow und Seine Maler. C. 31 сл.;
К.С. Малевич. Хлебников и Малевич: в поисках значимых элементов. // Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911–1998.
Москва. 2000, С. 175–181.
 51 B. Хлебников
51 B. Хлебников. Единая книга. 1921. // Собрание сочинений. Т. 2. С. 114–115; ср.
Aage Hansen-Löve. , Die Entfaltung des “Welt-Text”-Paradigmas in der Poesie V. Chlebnikovs. N.Å. Nilsson (Ed.). // Velimir Chlebnikov. A Stockholm Symposium.
Stockholm. 1985. С. 27–88.
 52 Jewgenij F. Kowtun
52 Jewgenij F. Kowtun. Sangesi. Chlebnikow und Seine Maler. C. 125–127; русский оригинал текста «Утёс из будущего» см.:
В. Хлебников. Творения.
Москва. 1986, С. 566–567.
 53
53 Ср., например, ключевые стихи Хлебникова «Муха нежное слово, красивое...» в: Собрание сочинений. Т. 1. С. 287; ср. и
Aage Hansen-Löve. Die Entfaltung des “Welt-Text”-Paradigmas... C. 56 сл.
 54
54 Ср. выставочный каталог «Органика».
Москва. 2001.
 55
55 Ср. одноименное стихотворение Хлебникова (Творения. С. 185–187), ставшее впоследствии эпиграфом к повести Шкловского «Zoo или письма не о любви».
Berlin. 1923 (
О. Ханзен-Леве. Русский формализм. С. 536 сл.).
 56 Aage Hansen-Löve
56 Aage Hansen-Löve. Velimir Chlebnikovs poetischer Kannibalismus. // Poetica, 19. Bd, H. 1–2, С. 88–133.
 57
57 Мотив поэта как „черепа мира” встречается и у Родченко в фотомонтаже к «Разговору с фининспектором» Маяковского; ср.
F.Ph. Ingold. Der Autor im Flug. Daedalus und Ikarus. // Der Autor am Werk. Versuche über literarische Kreativität.
München. 1992. C. 43;
Aage Hansen-Löve. Der “Welt ‹–›Schädel” in der Mythopoesie V. Chlebnikovs. // W.G. Weststeijn (Ed.). Velimir Chlebnikov: Myth and Reality.
Amsterdam. 1986. C. 129–185.
 58
58 Cp.
Aage Hansen-Löve. Der “Welt ‹–›Schädel” in der Mythopoesie V. Chlebnikovs.
 59 К. Малевич
59 К. Малевич. В. Хлебников. // Поэзия. С. 131–135.
Воспроизведено по:
Russian Literature LV (2004) 229–258
Благодарим Барбару Лённквист
(Barbara Lönnqvist, Åbo Akademi University, Turku)
за содействие web-изданию.
Изображение заимствовано:
Henrique Oliveira (b. SP, Brazil, 1973). Tapumes. 2006. Paralela, São Paulo, Brazil.
Plywood and PVC. 3,7×14×1,8m.


 ак все представители русского авангарда, так и Малевич думал и действовал в категориях обновления, инновации и остранения в рамках бурной перемены художественных школ и группировок 1910-х–1920-х гг. Его интерес к вопросам организации, пропагандирования, стратегии определённых позиций и концепций резко и быстро меняющихся конфигураций “измов” — типичен для Малевича-авангардиста или, вернее, для его стратегии: довести до конца (или до абсурда) все доминирующие или находящиеся в состоянии “становления” течения в искусстве (от неоимпрессионизма до кубизма, от футуризма до примитивизма, от кубофутуризма до супрематизма и т.д.).1
ак все представители русского авангарда, так и Малевич думал и действовал в категориях обновления, инновации и остранения в рамках бурной перемены художественных школ и группировок 1910-х–1920-х гг. Его интерес к вопросам организации, пропагандирования, стратегии определённых позиций и концепций резко и быстро меняющихся конфигураций “измов” — типичен для Малевича-авангардиста или, вернее, для его стратегии: довести до конца (или до абсурда) все доминирующие или находящиеся в состоянии “становления” течения в искусстве (от неоимпрессионизма до кубизма, от футуризма до примитивизма, от кубофутуризма до супрематизма и т.д.).1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()