А.Г. Горнфельд
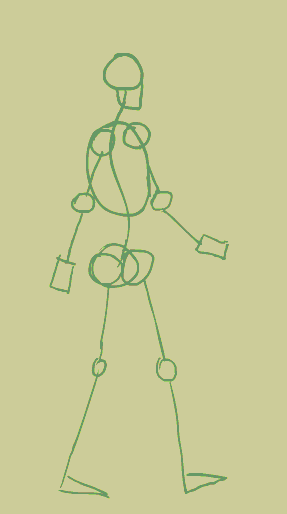
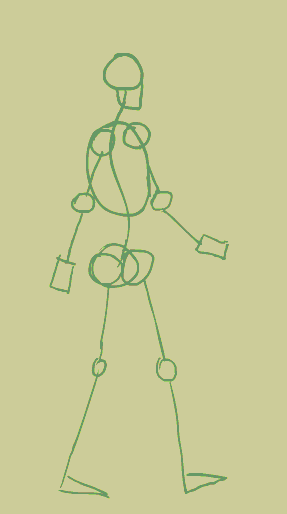
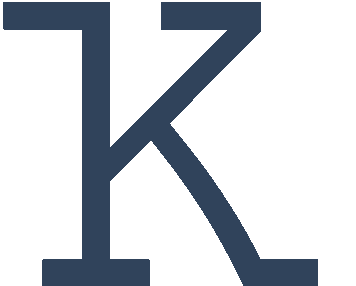 огда-то их объединяли, потом разъединяли; к тому же они перессорились не то из-за поэтики, не то из-за славы (всё равно, из-за выеденного яйца), заумники звали эгофутуристов эго-блудистами, эго-блудисты тоже в долгу не оставались, и в этом сонме ругателей критики различали петербуржцев и москвичей. Они и теперь временами сводят старые счёты, но только по старой памяти. Не потому, что сводить старые счёты легче, чем писать новые стихи: их новые стихи похожи на старые счёты, скучные, однообразные и безнадёжные, так как предъявлены к банкротам.
огда-то их объединяли, потом разъединяли; к тому же они перессорились не то из-за поэтики, не то из-за славы (всё равно, из-за выеденного яйца), заумники звали эгофутуристов эго-блудистами, эго-блудисты тоже в долгу не оставались, и в этом сонме ругателей критики различали петербуржцев и москвичей. Они и теперь временами сводят старые счёты, но только по старой памяти. Не потому, что сводить старые счёты легче, чем писать новые стихи: их новые стихи похожи на старые счёты, скучные, однообразные и безнадёжные, так как предъявлены к банкротам.В самом деле, согласимся, что „дыр–бул–щур”, впервые предложенное смелым Кручёных на место безнадёжно-устаревшего „По небу полуночи ангел летел”, было гениально. Мы увлекались этим пламенным призывом к высшим мирам, мы отдавали наше умиление и наш беззаветный порыв вдохновенному зову великого будетлянского поэта, мы шли за ним и ждали его новых вдохновений. И вот, через десять лет после этих первых экстазов, после этих первых предчувствий великих катаклизмов, после великой революции слова и духа, предощутившей великую революцию быта и строя, мы вновь и вновь читаем:
Это стихи из «Голодняка» Кручёных. Спросим поэта: стоило ли пережить так много, испытать и мировые потрясения, и «Сборники по теории поэтического языка», чтобы до такой степени остаться на месте? Ибо сколько бы Кручёных ни уверял нас в противном, мы никак не можем признать, что „безма–бзама–смани” есть прогресс по сравнению с „дыр–бул–щур”. Это — употребим старый пошлый термин старой пошлой критики — просто перепев; и великая боль для нас, пламенных адептов пламенной этой поэзии будущего, в том, что она, несмотря на пророческое громоурчание её вождей, не доплыла до новых светозарных берегов и кончилась, не начавшись. Не до всех дойдёт, но безграничной ответной скорбью прозвучит в чутких душах страдальческий стон поэта — одно из немногих членораздельных (отчасти!) признаний в его последней книге:
Положение действительно ужасное: после многолетних успехов, после повсеместных и повсесердных побед вдруг почувствовать себя калошей, к тому же белой, да ещё без молока. Тут уж не поможет ни горделивое предсказание „Все читать заумь станут”, ни царственная статистика в анонсе: „За время с 1912 по 1921 г. взлетело 97 книг А. Кручёных”. Взлететь-то взлетело, только не в виде ли дыма от цыгарок?
К статистической рекламе прибегает и Игорь Северянин, сообщающий, что за тот же период его книги напечатаны в количестве 112938 экземпляров. Не видим необходимости подвергать сомнениям эту автостатистику, тем более, что в оценке поэта эти сотни тысяч экземпляров стоит не больше, чем нынешние сотни тысяч рублей. И, видно, Игорь Северянин это чувствует, так как ещё и ещё раз уверяет, что его „двадцатую книгу вдохновений снега событий не затрут”. Однако, невероятность этого предсказания ясна для всякого, кто имел случай ознакомиться с новейшими “вдохновениями” изысканного поэта. Те же штучки, те же выкрутасы, но какой безграничной пошлостью веет теперь от этих „поэз”, „пиессо”, „рифмодиссимо”, „фиольевых порывов” и „февральских златодней”, от всех этих безвкусных попыток сочетать Бальмонта с дядей Михеем.
Но мы знаем, что его новые „стихозы” столь же новы и его розы столь же благоуханны, как и стихозы и розы его кубо-врагов. Им, беспомощно повторяющим себя, не угнаться за „пароходом современности”, у руля теперь не футуристы, а Мариенгоф и Нельдихен, бросившие Северянина и Кручёных за борт. Через четверть часа придёт и их черед: в нынешней русской поэзии вехи меняются много скорее, чем в политике, и если этот выпуск «Литературных Записок» запоздает на неделю — кто знает, может быть, к этому дню устареет и Мариенгоф, и властительницей дум и чувств русского читателя окажется какая-нибудь ещё более новая поэтическая школа.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||