

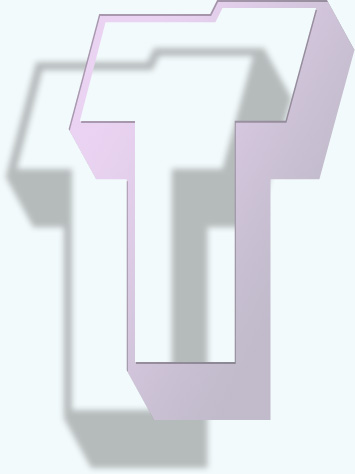 екст Детей Выдры включён составителями Творений (Хлебников, 1986) в раздел сверхповестей. Данное самим поэтом во Введении к Зангези определение сверхповести как зодчества из рассказов вошло в обиход литературоведения; при этом самостоятельные отрывки, из которых набирается колода, названы в этом же тексте плоскостями (1986: 473). Семантически это соответствует композиционному приёму зодчества.
екст Детей Выдры включён составителями Творений (Хлебников, 1986) в раздел сверхповестей. Данное самим поэтом во Введении к Зангези определение сверхповести как зодчества из рассказов вошло в обиход литературоведения; при этом самостоятельные отрывки, из которых набирается колода, названы в этом же тексте плоскостями (1986: 473). Семантически это соответствует композиционному приёму зодчества.На первом амстердамском симпозиуме Грюбель, ссылаясь на Хольтхузена („dramatische Montage”; Holthusen, 1974: 50), предложил своё определение Зангези: „монтаж жанров” в русле „вторичного синкретизма” (Grübel, 1986: 402 и сл.). Говоря о зодчестве Хлебникова, Грюбель соотносит его с обильным архитектурными понятиями языком русской литературной критики начала ХХ века (формализм, конструктивизм; там же, 413), однако предлагает нам термин искусства кино. Раз так, не будет ли более по-хлебниковски назвать если не сам жанр, то хотя бы указанный приём (по Толстому, в понимании Шкловского*![]()
Мерило, изготовленное Хлебниковым в 1922 году, мы привыкли прилагать и к другим его текстам, построенным по принципу сцепления плоскостей, хотя они во многом отличаются от Зангези. Таковы опубликованные (работа над созданием шла с 1912 г.1![]()
Если в Зангези первым делом появляется глыба (рассказ первого порядка), на которой стоит заглавный персонаж, читающий песни или проповеди к людям или лесу, то Дети Выдры начинаются с грандиозного зрелища первотворения неба, моря и земли. Зрелище это — говоря словами Владимира Маркова (Марков, 1986), воистину „прелестное” — внезапно сменяется иконографией грозы, которой — при вторжении технической цивилизации (самобег, бросающий два снопа света и управляемый истопником, т.е. chauffeur-ом) — сопутствует гибель животных (лебедь, носорог) и бурлескное появление кентавра (людоконин), прогоняющего ... муху. Далее следует охота на мамонта, но уже в отрывке вполне театральном, даже с человеком в галунах, сопровождающим в зерцоге Детей Выдры.
Исследование О сценическом варианте «Детей Выдры» (Перцова, 2001), несмотря на то, что дальнейшие части опубликованного текста „мыслились автором скорее не как сценические, а как повествовательные”, позволяет нам рассматривать и другие паруса как „зрелищные”, тем более, что в „сценическом варианте” упоминается не только театр, но и кинематографический экран, что действительно подразумевает некий Gesamtkunstwerk.
Определённую „сценичность действия” Перцова замечает и во 2-ом парусе. Необходимо дополнить её наблюдение. Плоскость этого паруса (ср. толкование ‘парус’ = ‘косая плоскость’ в примечании X. Барана, 1993: 112) открывается мотивом барочной живописи типа vanitas: Горит свеча именем разум в подсвечнике из черепа. Голландская композиция подразумевает наличие книги как существенного элемента vita contemplativa; Хлебников соблюдает это правило своевременным упоминанием имени хорватского учёного Бошковича (1711, Дубровник – 1787, Милан), ровесника Ломоносова, почётного члена Петербургской Академии Наук с 1760 года.
Бошкович в книге Philosophiae naturalis theoria... (Венеция, 1758) изложил учение о взаимодействии мельчайших частиц — вещественных точек, простых и неделимых. Идея Бошковича привела Нильса Бора к созданию модели атома в 1913 году.
Одновременно Велимир Хлебников пишет свои паруса. Именно с точки, как учил Боскович (книги хорватского учёного публиковались по латыни и его имя передавалось латинской графикой: Rogerio Josepho Boscovich) начинается хлебниковская игра. Точка становится действительно атомом, им как мячом играют бурные игроки:
Далее следует появление снежных вершин Олимпа, причём Будетлянин — т.е. разновидность хлебниковского, не всегда “лирического”, субъекта — высказывает в сущности формалистское credo: Размером Илиады решается судьба Мирмидонянина. Но вместо подвигов Ахилла появляется обязательная для живописи типа vanitas – vita voluptuaria сцена любви Ахилла и Бризеиды, бурлескная и напоминающая Батрахомиомахию.
Снижение любовной сцены соответствует не только барочной концепции фатума. Ведь это наверху Олимпа Зевс бросал взволнованно прочуствованные слова на чашку весов (весьма часто появляющуюся в барочной живописи. — Прим. авт.), оживлённо обсуждая смерть и час Ахилла.
Далее метаморфоза: Олимп превращается в Лысую гору, и на это зрелище с галёрки смотрят Дети Выдры. Пространство замыкает круг с исходной вещественной точкой Бошковича — футбольным мячом.
Заметим, что в это же время Мандельштам оперирует „футбола толстокожим богом”, сравнивая мяч с головой Олоферна, изображенной на холсте Джорджоне (Юдифь, Эрмитаж — ср. Футбол, 1913; Мандельштам, 1973: 219).
В самом тексте 1-ого паруса Детей Выдры, основанного на мифах приамурских орочей (ср. Баран, 1993: 15–21), пространство Азии не обозначено, и лишь косые монгольские глаза духов или же маленький монгол с крыльями (Хлебников, 1986: 431) подают заявку на Азийский голос Детей Выдры, сделанную поэтом в автокомментарии 1919 года (там же, 36).
Пространство, увиденное с галёрки, всецело европейское: здесь доминирует Олимп Гомера. “Азийская” тема, в сущности, растёт на “евразийской” параисторической плоскости 3-его паруса, который начинается с того, что Сын Выдры думает об Индии на Волге, при этом он упирается пятками в монгольский мир и рукой осязает её, Индии, каменные кудри (433). Однако Индия появится только в сценической концовке текста с мотивом умирающего у костра старого Индийца, спасающего из гроба русса, падшего в бою во время похода Искандера, т.е. Александра Македонского. Из гроба выпрыгнувший русс вырывает у индийца меч, а на успокаивающих его арабов
Концовка лаконична и достойна Шекспира: занавес опускается на пространство треугольного паруса, охватывающего руссо-азийское пограничье между Камой, Кавказом и южными морями, где неотменно присутствуют арабы, наблюдающие с неколебимым спокойствием за сражениями, на сей раз воистину гомерическими:
Комментаторы, разумеется, указывают на арабские и персидские источники описания сражений, вследствие коих
Лейтмотив постоянных сражений на азиатском пограничье России продолжает следующий, на этот раз написанный прозой 4-й парус, озаглавленный Смерть Паливоды и восходящий не то к Гоголю, не то к украинскому фольклору, цитированному в самом начале текста. Этот парус начинается сценкой сидящих у костра казаков, в окружении летящих и кричавших в лугу птиц, волов, лежащих подобно громадным могильным камням, что позволяет Хлебникову вновь сослаться на арабские письмена: Искалась на них надпись благочестивого араба ‹...› (436). В хронологическом порядке следуют картины двинувшегося в путь табора, продолжения пути на челнах и — в ответ на татарское насилие — гиперболическое изображение схватки с татарами:
Богатая красочность этого казацкого шествия — дань казачьему мифу не только русской литературы (ср. “украинский” романтизм в польской литературе); при этом, несмотря на этнические атрибуты (белая рубаха и штаны украинского полотна) как у Гоголя, так и у Хлебникова, казаки Запорожской Сечи — истинно русский ответ на западных меченосцев и тевтонских рыцарей (436). Концовка Смерти Паливоды — его восшествие — всецело иконична в самом прямом смысле слова:
Сусальностью образа не снимается лаконизм прощания старшины над могилой: „Спи, товарищ!”, как знака закапывать могилу славного (439).
Не случайной оговоркой представляется нам цитата из Гомера, вошедшая в сцену, написанную по мотивам Илиады во 2-ом парусе: цитирует же Хлебников не Илиаду, а Одиссею! Налицо сцепление с 5-ым парусом, озаглавленным Морское путешествие. В начале его предстаёт новая картина:
Иконичность продолжается в жемчужном водопаде брызг в синем свете, в призраке стеклянных глубин, и чаек на берег намёках (439) и в уподоблении серого парохода острову, рассекающему голубой водоём. Но с момента, когда на подмостки поднимается вождь, начинается длинный монолог, частично с диалогическими приёмами, содержащий „general meaningful sayings” как одну из хлебниковских “автостилизаций” (о типологии лирического субъекта у Хлебникова ср. Weststeijn, 1986: 230, 236). Речь вождя, передающая хлебниковское безмерье, несмотря на сквозную “морскую” метафорику, в сущности, по терминологии Лосева (Лосев, 1982: 38–41), „аниконична”, однако нельзя не упомянуть „прелестную” параболическую сценку, противостоящую катастрофизму монолога:
Заканчивается этот монологический отрывок сцеплением с “казацким” парусом. Глобальное видение обозначено связывающим оба паруса знаком:
Мотив “жребия войн”, появившийся в одном из чаще всего цитируемых „meaningful saying” (И мы живём, верны размерам ‹...›, 442; повторяет высказывание о том, что размер Илиады решал судьбу Ахилла), будто бы предвещает “игру на пароходе”; причём сценичность этой игры в войну шахматами во время Морского прибоя всеобщего единства (447) не подлежит сомнению. “Детской” игре “в войну” (в том же 5-ом парусе, под тем же заглавием Морское путешествие) противостоит начинающийся шутливым каламбуром диалогический текст, в основном построенный на монологе Утёса, который отсылает к мифу о Прометее с обязательными атрибутами горного пейзажа и сдержанной иконичностью:
В этом отрывке сценичность соблюдается участием Людей, которым принадлежит приведённая цитата, и Орлов, пролетающих над изящным стадом ланей. Отрывок заканчивается ссылкой на Пушкина: черкешенка освобождает “кавказского пленника”. Сам Кавказ не упоминается, но лермонтовская традиция здесь налицо: под облаками видны воздвигнутые древним плотником — дворцы и каменные хижины, а Утёс заканчивает свой монолог намёком на утренний пейзаж.
Кстати, в самом начале пятого паруса дана отправная точка: не только громады во мгле, но и река Терек. В завершение кавказо-прометеевской сцены вновь падает занавес (448), и кораблекрушение — несмотря на его вполне иконическое изображение, наверняка сопоставляемое современниками с гибелью «Титаника» 1912 года — окончательно замыкает катастрофичность всего паруса — возвращения на Итаку нет и не предвидится:
Очередное сцепление: на вопрос, поставленный в концовке 5-го паруса, Хлебников берётся ответить в 6-м парусе, озаглавленном Душа Сына Выдры. Слово предоставляется полководцам пунических войн Ганнибалу и Сципиону, а затем в диалог вливаются голоса славянского Пантеона: Святослав, Пугачёв, казачий гетман Самко,2![]()
Ведущая роль в этом лукиановском „многоголосом диалоге” (Баран, 1993: 108) принадлежит Ганнибалу, высмеивающему законы, созданные Марксом и Дарвином (‹...› Карл и Чарльз, — они / Всему виною ‹...›; Хлебников, 1986: 449). Обратим внимание, что появление знаменитых полководцев античного мира на “плоскости” хлебниковского диалога есть продолжение разговора о войне, начатого в 3-м парусе. Следует помнить, что текст возник накануне мировой войны (об отношении русского авангарда к войне ср. Гурьянова, 1992) и именно именем карфагенского полководца заканчиваются стихи, написанные в ответ на вторжение во Фландрию; но не имя Ганнибала, а его незадачливого брата Газдрубала сулит поражение захватчикам (ср. Флакер, 1993: 99).3![]()
“Славянский Пантеон” не иконичен. Его персонажи только вскользь отвечают на вопрос о “судьях” и “законах”. По одну сторону выстроились здесь воины, не дающие ответов: ни Святослав, обвитый каймой золотой, ни носящий в страну отцов / Плач смерти, похорон (там же, 452) Пугачёв, ни жертва течений розных — гетман Самко, и даже не Разин, сделавший чёрное море ‹...› червонным (453), не делают историю. По другую сторону стоят смиренный Ян Гус, обращающийся к бабушке, всей в хворосте, с костра; мало охарактеризованный Ломоносов и нисколько не спорящий с битвами Коперник:
“Славянское” пространство не целостно: в нём воины и бунтари сосуществуют с учёными, а Хлебников здесь не дышит славянофильством, хотя обращение именно к славянским мыслителям в преддверии мировой войны понятно. Впрочем, его интерес к славянству в общем парафилологичен (ср. Парнис, 1978): славянские имена, выступающие в Детях Выдры — Бошкович, Гус или Коперник, — имена общеевропейской культуры. Среди них нет имени автора проекта общеславянского языка, упоминаемого в разговоре Учитель и ученик 1913 года — Крижанича (591; см. Баран, 1993: 107), хотя именно Крижанич пользовался диалогическими формами.
Хлебниковский текст видится нами как сверхзрелище, монтаж, подобный ярмарочным “панорамам” или приёмам кино и охватывает космическое пространство, простирающееся над морем; бросок точки (футбольного мяча) на вершину Олимпа; географическую плоскость войн на стыке Азии и Европы, увиденную арабами; Украину с Запорожской Сечью; путешествие пароходом; Кавказ с мифом о Прометее и русской поэзией; “разговор мёртвых” персонажей римской истории, русских мятежников, славянских еретиков и учёных. Монтаж этот кончается спасением на хлебниковском Острове высокого звёздного духа (453), причём следует помнить и цитируемые во 2-м парусе слова Гомера: „Андра мой эннепе, Муза” (433). Остров этот, впрочем, не Итака, однако несомая парусами “одиссеяда” в нём получает осмысление:
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 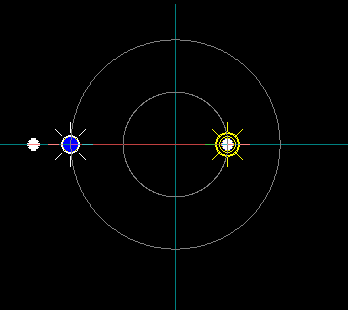 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||