

Парадоксальным образом подлинно национальный и воистину народный дух этой поэзии для читателя–соотечественника тайна в гораздо большей степени, чем для иностранца. Мы находим объяснение этому в законах восприятия искусства, в психологии восприятия языка вообще. С ними неразрывно связаны законы поэтической речи. Один из них, подмеченный ещё античными авторами и превосходно сформулированный Аристотелем в его трактате о поэзии, показывает сущность работы поэта (разумеется, поэта подлинного, не эпигона, для которого нет ровно никаких проблем — они давным-давно решены другими). Этот закон можно пересказать приблизительно так: речь поэта на его родном языке кажется иноязычной, соотечественники воспринимают её как речь иностранца. Иными словами, истинно поэтическая речь остранена, абсурдивизирована. Мы поймём Аристотеля лучше, если представим себе человека, явившегося в обыденную, привычную нам среду обитания как посланец иного мира, где понятия не имеют о наших ценностях. Словно пришелец с другой планеты, зрячий среди слепцов или некий фантастический мастер, он каким-то неведомым нам инструментом измеряет всё и вся. Но это лишь подготовительный этап. Основная работа — поименовать всё это. “Immer zu benennen” — так называется и начинается одно из лучших стихотворений Иоганнеса Бобровски, где поэт определяет жизненную задачу художника-творца именно как именователя мира. А вот как сказал об этом другой поэт:
Таково свойство подлинно поэтического текста: словесные символы возвращают нас к глубинным истокам национального языка, спасая тем самым от языка общепринятого, бытового, который отклонился далеко не в лучшую сторону от исконной речи, оброс множеством наслоений, совершенно ей чуждых. Поэт, разумеется, использует элементы обиходного языка, однако суть и новизна его речи в том и заключаются, что всё это как бы впервые им услышано, впервые осваивается. Каждое произносимое слово поэт переживает как бы впервые и всякий раз по-новому: он словно видит и слышит в первый раз, как это бывает с ребёнком, — такова особенность поэтического “рабочего аппарата”, его слуха, зрения, мысли. Эта особенность его интеллекта и позволяет ему делать работу именно такого рода, а не иного, именно так работать с языком, в отличие от других профессиональных литераторов. Никогда поэт не воспринимает свой родной язык как раз и навсегда незыблемо данную реальность, неизменяемую действительность; никогда язык не принимает для поэта готовой формы: нет, поэт формирует все формы языка заново и по-своему, и в этом и заключается смысл его труда. Язык, слово для поэта — не посторонняя реальность мира, но порождение его собственного воображения, мысли, зрения и слуха. Если то же самое сказать метафорически, то слово для поэта — волшебная глина в руках волшебного мастера, тёплый воск, всякий раз оживающий под пальцами по-новому. Вот почему по отношению к языку обиходному, бытовому, язык поэзии — иноязычная речь. Но это не единственная причина. Есть ещё много других, из которых главная — неповторимость личности поэта, её структура, всегда более или менее не зависящая от социальных стереотипов. Такова была личность Хлебникова, и уже одно это обрекало его на полное одиночество. Но об этом позднее. Если мы теперь вернёмся к особенностям хлебниковского языка, то после всего сказанного будет ясно, что язык его — язык подлинной, а не эрзац- или китч-поэзии — требует особых критериев и для изучения, и для постижения, и, главное, для верной оценки. Да, для особого контингента читателей его речь — это речь иностранца; да, для России особого рода его поэзия зашифрована, чужда и невнятна, и здесь он и после смерти остался одинок — как был одинок при жизни в России больших и малых литераторов, политиков, издателей, вождей, царей, вельмож, лакеев и пр. Не отсюда было царствие его. Но его стихов стихии, но его строф дубровы, рощи и моря — это русское царство, которому нет предела. Возможно ли найти его на географической карте? На каких пространствах скитался поэт, когда русский ландшафт пел ему свои странные песни на странном, лишь ему понятном языке? Ведь это пение русского поля мы слышим в напевности этих строф, и его тишину, и его чистый, холодный тон. Так земля передаёт людям свое дыхание и принимает дуновение человеческих песен.
Трагедия жизни художника не кончается с его смертью; трагедия жизни Хлебникова продолжена в его творчестве. Но судьба его творчества светла. Что же касается его жизни, то сам он отнюдь не считал её трагической: он считал и исчислял её вне границ времени, он жил в иных измерениях. Действительность, то есть настоящее время, было для него случайным отрезком, случайным скоплением единиц. Он придерживался собственной системы времени. Более того, он сформулировал собственный закон времени, который реализовался через “натуральные единицы времени”. Они, по Хлебникову, для нашей планеты — земные сутки и земной год, но не часы, минуты и секунды. Не будет глупых минут и секунд — любил говорить он. Также его слова: вообще если осмелились жить на земном шаре, то должны бы тщательно изучить законы жизни на нём. Но до сих пор время было какой-то Золушкой ‹...› свобода от времени и пространства сосуществование волимого и вопящего... Он мечтал о таком существовании, где права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывается к рюмке... Вот так вольно, свободно, космически широко ощущал Хлебников время; и если мы последуем за мыслью поэта и постараемся понять его идеи, то нам легко откроются также его речевые символы и язык его метафор, особенно своевольный и порою “герметичный”. Но мы ведь знаем, что в образной системе любого большого поэта метафора — камень преткновения для исследователя и читателя. И это естественно; язык метафор — своеобразный код или шифр поэта, отразивший факты и особенности его биографии, его внутреннего (и внешнего) зрения, его характера, его умения или желания мыслить при помощи категорий живописи, короче — его индивидуальность. Язык метафор поэтов древности и по сей день не разгадан и не раскрыт полностью; так же метафоры Рильке или Тракля. Метафоры Хлебникова черпают свои ассоциации из самых разнообразных областей внутреннего мира поэта, связаны в такой же степени с его художественным бытием, как и с научными идеями; так же и словотворчество его.
Вот пейзаж времени:
Так течёт единица космического времени у Хлебникова, та самая “натуральная единица времени”, что движет народы и эпохи в гибком зеркале природы. И, почувствовав ритм этого космического времени, мы уловим и дыхание хлебниковских надмирных и вневременных пейзажей, где мгновения жизни вселенной текут как в синих рябинах вода; там
В этом стихотворении мы встречаем одно из хлебниковских словообразований, существительное времыши, употребляемое во множественном числе. Семантика этой синтагмы многообразна, но, разумеется, в первую очередь мы замечаем и ощущаем здесь образ времени, и оно дано как олицетворение и персонификация природы, вечной и вневременнóй природы, ибо мы знаем, что существительное камыш, одно из слагаемых этого словообразования и одновременно его параллель, именует растение, растение долголетнее и древнее; ещё мы знаем про это слово, что оно — устойчивый мифологический и поэтический образ, чаще всего образ вечности, персонифицированный в виде вечно живущего у вечной воды певучего ствола; растение-певец, растение-легенда, побег вечной жизни природы и поэзии, их живое отражение, минутное и вечное: время — каменьем, а каменья — временем, вечный лик вечной жизни. От морфем ‘врем’ мы имеем у Хлебникова ещё одно существительное, равно связанное со временем и его отрицанием; и это существительное применяется обычно во множественном числе (и это тоже усиливает выразительность, подчёркивая множественность образа и его текучесть во времени); существительное это — времири. Как законченный образ-символ, прочно связанный со вполне точными и определёнными ассоциациями, как устойчивая синтагма, слово это является уже в самых ранних стихах и также олицетворяет космическое начало в жизни искусства и мира, тот образ “надмирности” или “внемирности”, о котором поэт постоянно грезил, в стихах и в прозе. Одно из первых появлений времирей на свет — стихотворения 1908 и 1909 гг. Некоторые строки из них я процитирую:
Как видно из текстов, образ времирей очень ёмкий. Если попробовать описать его, то получим наслоения нескольких впечатлений: зрительного, слухового и, как параллель к ним, абстрагированных символов. Времири: образ легко пролетающего над жизнью людей внемирного времени, быть может, фантастические вещие легкокрылые птицы или летучие травы, — но в том-то и дело, что границы зрительного сильно размыты и неопределённы, и, в сущности, таковы особенности подлинно художественного образа. Он обращён ко многим нашим впечатлениям и апеллирует ко многим свойствам человеческого интеллекта одновременно. И описать такой образ невозможно: вспомним здесь слова другого замечательного поэта (Ханса Карла Артманна): „поэтический акт есть свершение, которое отвергает любую передачу из вторых рук, любое посредничество при помощи описаний, музыки или иных свидетельств”.
И всё-таки будем свидетельствовать: времири — крылатые существа; времири пролетают стаей высоко над жизнью людей. Так пролетает время, стая лет и зим. Так текут годы и столетья. Параллельные этому образу “двойники”: времушек-камушек; время-каменье; и, наконец, образованное с помощью одной и той же частицы существительное, которое также явилось носителем важнейшего символа — смертири. Смертири — спутники времирей (Смертирей беззыбких пляска / Времирей узывных сказка), тень смерти незаметно сопровождает бег времирей. Но есть и третий “спутник”:
И так от стихотворения к стихотворению, листая страницу за страницей, вчитываясь в каждую строфу и вживаясь в каждый образ, мы понемногу складываем составные части картины души поэта, шаг за шагом входим в страну его поэзии. Страна эта обширна. Язык поэзии Хлебникова вырастает на сложной почве; в сущности, его научные идеи, лингвистические, математические, исторические и другие, — никак не отграничены от его поэзии. Вернее будет сказать, что всё это — различные стороны его деятельности как поэта и художника. Математические идеи Хлебникова являются одним из выражений его художественного кредо, быть может, поэзией, выраженной знаками математики, а не языка. Его математические изыскания — тоже поедания поэта из глубины Вселенной поэта. И они выражают те же идеи, те же символы и образы, что и стихи. Мы не найдём в истории мировой поэзии ни одного подобного примера. Язык поэзии как система знаковых символов расширен до предела и беспредельно широк. В сущности, открыта новая область художественных символов и новая знаковая система художественного творчества. Математические идеи Хлебникова, по существу, идеи художественные. А художественные образы поэта поверены математикой, они точны, их ассоциации глубоко обусловлены и имеют многослойный психологический подтекст. Я не случайно остановилась на образе времени: это — один из примеров такого взаимодействия науки и поэзии у Хлебникова. Его Закон времени выражен стихами в процитированных выше образцах. Его “натуральные единицы времени”, его ритм космического времени оживает в ритме лёта лёгких времирей или в стремительных взмахах крылами вольных жарирей, тоже сопровождающих бег времирей над миром; жарирей, зловещих прислужников древнего славянского Жарбога, могучего, временами жестокого (жестокого как сама природа) Ярилы-Солнца (Яростного Солнца). Так в этой поэзии оживают образы древнерусского фольклора, так встает в этих строфах древняя, новая, умершая, нерожденная страна, странная страна, но и истинная: в этих надмирных пейзажах живёт, быть может, самая истинная, самая живая, вечная и вещая Россия:
Странная страна истинной реальности диктовала поэту свой странный, свой истинный язык. Как я говорила, язык поэзии Хлебникова неотделим от языка его математики. Удивительным образом это всегда было теснейшими узами связано в его сознании. Так, в своей статье «О стихах» он, отстаивая самостоятельный язык поэзии, сравнивает его с языком чисел и, как лучший пример тому, приводит случай из детства математика (Софьи Ковалевской). Числовые символы, утверждает поэт, даже непонятные и непонятые, имеют странную власть над нашим разумом; такую же, какую имеет и слово молитвы на непонятном языке, и слово, словесный символ поэзии, пусть ещё неразгаданный и немой:
Несомненно, все утверждения этой прекрасной теоремы истинны в самом высоком смысле слова: это — речь высшего разума. Но истины эти отнюдь не обязательны и не всеобщи. Далеко не каждый обязан понимать язык числовых символов или язык поэзии. Но важно сказать, что для поэта, и именно для поэта Хлебникова, язык числовых символов тесно связан с языком символов словесных. Более того: здесь можно говорить о теснейшем взаимопроникновении и взаимодействии. Логика поэтический речи Хлебникова — речи высшего разума — несомненно, впитала в себя элементы математической логики: уровень обобщений её необыкновенно высок, не говоря уж об остальных компонентах. Но ведь символы математического мышления в своих глубинных слоях и самых далёких истоках неминуемо смыкаются с поэтической символикой, с логикой поэтического абстрагирования. Все эти различные свершения человеческого разума действуют параллельно и имеют, в сущности, одну цель и даже одно направление. Поэзия числовых символов и символы поэзии у Хлебникова — две стороны одного явления. Его творчество — уникальное в истории литературы, математики и человеческой мысли вообще явление; могло бы оно стать началом новой эры поэзии? Может ли быть дан ответ на этот вопрос? Несомненно лишь одно, а именно, что поэзия Хлебникова — единственное в своём роде явление, глубоко в себе самом заключённое, в высшей степени самостоятельное и независимое; оно не стоит в одном ряду с другими явлениями литературы и науки ни своего времени, ни любого другого; оно не подобно им и не может и не должно быть им уподоблено.
Оценивая его или попросту стремясь понять, мы не должны пользоваться общепринятыми критериями, если таковые вообще существуют, и ещё меньше критериями общепринятого. И не следует при этом думать, что такая самостоятельность этого творчества делает его недемократичным, герметичным, не конвергентным: оно может считаться таковым не больше или не меньше, чем творчество Бетховена, Кандинского, Микельанджело или Эйнштейна; оно в такой же степени — откровение; и оно в такой же степени располагает правом быть непонятым, быть верно понятым, быть понятым частично или полностью, быть не понятым полностью, — как и любая другая истина, которая не перестаёт быть истиной оттого, что нравится или не нравится данному потоку свидетелей, и которая не меняет своего естества, чтобы примениться к тем или иным обстоятельствам, то есть не мимикрична, то есть свободна и вполне независима. Таково положение поэзии Хлебникова в мире действительных ценностей человеческого разума.
Исключительность этого искусства заставляет нас с особой осторожностью рассматривать биографию поэта. Был он сыном своего времени, этот человек, мечтавший о полной свободе от времени и пространства и открывший свой особый закон времени? Был он связан со своим временем, этот человек, сказавший о своем времени такие слова: моё настроение можно было бы назвать настроением “велей злобы” на тот мир и тот век, в который я заброшен по милости провидения"?
Ответом на эти вопросы может быть только исследование, столь же обширное, сколь серьёзное. Немалая роль в таком исследовании должна быть отведена вопросам социологии искусства и психологии творчества вообще. В моём кратком очерке я, разумеется, не могу ни ставить, ни обсуждать подобных проблем. ещё менее ответить на вопрос, в какой мере принадлежал Хлебников к тому течению, которое принято называть русским футуризмом. Нет ничего проще, как обронить скоропалительное: „Хлебников, один из представителей русского футуризма, автор слова будетляне, автор и соавтор манифестов русских футуристов” и т.д. Так же просто и противоположное заключение: „Несмотря на совместные манифесты, выставки и доклады, в которых он фигурировал так или иначе, несмотря на звучное, им созданное слово будетляне, он не принадлежал к русскому футуризму, оставаясь независимым и одиноким”. Оба утверждения несут в себе процент правды и неправды. Одно дело — быть уникальным и одиноким художником, сознавая свою уникальность и художественную обособленность; другое дело — одиночество — как фактор социальный. Социальное одиночество трудно переносилось Хлебниковым; несмотря ни на что, он искал человеческих и социальных контактов и часто охотно шёл им навстречу. Сближение с русскими футуристами, многие из которых были и остались его друзьями, привлекало его по некоторым причинам, одна из которых была свобода и независимость их творчества, отсутствие рабского подчинения идеалам и традициям прошлого, поиски собственных путей и собственных форм выражения, а главное — надежды, надежды, которые, в общем-то, оставались трудно обозримыми и неясными символами. Но ведь именно таково свойство феномена будущее в сознании человека, и нет более человечного символа в человеческой и человечной душе, чем неясное предвидение гармонии, надежда на гармонию.
Так Хлебников был и связан со своими современниками, и свободен от них: очень уж широко текло его творчество для подобных связей. Он сам, если можно сказать, “тёк по жизни”, или, ещё вернее, “против жизни”, подобно полноводной реке смывая берега и соединяя границы. И так в определённый момент жизни он слился с “течением” футуристов, связанный с ними лишь несвязанностью своей...
Во всех манифестах футуристов он остался лишь глашатаем свободы, протестуя против всякого рода оков, защищая любимое слово от кодексов, “талмудов” и догм и оставаясь, в конце концов, один на один со словом, только с ним одним.
Если пожелать всё-таки близкого знакомства с биографией поэта, то нет более точного и исчерпывающего документа, чем его стихи. Только в них можно найти свидетельства о событиях его жизни, переданные с добросовестностью очевидца, свидетеля и участника. Обратимся к одному такому свидетельству; вот стихотворение, относящееся к последним годам жизни автора. Можно это стихотворение толковать как образец лирического послания:
Если снова сказать о взаимосплетении разных пластов художественного сознания поэта, то в этом тексте мы находим и мотивы его личной биографии, и основные творческие заповеди, и отпечаток его общих взглядов на мир, на человека и его судьбу. Лирическая жалоба сменяется мечтой о космической гармонии мира, мотив неприкаянности и одиночества заглушён радостным и чистым аккордом конца: Пить голубые ручьи чистоты, / И страшных имён мы не будем бояться. А до этого робко, светло и горячо звучит призыв к братству: Хочешь, мы будем — брат и сестра?. И земная любовь даётся здесь как продолжение любви всеобщей, пантеистического начала: Просто я буду служить вам обедню...
Трудно найти в мировой лирике более чистое и высокое песнопение во славу любви; трудно отыскать выражение более целомудренного и покойного чувства, — такого же прозрачного и нежного, как прозрачен и светел завершающий образ всей вещи: голубые ручьи чистоты. Как ручей чистоты струится и течёт гармония этих строф, гармония света и добра. Призыв к всеобщему братству, к согласному единению всего живого, будь то зверь, птица или растение, радостное и целостное приятие мира, какой-то светлый языческий пантеизм, проходит лейтмотивом через всё творчество поэта, является одной из ведущих его идей. Любовь и любовная лирика его носит обычно отпечаток этого пантеизма, этого спокойного приятия круговорота жизни; и человек, по Хлебникову, частица этого круговорота, прекрасен или ужасен в такой же степени, как зверь, птица или растение. Он сознавал себя прежде всего — частью вечного времени, и, пожалуй, братство было для него важнее любви.
Это излучение добра и радости тоже в немалой степени изолирует его творчество от современников, отделяет и отдаляет его от тех же футуристов, например; мы знаем, что деятельности их присущ, в известной степени, агрессивный характер. Тенденция к бунтарству часто принимает формы нетерпимости, эмоции неприятия (а порою и ненависти) выходят за пределы литературной борьбы и превращаются в пропаганду нанависти вообще, вражды вообще. Ничего этого не знает искусство Хлебникова, всё это было глубоко чуждо строю его личности. Стихия стихов его светла; в своей доброте, в своём лучезарном мире поэт уединён и одинок, словно Бог света или гармонии. Этим своим лучезарным, ярко светящимся миром Хлебников плотнее всего отгорожен от мира реальных вещей, от того, что люди называют действительностью и современностью. Вот одна из главных причин вечного и непоправимого одиночества этого поэта. Его мир, населённый полуфантастическими существами, то ли из мифологии, то ли из фольклора славянского, то ли из древних преданий, — а на самом деле все они лишь разные и в разные моменты другие воплощения души поэта, — так вот, мир этот возвышается точно остров посреди океана российской жизни, и остров этот обнесён скалами и окутан непроницаемой стеной облаков. Но вот вы входите в этот мир, вступаете на колеблющуюся почву этого, скажем, заколдованного острова, и он встречает вас ослепительным сиянием красок.
А в следующий момент вы забываете всё другое, потому что перед вами излучение могучей человеческой личности, сильнейшего разума; оно побеждает действительность. И вы радостно погружаетесь в мир света, где есть место и человеку, и зверю, и растению, где
Такова была форма одиночества поэта: Бог Поэзии, царствующий над всем живым, но отъединенный от общества людей, не верящий в их социальную правоту, вообще не признающий социального закона. Всемирное братство, союз всего сущего и живущего; но право на одинокую жизнь. На молчаливое одиночество среди толчеи повседневности: слух устал.
Но крайнее одиночество, доходя до своего предела, вырывается в беспредельность, за шкалой минусов следует бесконечность, за бесконечным одиночеством человеческой личности начинается бесконечный океан человеческих судеб, за пределами одной, единственной и обособленной судьбы открываются просторы всеобщей судьбы человечества; одинокая гибель поэта есть начало его бессмертия. После безвестной смерти Хлебникова, в 1922 году, Россия долго не вспоминала о нём: Россия царей и вождей, императоров и экспроприаторов, революционеров и контрреволюционеров, писателей и читателей, издателей и издательств, журналов и журналистов и т.д.
Но русские пространства; но Русь зелёная в месяце Ай; но хвойные сёстры и синий лужок («Уйдите, тени, мне скучно с вами») — никогда не расстанутся с мелодией его песен; вечно живущая Русь хлябей века домирного всякий год поминает своего сына весёлыми раскатами майской грозы, пением бури и ветра. Таково бессмертие Хлебникова в России.
Другие формы приняло бессмертие поэта за пределами его родины. Выплеснутый из литературной действительности России (и к лучшему, и по праву), отвергнутый ею, он необъяснимым образом, — но это ведь эвфемизм всего лишь, на самом-то деле всё это объяснимо, естественно и закономерно, — влился в поток литературы мировой.
То братство всего живого, живущего и жизненного, о котором он так мечтал в своей убогой реальности, тоже приняло иные формы: будем говорить о мировом братстве поэтов, о мировом содружестве художников, о союзе изобретателей, если ещё раз воспользоваться словарём поэта, — и вот это бесприютное братство приютило своего бесприютного брата. Самым неожиданным, необыкновенным и чудесным образом начался и доныне продолжается в Европе “Хлебниковский Ренессанс”. Его стихи переводятся на французский, итальянский, английский, немецкий, польский, сербский, чешский языки; выходят книги его стихов и о его стихах в Германии, Австрии, Италии, Франции; то же — на другом материке, в Америке... И думается, это лишь начало. Победное шествие поэзии Хлебникова ещё впереди.
Особо скажу здесь о связи австрийских поэтов с наследием Хлебникова. Именно австрийская поэзия по своему духу более других близка поэзии Хлебникова. Ещё Георг Тракль, современник, был как бы духовным братом русского поэта (но они не знали друг о друге). Удивительным образом линии их творчества смыкаются. Так же, как о хлебниковском “надмирном” времени, мы можем говорить об особых измерениях времени в мире стихов Тракля, о космических единицах времени его поэзии, хотя это и принимает в его творчестве спонтанные формы, хотя он далёк был от идеи осмысливать теоретически, подобно Хлебникову, феномены своей поэзии. Тракль был всего лишь поэтом, — он высказался лишь в стихах. Мир образов его, подобно хлебниковскому, помещается в каком-то мифологическом надмирном пространстве вне времени, вне всяких социальных измерений. Мир этот также мифологичен по образам и явлениям своим. Как и хлебниковский, мир этот населён странными жителями небывалых эр. Но, разумеется, по-своему, в иной окраске.
Если говорить о красках, то следует тут же заметить, что мир Тракля однотонен, он не светится, подобно хлебниковскому, не переливается множеством тонов и красок; скорее, он сумрачен, суров, отнюдь не лучезарен, как у Хлебникова, отнюдь не радостен, отнюдь не светел. Но он так же беспредельно широк в своей пантеистической всеобщности, и он отделён от мира реальной бытовой повседневности такой же плотной стеной. Никакого общения с миром эмпирических ценностей и измерений, — начиная от единиц времени и кончая мерой жизни человеческой. Мир Тракля — такой же остров среди океана человеческой суеты, остров, на котором царит единый Бог — Бог Поэзии, чье беспредельное одиночество так же смыкается с беспредельным множеством судеб человечества.
Разделённые географической границей, оба поэта, невероятной игрой судьбы, оказались жертвами одной и той же катастрофы, были закинуты в один и тот же котёл мировой бойни; оба — каждый по-своему и на свой лад — нашли свой конец в объятии Войны-Великанши. Письма одного — по эту сторону границы, и письма другого — по ту сторону той же границы, — написаны почти одновременно, почти одними и теми же словами, — но с разных сторон и на разных языках.
Но действительно ли на разных? Или — разными звуками — на одном и том же?
Но как бы то ни было: эта перекличка двух пленённых орлов — именно такая метафора здесь представляется моему воображению, и надеюсь, что никто из читателей не подумает, что речь идёт о плене — как категории военного словаря, — так вот, эта перекличка пленников жизни, узников действительности, лишний раз напоминает нам не только о великом одиночестве поэтов, но и о великом единстве этого древнего братства; о законе мирового равновесия, о пределе и беспредельности искусства.
Тема Хлебников—Тракль далеко не исчерпывается всем сказанным здесь. Но о ней — когда-нибудь после. Сейчас коротко прибавлю сюда несколько слов о судьбе хлебниковского слова в австрийской литературе. Современные поэты Австрии с этим словом связаны самыми глубокими духовными узами. Начнем с того, что авторы лучших переводов поэзии Хлебникова на немецкий язык — несомненно, поэты “Венской школы”: Герхард Рюм, Ханс Карл Артманн. Именно представителям “Венской школы”, с их поисками и открытиями в области языка, с их духовной обособленностью и герметизмом, говорит это тихое, в себя углубленное слово столь многое.
Можно даже говорить о своеобразной “хлебниковской традиции” в поэзии “Венской школы”, — разумеется, своеобразно и понятой, и претворенной. Да и может ли быть иначе? Здесь особенности духовного развития народа, особенности языка, духовные традиции многовековой культуры диктуют свои законы.
Но при всём этом справедливость требует, чтобы здесь было сказано: прежде всего, в работах именно этих поэтов продолжено дело Хлебникова. И это касается в равной степени его больших и малых идей. Если говорить о словотворчестве, то в работах австрийских поэтов идея эта расцвела и выросла на новой почве. Тут же лишний раз подчеркнём: разумеется, они шли и идут своим путем и сами пришли к идее своего словотворчества. Идеи Хлебникова, безусловно, придали им в свое время немало мужества и сообщили некую ценную творческую информацию.
Вернее же всего было бы сказать снова и снова о нерасторжимой общности поисков, о духовной близости, о всеобщем братстве поэтов, об этом Великом Всемирном Братстве, в которое я свято и нерушимо верю, когда пишу вам всё это без надежды, что мой голос будет когда-нибудь услышан.
Хлебников в своих поисках Слова шёл от звука — к букве, от мыслящегося глубоко в сознании и подсознании слова — к графике, к букве, к знаку. Он первым среди русских поэтов заговорил об этой связи, о выражении поэзии при помощи графического изображения. Один из замечательных памятников его теоретических размышлений на эту тему — такие работы, как образцы краткой прозы «Наша основа», «О стихах», «О современной поэзии», «Утверждение азбуки»; также совместная с А. Кручёных статья «Буква как таковая». Там обращают на себя внимание такие тезисы:
Осязаемые, точно рукою слепца, знаки, — вот глубочайшая и важнейшая мысль, вот идея, зерно современной науки о поэзии, вот отправная точка для целой эпохи развития и расцвета поэтического искусства. Именно этот тезис стал поворотным пунктом искусства XX века, предопределив на долгие годы как путь современной поэзии, так и дороги изобразительных искусств. Идея зримого, видимого, также и осязаемого, точно рукою слепца, стихотворного текста, лежит в основе такого нового и важнейшего жанра современного искусства, как визуальная поэзия, или то, что в Европе носит название Malerpoesie (немецк.).
Расцвет этого жанра в наши дни дал замечательные произведения европейской лирики. Достаточно назвать таких поэтов и графиков, как Герхард Рюм, или представителей так называемой берлинской школы, со знаменитым Кристофом Мекель, с такими удивительными и своеобразными артистами, как Роберт Вольфганг Шнелль, или Гюнтер Бруно Фукс, Иоахим Улльман и др. Истоки этого прекрасного искусства восходят — в Европе — к Bildgedichte Пауля Клее: его будем считать как бы антиподом хлебниковского пути: слово — изображение. Клее шёл от изображения — к слову. Замечательно, что тексты в его живописных работах постепенно стали играть самостоятельную роль. Так сходятся, расходятся, пересекаются, скрещиваются бесчисленные пути искусства, взаимно питая друг друга, обогащая и обогащаясь. Ни одна жизнеспособная и плодотворная идея не погибает в круговороте вечной жизни вечного искусства людей. Мы можем безмерно скорбеть над горькой судьбой одинокого поэта России. Но так ли горька эта судьба на самом деле? То, что он был не понят и чужд среди соотечественников, которые, если говорить по существу, не воспользовались ни единой крупицей из бесценной сокровищницы богатств его творческого гения, — такая уж это трагедия? И если — да, то для кого? Уж верно, не для него.
Важно другое — для него, для искусства, для его братьев по искусству, истинных братьев: законы искусства открытые и найденные одиноким гением одиночества, в одиночестве и однажды — эти законы и их истина, и их истинность поверяются тоже истиной. Неминуемо настаёт и приходит день, когда эти новооткрытые законы, когда открытия эти открывают кому-то глаза и душу. И так смыкается круг. И падают преграды. И исчезают пределы: пределы искусства, речи человеческой, обитаемых и обетованных земель. И так мы снова приходим к идее пантеизма, к идее беспредельности мира поэта, но уже по-другому, по-новому, с иных точек наблюдения. Мир этот беспределен не только для самого поэта, но и сам по себе, и он широко открыт и обращён к будущим временам.
Мир Хлебникова-поэта и мир Хлебникова-мыслителя и учёного не только широк. Мир этот также широко человечен и светел.
Мы знаем, что поэт мечтал не только об упразднении границ между странами, но и о космогонии, и о пантеизме космогоническом. Не будем здесь излагать этих его идей во всех подробностях, отметим лишь, каким образом отразилось это на языке и словаре поэта.
В связи с этим я коснусь совсем кратко проблемы словотворчества Хлебникова — таково задание и таковы границы моего очерка: словотворчество будет затронуто здесь, главным образом, в связи с общими направлениями художественного бытия поэта.
Чтобы уяснить себе это, вернемся к началу моего очерка. Вспомним ещё раз «Поэтику» Аристотеля и тезисы, связанные с „остранением” языка, — в частности, категории “иноязычия”, “поразительности”, “необычайности” (ξευικου, «Поэтика», гл. XI, XXI, XXII).1![]()
Древние и старые славянские наречия, старо-мордовское, угро-русское, русские диалекты — например, разновидности северных, — всё привлекало его пристальное внимание, всё подвергалось творческой переработке.2![]()
Теперь обратимся к текстам поэта. Вот несколько его соображений или теоретических постулатов словотворчества:
Исключительно глубоки и проницательны идеи поэта о зарождении языка и его эволюции:
Словотворчество никогда не было формальным моментом для Хлебникова; это был один из способов творческого существования поэта, никак не самоцель, никак не самостоятельное задание. Напротив, оно целиком подчинено было задачам выражения внутреннего мира поэта, являясь одновременно одной из сфер этого мира. В какой-то мере оно было и его мировоззрением, а частично — и религией. И могло ли быть иначе? Ведь с помощью слова выстраивал он мир своей поэзии, — удивительно ли, что этот особенный мир разбудил к жизни особенное слово? Слово, как таковое! Оно было для него и слугой, и повелителем, а больше всего — самостоятельной стихией, которой он управлял, и которая управляла им:
Так, проницательно и глубоко, немногими и точными словами, вскрыл поэт основной закон своей работы, работы человека, призванного запечатлеть мир словом; работа эта многозначна и многосмысленна и протекает во многих и в разных плоскостях жизни, подчиняясь разным законам и подчиняя себе разные законы, — потому что само слово живет двойной жизнью. Поэтический текст в равной мере управляет словом и управляем им. В таком понимании и таких формулировках закон слова впервые выражен одновременно как теоретический постулат и как живая поэтическая практика. Такой жизнью, двойной, живут слова стихов Хлебникова, его собственного, им созданного языка, языка его жизни, его мира. Слово это — в такой же мере создание поэта, в какой создано оно законами его родного языка, оно само — эти законы. Как я уже говорила, поэт в своем развитии повторил путь языка; творя язык, он пришёл к самым глубинным корням возникновения слова — как звукового символа, как символа мысли, абстракции; и слова — как знака. Шаг за шагом он открывает происхождение звуков, букв и понятий и лишь на основе исторически сложившихся закономерностей языка даёт волю своей гениальной интуиции художника творить новые символы, новые понятия, новые знаки.
Так поэт создавал и исследовал свой язык, и при этом создавалась новая эпоха искусства слова. Язык этот никогда не был для Хлебникова отвлечённым символом. Нет, это было одно из проявлений его мировоззрения, его символ веры — человека и художника. В основе же мировоззрения Хлебникова лежит этос чувства любви, как я упоминала выше, чувства всемирного братства. И язык понимается поэтому как фактор моральный, нравственный, и не просто нравственный, а как выражение и олицетворение светлой нравственности, световой, как он выражался, имея в виду свет не только как отвлеченное понятие, но и как конкретное физическое явление. По Хлебникову, человек — порождение стихии света, светового потока, луча. Человек, говорит Хлебников, понят как световое явление, его природа — часть световой области. Поэтому не только “я” человека, но и “я” языка совпадает с жизнью света. В словах
Эта цепь рассуждений, подобная изложению стройной геометрической теоремы, если и не объясняет нам закона о происхождении человеческого рода, объясняет и раскрывает нечто, быть может, не менее важное, а именно: созревание закона нравственности в душе поэта; законы нравственности, понятые как единственно реальный закон творчества. Многим читателям приведённые рассуждения Хлебникова казались утопичными, и, возможно, это так и есть. Но только утопия эта содержит в себе истину. Рассуждения эти, прекрасные сами по себе, как какой-нибудь рисунок гениального графика, заключают в себе несколько не менее прекрасных истин, и главная из них — истина добра и света, живущая в душе художника, и другая — его непоколебимая вера в людей и в светлое начало природы человека (световая природа человека). Но ярче всего здесь светится световая природа души самого поэта, создавшего, быть может, самую прекрасную теорию творчества и теорию языка, неколебимая основа которой — законы нравственности:
Это светлое повествование о языке заканчивается печальным вздохом:
Когда-то языки объединяли людей...
И вот о таком светлом и святом единении людей рассказывает «Слово о Эль», — ничего, что здесь речь идет всего-навсего о знаке кириллицы, о звуке или о единице языка; мы увидим, что для поэта нет отвлечённых явлений речи и каждая частица её оживает под его пристальным и любовным взглядом:
Так мы видим, что Л — Эль для поэта прежде всего и больше всего: люди и любовь. Эти два слова он выводил от старославянских корней ‘людъ’ и ‘любъ’. Он не указывал при этом на параллелизм и родство этих корней с латинским libet, старогерманским lib и готским liudan (‘расти’), от которых в современном немецком языке мы имеем Liebe. Но несомненно этот пример служил бы ещё одним подтверждением его мысли о том, что когда-то языки объединяли людей. Так, в прозе как бы научного очерка, а на самом деле — подлинного законченного стихотворения в прозе, начинается у Хлебникова его Поэма о Эль, — чтобы с годами отлиться и в форму поэмы стихотворной. Я отсылаю читателя к тексту этой поэмы, которая озаглавлена «Слово о Эль» и в новом метафорическом виде выражает, развивает идеи приведённых прозаических отрывков. Завершение этой поэмы о человеке и его вселенной мы могли бы назвать гимном во славу человека и его вселенной, если бы не противоречили высокопарному слову ‘гимн’ скромная тишина интонации поэта, детски-искренняя чистота и целомудренность его речи:
В тесной связи с феноменом словотворчества следует рассматривать феномен хлебниковской рифмы — вернее сказать, рифмотворчества. Здесь могу сказать об этом по необходимости коротко: коротко — потому что рифмотворчество Хлебникова — это целая эпоха жизни слова в русском литературном языке, и объять эту эпоху здесь, в кратком очерке — невозможно. Скажу лишь главное: рифма для этого поэта — выявление, высвобождение тайной музыки слова и музыки сочетаемых слов. Никогда рифмы Хлебникова не ограничивались внешними формулами, никогда не было это “подбиранием по слуху” подходящих окончаний, что-нибудь вроде:
Вот характерный для Хлебникова период:
Ясно, слышимо, зримо, что здесь, в этом стихотворении, где первая строка такова:
И, наконец, последняя ступень: вся эта слышимая музыка в известный момент транспонируется, преображается, превращается. Как уже неоднократно указывалось, слово проходит путь — путь к графике. Слышимое транспонируется в видимое. Неминуемо наступает момент, когда на первый план выдвигается ещё одно измерение слова, а именно, графика его. Начинается вторая (или — для поэта — первая?) жизнь слова. Раскрывается его вторая (первая?) натура: начертание. У поэта истинного эти две натуры слова постоянно борются между собой; строки живут в непрерывном противоборстве — равновесии этих двух начал. Часто слова преследуют сознание пишущего ещё и третьим своим измерением, третьим аспектом: звук + графика рождают где-то глубоко в подсознании зрительный образ, картину каждого слова.
Это феномен, истоки которого лежат в трудно прощупываемых глубинах подсознания, могу описать и выявить лишь на основании собственного субъективного опыта. Думаю, однако, что в той или иной мере он присущ большинству людей, работающих со словом. На эту тему мне пришлось однажды беседовать с лингвистами, занятыми проблемами этимологии и вообще — вопросами происхождения слова, его психологическими истоками. Думается, однако, что тайна рождения слова лежит где-то по ту сторону границы рационально объяснимых явлений — то есть, не частично, но вполне рационально объяснимых. Так вот, на тему об образе — зрительном — слова, как он внезапно зажигается в сознании человека: на основании единичного субъективного опыта. Представим себе человека, который со времён раннего своего детства преследуем таким явлением: каждое услышанное им слово (а ребенок 2–4 лет оперирует, главным образом, со словом слышимым, так как читать не умеет) предстает перед ним сначала в звуковом, а затем в зримом и зрительном аспекте. Видимый этот, оптический образ, неясен, туманен. Это — какое-то трудно уловимое туманное изображение какого-то пре-образа, каких-то пра-явлений, где перед внутренним взором рисуется, выдвигаясь из тумана, изначальной тьмы, неясный силуэт, очертание живых существ, людей или животных; порою звук слова пробуждает только жест — он мелькает, сопровождая ускользающее мгновенно, только что услышанное созвучие слова или группы слов. Всё это возникает в сознании спонтанно, и трудно различимо и также трудно дефинируется; но интересно то, что, при всей туманной неясности, при всей затушёванности, образ этот прочен, чтобы не сказать — вечен: однажды явившись вместе со словом, он с ним уже неразлучен на все времена. Он делается составной частью слова, его видимым, оптическим, выражением. Описываемый мною опыт, вероятно, не единичен; однако трудно представить себе, что способность одной, как говорят, отдельно взятой, личности приобрела значение всеобщего явления, повлияла бы на наше понимание феномена слова, изменило бы наши представления о нём. Но разве не влияли на представления людей о том или ином предмете различные догадки учёных, гипотезы, всё то, что люди неучёные обозначают при помощи существительного ‘открытие’? Приходится признать, что мы, люди, ещё не всё знаем о нашей способности речи и очень мало знаем о свойствах человеческого слова — произнесённого, написанного, мыслимого. ещё меньше знаем мы о потенциальных возможностях слова — как отдельной единицы речи, так и способности человека мыслить словесными символами.
Описанный мною как опыт единичного случая феномен, однако, не только единичен; он также и не случайно возникший каприз воображения какой-нибудь “отдельно взятой личности”. Подобно тому, как язык — не что иное, как достояние (или исторически возникшая общая собственность) сообщества особей, именуемых ‘людь’, так же и способность наша творить язык или представлять себе символы языка в своём воображении, есть не что иное, как одна из человеческих способностей, не что иное, как ещё одно проявление всеобщих и единых свойств человеческой натуры. Доказательство: и у Хлебникова можно встретить наблюдения над словесными символами, которые, несомненно, опираются на эту способность нашего мышления — живописать портреты каждого услышанного, познанного, встреченного и прочувствованного словесного звука. Цитирую из отрывка «Художники мира»:
К этому отрывку, где высказана одна из лучших хлебниковских идей о языке, слове, звуке и букве, я ещё вернусь. Сейчас обратимся вновь к проблеме рифмы — это небольшое отступление должно, в сущности, подтвердить ту идею, что рифму Хлебникова ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от хлебниковского слова, словотворчества, теории знака, что хлебниковская наука и художественная практика составляют неразрывное целое.
Приведённый мною ранее отрывок «Русь зелёная...», эта, как показано было мною, симфония открытых гласных русского языка, если мы слушаем эти строфы, одновременно являет собой и пример совершенства графики стихотворной строки. Так, обратим внимание на ритм, который выстраивает перед нашим глазом буквы этих распетых звуков, именно, продлённое -а и контрастирующее прикрытое -е. Эти распеваемые гласные, выстраиваясь в известном порядке на бумаге, образуют также зрительную гармонию, гармонию графическую, и это также является составной частью эстетического воздействия стиха. Например, строка:
Стихосложение Хлебникова подчинено законам собственной логики. Мы на найдём здесь ни “готовых”, устоявшихся форм (а в скобках скажу, что в истинной, живой поэзии нет и не может быть таких готовых форм), ни имманентных закономерностей, ни всеобщих формул. Если говорить о логике закономерностей этой поэзии, то уместнее всего вспомнить логику математических законов. Но мы говорили о рифме. Рифма Хлебникова, было сказано, всецело диктуется внутренними силами слова и никогда не подчинена внешней композиции стиха. Чаще всего рифма спонтанно рождается на стыковых моментах формы.
Ещё чаще она появляется как результат целой системы параллельных звучаний. Но бесполезно и бесцельно определять эти явления вне связи их с целым. ещё раз повторю: рифма — пение звуков и тайная музыка стиха, ставшая явью. Корни этого явления, как пыталась я показать, уходят глубоко в сознание и подсознание наше. Определять рифму как один из приёмов стихосложения или один из законов — безнадёжное занятие. Напрасно будем мы в этом случае обращаться к науке. Именно явления такого рода убеждают нас в том, что искусство непознаваемо. Что рифмоплётство, спаривание эквивалентных окончаний — а таких окончаний есть великое множество в каждом языке и они сами по себе не являются рифмами (напр., параллельные падежные окончания или окончания спрягаемых глаголов и т.д. — будем называть эти совпадения парами окончаний) — не имеет ничего общего со стихотворчеством, так же лучше всего наблюдается при анализе рифм и ассонансов. Но такой анализ неминуемо останавливается всякий раз у некой заветной черты, за которой начинается молчание и тьма. Тайна искусства уходит далеко (или высоко?) к началу, к истокам природы и человеческой природы. Раскрыть эту тайну невозможно до тех пор, пока продолжается жизнь человечества. Да это никому и не нужно. Если время от времени появляется такой безумный гений, вроде Хлебникова, который бросает в мир пригоршнями искры своих гениальных откровений, — никто не хочет слушать его, никто не принимает его пророчества всерьёз. Люди хотят жить в удобном уюте своих незамысловатых верований и представлений. „Рифма, — вещает нам литературоведение, — композиционно-звуковой повтор преимущественно в конце двух или нескольких стихов, чаще всего — начиная с последнего ударного слога в рифмуемых словах”. Если бы всё это было так просто, как полагает автор такого определения,4![]()
Между тем, основу стиха в поэзии — не хочу сказать “истинной”, но назовём её так, как говорит о ней литературоведение немецкого языка, поэзией “большого стиля” (“des grossen Stil”) — составляет слово, только лишь слово и ничего больше. Слово рождает вокруг себя атмосферу, ауру, силовое поле; и рифма приходит лишь как результат выявления внутренних сил, заложенных в слове, его внутренней энергии. Думая об этом феномене, мы непременно должны отличать поэзию “большого стиля” от продукции субкультуры. В поэзии слово как оно, жизнь его, его гармония, его музыка производят движение и дыхание формы; стихотворение формируется дыханием слова. Подлинно поэтическое высказывание — не что иное, как рождение гармонии. В этом высказывании всё взаимосвязано, и поэту нет нужды рифмой или чем-то другим поддерживать конструкцию: она рождена цельным организмом, является на свет уже готовой гармонией.5![]()
Но рифма!.. Ах, рифма — кто она?.. Будем ли мы разгадывать эту великую тайну природы Земли и людской природы? Будем ли подыскивать приличные случаю объяснения для такого колдовства слова — над нами, и нашего — над словом? ... Потому что рифма — как бы вам сказать? — потому что рифма — это нечто глубоко таинственное, необъяснимое, не поддающееся словесному описанию... Не верьте словарям рифм: там нет ни единой рифмующейся рифмы. Рифма — это менее всего параллелизм окончаний.
Рифма: в подлинном стихе рифма рождается изнутри, выталкиваемая внутренней, потайной энергией слова, и момент рождения рифмы вовсе не обязательно должен и может совпасть с моментом окончания строки.
Потому что рифма — нечто глубоко тайное; потому что рифма: сокровенное, порою неясное Нечто;6![]()
... Нет, рифма не есть автоматическое спаривание окончаний; рифму рождает не окончание предыдущих строк, но климат их, и ранее — строфы, и далее: периода, четверостишия, всей ткани стиха в целом; созвучие слов, близких по самым различным признакам и по музыке своей. Вот что такое, в сущности, рифма: звуковая насыщенность ткани стиха, когда слова, накаляясь, взывают друг к другу, рождая ответную музыку; рифма: ответный отклик слова на слово, ответный плач, крик, смех, стон — слова живут, раскрываются, молчат или поют, уже вне зависимости от воли творца, движимые своей внутренней энергией, той эмоциональной волной, той необъяснимой внутренней мощью, что направляет изнутри весь лирический поток поэтического высказывания в его гармонически завершённом бытии.
Один из примеров рифмованных периодов у Хлебникова:
Тихо течёт тихая музыка этой поэмы Леса, поэмы Руси, поэмы вечной жизни поэта. Опорные гласные -и, -е, -ео, опорные согласные -т, -ч, -с образуют особую музыку молчания, шёпота, тишины. Смело можем говорить здесь о словах-лейтмотивах. Таковы: точит — и его звуковой вариант, звуковой заместитель — течёт. Схематически это выглядит так: точит — течёт. В немецком языке для такой математической комбинации существует термин ‘Platzhalter’. Несомненно, слово течёт и также звуковой символ тчт — тчт явились звуковым тематическим фундаментом для музыки всего построения в целом. Тчт — тчт дали новое сочетание: нечет — чёт. Так рождается богатая составная рифма, захватывающая всю вторую половину строки:
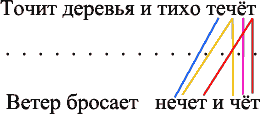

Рифма возникает здесь как наисовершеннейшая гармония звуковых соотношений и как совершенная, законченная симметрия всех компонентов образа: как симметрия звукового ряда, так же ряда буквенных символов, так же и метроритмического ряда. Можно говорить и о логике математических соотношений, о замечательных пропорциях формы обеих рифмуемых строк, о строгой комбинационной логике сменяющихся и заменяющихся, замещающихся созвучий. Богатые составные рифмы служат основой музыки всего стихотворения. Музыка эта вырастает ещё и из звукового, тематического единства интонаций, из последовательно проведённого лейтмотивизма.
Обращаю внимание читателя на такие строки:
Первые две строки этого примера гармонично скрещены, образуя пару созвучий (И только — И только — ночной — речного, осоки — злака) ; далее из осоки вырастает созвучное высокий; злака даёт созвучие одинаков. Всё вместе, переплетаясь, образует совершенную полифонию созвучий, поющую ткань живой плоти стиха. Можно ли думать здесь о рифме как о „звуковом повторе, ‹...› чаще всего — начиная с последнего ударного слога”...? Звуковой повтор предполагает нечто автоматическое, неживое. Нет, не звуковой повтор, но звуковое развитие, звуковой рост, цветение звука, звуковая полифония — вот что такое рифма в рассматриваемом стихотворении.
Оно поёт и звучит множеством тихих мелодий. Из этих мелодий постепенно вырисовываются картины. Картины, написанные с помощью слов: метафоры. Зрительные образы, порождение метафор, однако, тихо перетекают вновь в звуковое; мы видим и слышим и ощущаем тихое качание синей воды (не-воды?), видим диковинный образ: речной злак, — и это есть не что иное, как тихое качание полусонной синей воды (не-воды); видим этот тихий зачарованный, заколдованный вечер. Видим эти светлые краски: золото (дрожь — читай: рожь речного злака), синее (в синих рябинах вода), мглистая, смуглая вечерняя пора, слегка тронутая золотом и синевой.
И на фоне этих красок:
Так над лёгким движением и передвижением лёгких красок, словно дуновение вечернего воздуха, струится дыхание вечной жизни природы; и над ней — вечное присутствие мысли поэта, который одинок в вечерней дуброве, но одинаков с ней.
Светло завершается звукописание светлого вечера. Светла вечерняя дуброва, и светел мыслью Кто-то Бледный и Высокий...
Но светел мир хлебниковской поэзии вообще. Светел и светится: всеми оттенками красок природы. Ничего, более разнообразного по цвету, не знает мировая лирика. Почти каждая строфа — маленькая цветовая симфония. (Я написала эти слова и посмотрела случайно на страницу раскрытой передо мной книги; там
И множество других...
Мир Хлебникова: радужный, многокрасочный. Здесь воздух напоён не только звуками: краски, свет и цвет — всё сверкает и переливается под яростными лучами Ярилы-Солнца, под ярким, ярым, светоносным, смертоносным Солнцем. Разноцветные тени пробегают по волосам странных существ, всех этих Вил, и Леших, и Кудесников, и Юношей. Но мир красок этих — не только обитель полу- фантастических существ. Это — одна, единая, вечно изменчивая, ломкая, всякий миг по-новому прекрасная стихия; горячая от прикосновений Солнца, яркая от излучений души Поэта. Какая-то высокогорная страна вечного незаходящего солнца, где каждая пылинка светится и играет миллионами оттенков, где ледяные пики и шапки гор отливают зелёным, оранжевым, синим и белым — таким всегда рисовался мне ландшафт души Хлебникова. Удалось ли ему сделать этот мир зримым, удалось ли воплотить его в Слове до конца — не знаю. Знаю лишь, что именно несоразмерностью своего огромного мира — со звуком, неподвластностью этого странного, диковинного, нечеловечески прекрасного, угловатого мира — графике и звучанию человеческой речи терзался он всю жизнь свою, недолгую, краткую. Всю жизнь он искал новую символику знаков, ища спасения то в математике, то в истории, то в лингвистике. Я думаю, что его математика — не что иное, как какие-то новые и ещё неведомые, непонятные нам законы поэтической логики, логики поэтических символов. Я думаю также, что ни один поэт мира не подходил так близко к тайнам невыражаемого, к той границе, что лежит между словом и не-словом, к той недоступной черте, за которой — темнота и молчание...
... От истории — к математике, от математики — к бесконечности; к мечтам о едином мировом, о мировом пространстве, где можно будет изъясниться на едином мировом, научно построенном языке, на языке, что объединит народы и научит людей жить по законам любви... Где он, этот язык гармонии?..
Язык подчинен нравственному закону — так Поэт понимает свое Дело:
Такими рассуждениями Поэт сопровождает свои изыскания о природе человека и его слóва, об изначальных знаках языка. Он предлагает некую таблицу, два столбца которой экспонируют изначальную природу словесных символов русского языка; по мысли Автора, здесь вскрывается, рассказана световая природа нравов, а человек понят как световое явление, ‹...› человек — часть световой области.7![]()
Здесь остановимся на мгновение. Слишком важные слова нам доверены, раскрыты, поведаны... Кто из нас мог бы задуматься над ними? Кто-нибудь тоже верит в это: человек — световое явление?.. Или — улыбнемся снисходительно, с видом неизмеримого превосходства обладателей истины в последней инстанции?..
Но, думается мне, здесь должно оставить Поэта наедине с его упованием и предоставить Его собственному одинокому пути. Человек понят как световое явление, — откровение это принадлежит Ему, Поэту, только ему одному. Не будем же претендовать на это его достояние.
Это — собственность его, такая же, как одна из поэм. Нам нет надобности присваивать эту мысль или же комментировать её как некую всеобщую истину или школьную пропись. Кто хочет принять эту сокровенность, это весеннее упование Поэта как драгоценный дар, заключить эту тайну о себе самом и мироздании, что нас всех окружает, в свою душу, пусть сделает это молча, в благоговейной тиши.
Потому что тишиной окружена была стихия стихов Поэта. И благо есть, что по сей день не сопровождается она барабанным боем “славы”, “признания”, всеобщего ликования.
Тишина — вот самое надёжное свидетельство судьбы в пользу дела Поэта. Так свидетельствует жизнь. Так мир молчаливо принимает сторону правды.
Тишиной окружена была смерть поэта Хлебникова. Он тихо покинул мир. Примечательно, что и он, повинуясь некой таинственной традиции, предугадал, и множество раз довольно точно описал свою смерть, как это принято у поэтов — вспомним Пушкина с его Ленским, или Гумилёва с его «Рабочим», или лермонтовские предсмертные “вскрики” в «Смерти поэта».
Лермонтова и его Смерть поэта оплакал Хлебников, воздав ему, на свой лад, воинские почести. Мне это стихотворение 1921 года, предсмертного года, представлялось всегда предчувствием смерти — красивой смерти, говорит нам Автор:
Но что же гибель воина Лермонтова?
Остановитесь, / Что делаете, убийцы? — кричат тучи убийцам поэта. Буря, что символически оплакала гибель Лермонтова, прекрасна, как убитого глаза, — и этим автор ещё раз хочет сказать, что поэт оставляет стихии свой последний знак привета, вечный знак своего вечного присутствия на земле.
Стихия хоронит стихию, неподвластную людскому суду, и знаменательно, что люди, человеческие существа, враждебные поэту, убийцы его, не появляются в стихотворении. Оплакивая поэта, Хлебников попросту забывает о людях-червях, палачах поэта. Но люди — дети стихии, люди, которые поэту сродни, люди-горцы говорят о буре так: То Лермонтова глаза. Это — друзья поэта, простые и чистые дети гор. Поэт живет с ними, и, погибнув, покоится под музыку их спокойного и краткого слова.
Хлебников — бог поэзии — добр. Его Смерть поэта не содержит гневных филиппик в адрес убийц. Он жил в иных измерениях, в разреженной атмосфере высоких стихий. Он хоронит воина-Лермонтова, чей железный стих облит горечью и злостью, без горечи и злости, с ясной душой, не поколебленной ни отчаянием, ни ненавистью, ни тоской.
Население звезды, затерянной в мире, — пожелает ли оно прочитать эти знаки? И что это за такие знаки?..
Не будет ли это кощунством, если мы скажем так: Знаки эти, понятные почти всему населению звезды, — не что иное, как поэзия, песнопение людей?.. Нужен ли нам, населению такой незначительной и безнадёжно затерянной в мире звезды, другой общий язык?.. Да, подумайте только: кто и что, которая часть населения звезды воспользуется этим общим письменным языком?.. Что будет написано на этом общем языке?..
Но если мы приняли за решение теоремы Поэта такой ответ, что общий письменный язык людей — Поэзия, то почему бы не воспользоваться и ещё одним уравнением Поэта, почему бы не сказать его словами, — ах, я твёрдо уверена, что на вопрос: какие слова написаны будут на общем языке, Поэт, не задумываясь, ответил бы:
И ещё один ответ, окончательный: ещё раз пропоём Песнь песней, послушаем — в последний раз — «Слово о Эль»:
Мне хочется вблизи этого радостного Слова завершить моё — скромное. Это, быть может, единственная доступная нам, людям, радость: читать и перечитывать строчки и страницы откровений, — письменных знаков, обращённых к человечеству, но не всегда понятных ему. Понятных или нет, — будем ли мы спорить об этом вблизи этой чистой, как ручьи чистоты, музыки? Тихой музыки, — мне чудится всё, что пелась она сквозь слёзы. Может быть. Или, может быть, мы слушаем её со слезами в душе?.. Если это слёзы, то лишь слёзы радости.
Тишина этих слов примиряет нас, людей, с неотвратимым и непобедимым законом жизни, по которому лучшие среди нас, Провидцы и Творители Тихих Знаков Радости и Любви, изгоняются за пределы человеческого мира.
Люди, прямостоячие двуногие, любить которых завещал нам Поэт, не позволили Ему выполнить свое земное назначение.
И он вынужден был вернуться в то не-, до-, или над- бытие, о котором грезил так прекрасно.
Быть может, частицы его беспредельного Я блуждают в беспредельностях галактик, посылая нам холодный свет из неизмеримых пространств, пробуждая в нас вечную тоску о несбыточности искусства.
Вена, 1979–1981
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 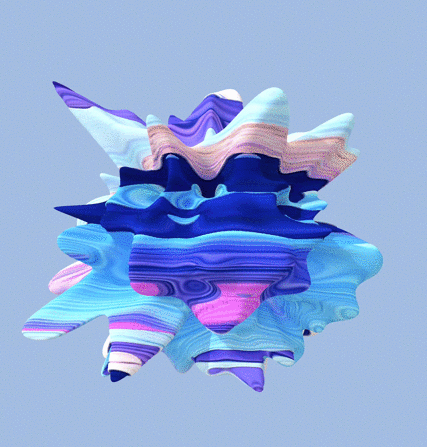 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||