

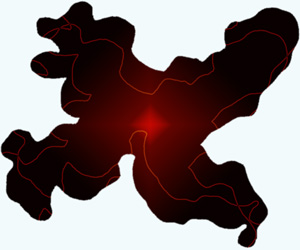 озяйственная жизнь России в конце XIX века определялась противоречием между потребностью земледелия перейти от экстенсивных форм эксплуатации земельного фонда к интенсивному его использованию, требованьями народившегося промышленного капитала, всё более подчинявшего себе капитал торговый, и политикой правительства, поддерживавшего свою финансовую систему путём повышения числа пудов вывозимого зерна, и свою власть — защитой политических форм, свойственных эпохам господства торгового капитала. Результаты такого противоречия между требованиями объективной действительности и субъективными опытами управления страной сказались: в деревне в форме крайнего обнищания, хронического голода крестьян и разорения мелких помещиков, в городе спазматическими подъёмами промышленности и длительными кризисами: и финансовыми, и производственными. Разорённые и потомство разорённых осаждались в городе: они или выгонялись нуждой из деревни, или не имели возможности убежать в неё из разорившего их города. Общественная группа деклассированных интеллигентов численно увеличивалась с каждым месяцем. Самый характер её комплектования изменился: раньше она пополнялась выходцами из среды, стоявшей в глазах ушедших из неё людей ниже той среды, в которую они попадали, порвав с вотчиной, теперь исход приобретал обратный характер. И дети дворян, пропивших выкупные платежи, и потомки мелких купцов, прикрывших “дело” или влачивших свои дышавшие на ладан предприятия по направлению к братской могиле концентрованного капитала, и родственники жертв банковских крахов, и присные обанкротившихся пионеров промышленности не могли особенно восторгаться переменой своего существования. Новый уклад бытия казался им тяжким, перспективы были мрачные, политический режим, связывавший личную инициативу этих отщепенцев погибавшего патриархального быта, угнетал их сознание, времена давно прошедшие казались им золотым сном, настоящее было не верно и действительность слишком зыбкой, неустойчивой и неприятной, чтоб не подлежать скорому исчезновению. Они его призывали. Люди активного характера стали революционерами, пассивные, созерцатели пустились в мистику или в искусство. Если вспомнить, как они учились и какой преувеличенно филологический характер носила гимназия александровской эпохи, легко себе представить, что за характер имели литературные вкусы молодых поэтов того времени.
озяйственная жизнь России в конце XIX века определялась противоречием между потребностью земледелия перейти от экстенсивных форм эксплуатации земельного фонда к интенсивному его использованию, требованьями народившегося промышленного капитала, всё более подчинявшего себе капитал торговый, и политикой правительства, поддерживавшего свою финансовую систему путём повышения числа пудов вывозимого зерна, и свою власть — защитой политических форм, свойственных эпохам господства торгового капитала. Результаты такого противоречия между требованиями объективной действительности и субъективными опытами управления страной сказались: в деревне в форме крайнего обнищания, хронического голода крестьян и разорения мелких помещиков, в городе спазматическими подъёмами промышленности и длительными кризисами: и финансовыми, и производственными. Разорённые и потомство разорённых осаждались в городе: они или выгонялись нуждой из деревни, или не имели возможности убежать в неё из разорившего их города. Общественная группа деклассированных интеллигентов численно увеличивалась с каждым месяцем. Самый характер её комплектования изменился: раньше она пополнялась выходцами из среды, стоявшей в глазах ушедших из неё людей ниже той среды, в которую они попадали, порвав с вотчиной, теперь исход приобретал обратный характер. И дети дворян, пропивших выкупные платежи, и потомки мелких купцов, прикрывших “дело” или влачивших свои дышавшие на ладан предприятия по направлению к братской могиле концентрованного капитала, и родственники жертв банковских крахов, и присные обанкротившихся пионеров промышленности не могли особенно восторгаться переменой своего существования. Новый уклад бытия казался им тяжким, перспективы были мрачные, политический режим, связывавший личную инициативу этих отщепенцев погибавшего патриархального быта, угнетал их сознание, времена давно прошедшие казались им золотым сном, настоящее было не верно и действительность слишком зыбкой, неустойчивой и неприятной, чтоб не подлежать скорому исчезновению. Они его призывали. Люди активного характера стали революционерами, пассивные, созерцатели пустились в мистику или в искусство. Если вспомнить, как они учились и какой преувеличенно филологический характер носила гимназия александровской эпохи, легко себе представить, что за характер имели литературные вкусы молодых поэтов того времени.Привычка к лингвистической тренировке помогла им в лёгком усвоении чужих языков. Постоянное же пребывание под воздействием греко-римской словесности, обнаружив нестерпимую слабость поэтических форм, господствовавших среди продукций предшествовавшего поколения, заставило их учиться современной поэзии у иностранцев, стоявших и по психике (строй общества экономически депрессированной Франции 80-х годов был им ближе российского быта 60-х, чьи традиции тогда господствовали в качестве идеала) в более близком к ним отношении.
Бальмонт, литературный ученик, а впоследствии наследник поэтической популярности Надсона, скоро перешёл от собирания неизданных стихов Апухтина к усовершенствованию некрасовского трёхдольника,1![]()
Их жизнерадостность стала проявляться потом. Сначала это была определённо мрачная компания. Да и было отчего. Не сегодня-завтра последние остатки земли продаст государственный банк или родители последнего капитала решатся, либо глава семьи не дотянет до пенсии. Всё было так превратно в этой юдоли скорби. Привычный быт умирал, мистика и спиритизм находили благоприятную почву у людей, обиженных временной действительностью настолько, что приходилось искать утешения в вечности. Некоторое здравомыслие мешало деятелям начального символизма договориться до Страшного Суда. В лице некоторых своих представителей они даже пытались анализировать причины происходящего в обществе, где живут не от тех благ,
Зато последователи из молодёжи прямо и определённо поставили вопрос о необходимости приготовиться к светопреставлению. Андрей Белый, происшедший от Бальмонта в той же мере, как сей последний возник из Надсона, но совершенствовавший манеры учителя, как Брюсов улучшал Случевского, — Андрей Белый в содружестве Александра Блока легко отожествил экономический перелом с тем концом всемирной истории, о котором так многозначительно прорицал великий философ русских восьмидесятников Владимир Соловьёв. Вскоре такая тенденция стала господствовать. К ней легко примкнула и старая гвардия бывших надсонианцев. Мережковский, Минский затянули ту же песню, и Вячеслав Иванов прибавил ладану в этот новый „костёр мирового слова”. На этом довольно сошлись и старшие, и младшие богатыри символизма. И те, и другие, за исключением, если не ошибаюсь, В. Брюсова, мира не принимали, а в какой форме его не принимать — было дело второстепенное, тем более, что мир Николай-второйской России шёл навстречу прорицателям. Правитель страны решил одним выстрелом повалить двух медведей: завоевание Манчжурии, с присоединением Кореи, Монголии и вассализацией Тибета, с японской контрибуцией, спасало систему хищнического земледелия и открывало ценные возможности именитому купечеству российскому.
Надо ли напоминать о той стремительности, с которой символисты ринулись воспевать сперва овладение Тихим океаном, потом и революцию: оба понятия отожествлялись с их эсхатологическими чаяниями. Не успел этого сделать только новоявленный тогда Михаил Кузьмин, но этот поэт имел самостоятельные пути к общему неприятию мира. Это был эстетический гедонизм и коллекционерство. Оно подразумевалось у старших, но не выговаривалось, считаясь делом слегка зазорным. Нужны были опыты филологического коллекционерства Вячеслава Иванова, чтоб любовь Кузьмина к раритету стала простительной и закрыла исхищрённостью фразы усовершенствованную систему Бальмонта. Круг символизма определённо замыкался. Революция удалась столь же, как и покорение Азии. Проклятый мир не провалился, надежды на Страшный Суд лопнули. Оставалось принять мир или повеситься. В аудитории символистов многие избрали второй путь. Сами же они, к чести их будь сказано, предпочли первое. Но как быть с почтенной публикой, — море-то ведь не загорелось? Публика сама переменилась.
Не вдруг, конечно: вдруг ничего не делается, и это обстоятельство помогло символистам отпраздновать победу. Их стали читать, хотя критика ещё поругивала. Подросли те мальчики и девочки, которых родители в своё время бранили за предосудительное чтение „негодяев” (термин, которым «Вестник Европы»3![]()
![]()
![]()
![]()
Случилось же это вот как. Сорвавшись на попытке ограбить Азию, имперское правительство, во спасение своей финансовой системы, вынуждено было пойти на поклон к западному капиталу. Аграрные события пятого и шестого года понизили средства баланса утекающего по процентам золота и вывозимого для его возвращения зерна. Понадобились новые займы и их гарантии. Двери для ввоза иностранного капитала пришлось приоткрыть, а он оказался промышленным и потребовал для себя большей свободы. К тому же и местная денежная концентрация, вследствие спешной продажи беспокойных земельных угодий, вела к усилению индустрии. Банки были консолидированы, связаны с иностранными предприятиями этого рода и перестали лопаться. “Сбережения” попадали в верные руки, усложнившиеся имущественные отношения давали хорошую пищу деятельности юристов, техники не могли пожаловаться на безработицу, служба в банках и различного рода конторах была много выгодней государственно-чиновничьей карьеры: вообще свободные профессии оказались делом удобным и достаточно удовлетворительно обеспечивали мелкую буржуазию города, чистую публику, читателей книжек.
Они не только приняли мир, но даже стали считать нехорошим делом его неприятие. Больше того, это неприятие становилось им совершенно непонятным, отрицание быта, проповеданное символистами, тоже не могло находить у них сочувствия. Конечно, быт комедий Островского был для них не нужен: но это ведь была только история, недостаточно далёкая, чтоб стать курьёзной: нечто вроде неприятного воспоминания.
Проходившая ускоренным темпом перестройка жизни заставляла будущих поэтов современности отзываться на изменения среды с большей поспешностью и большим радикализмом, чем это делали старшие. Правда, их ещё не печатали, и рукописный текст можно было переработать при случае, но внутреннюю работу для такой операции, тем не менее, проделывать приходилось. У человека искреннего, а мы говорим о поэтах, подобное занятие не может протекать безболезненно: нужно оправдание, хоть в собственных глазах. Оно не замедлило отыскаться: зверь, как известно, бежит на ловца.
То было время, когда Лоренц7![]()
![]()
![]()
![]()
В. Хлебников, как бы к нему или, верней, к его поэзии ни относиться, является родоначальником всей новой, недавно, а теперь всей современной русской поэзии (не исключая и творчества Демьяна Бедного, хоть я не сомневаюсь, что известный применитель свободного стиха будет крайне изумлён сообщением о такой своей наследственности). Одной из замечательнейших сторон его действия надо считать то обстоятельство, что техника его не претерпела почти никаких изменений со времени его первых напечатанных работ. Да и повествовательно учительная часть тоже.
Мысль об относительном значении времени приобрела у него характер навязчивой потребности обосновать собственную теорию совпадения двух точек в этой форме познания. Относительность всякого суждения привела к необходимости обосновать практически доказательство относительности всякого понятия и повела к маниакальному упражнению в придавании любому корневому реченью всевозможных значимостей. Относительность всякого восприятия и ответной на него реакции побудила предпринять работу над созданием всеметрического ритма. Так как это была первая попытка и притом, как видите, довольно всеобъемлющая, то метод её реализации должен был и естественно стал крайне примитивным. Разложение символизма, ставшее общедоступным методом и упрощённым трафаретом стихописания, могло только способствовать наименьшему сопротивлению новой поэтической линии. Она у Хлебникова пошла от того угла символистской печки, где был приклеен голубкинский барельеф Вячеслава Иванова,11![]()
![]()
Грамматические опыты Хлебникова имеют прецеденты эстетического порядка в работах названных поэтов, его архаизм отмечен их наследственностью и без них был бы невозможен. Его относительность может быть (и бывала) обёрнута как непринятие мира, — на то она и относительность.
В смысле построения понятий примитивность метода была явной. Брался любой корень, грамматика третьего класса гимназии, ч. I. Этимология раскрывалась на главе о суффиксах и к избранному для операции корню приписывался этот материал. Таким же путём использовались флексии13![]()
Ритмическое единство достигалось так: в стих набивали возможно большее количество нейтральных или односложных слов, ударяемость которых оставалась под сильным сомнением, а последующие строчки писались уже в другом метре.
Всё это было, как легко усмотреть даже из столь беглого изложения, далеко от теорий Ф. Маринетти. Всё это было очень примитивно и наивно. Но именно эти качества привлекли к Хлебникову сочувствие молодёжи, впечатлительность которой была утомлена до отвращения утончённым педантством символистов, непосредственным продолжателям коих предоставлялось разлагаться и умирать под различными замысловатыми эпитафиями в роде Акмэизма,14![]()
![]()
![]()
Игорь Северянин17![]()
Наивность и примитивность эго-футуристов была не меньше, чем у Хлебникова, но она была свободна от последних колебаний мировоззрения: они пришли поздней. Революции они не переживали, и реакция к ним не относилась. Мир можно было принимать безотносительно, он был хорош и сам по себе, как есть. Надо помнить, что внешность наших городов к тому времени изменилась: символисты ещё ездили на конках и детские впечатления говорили им о Старых Рядах в Москве и о славных временах питерского Щукина Двора, о стеариновых свечах, о плоских горелках керосинового освещения и прочей российской серости, от которой приходилось утешаться греко-римскими красотами. Но школа современников Игоря Северянина уже не была Толстовской гимназией, и богиня Афродита имела над их конкретной фантазией меньшую власть, чем лакированные ботинки и не менее лакированный лимузин. Поэтизирование этих домашних предметов оказалось делом нетрудным. Почва была подготовлена Михаилом Кузьминым. К нему Игорь Северянин относится, как Хлебников к Сергею Городецкому.
Что касается до ритмической характеристики первого русского “футуриста”, то надо сказать, что она последовательно противоположна хлебниковской: в противоположность старшему поэту, Игорь Северянин разнообразит свой трёхдольник накоплением большого количества многосложных слов. Этот метод оказался удобнее, стих более плавным и удобочитаемым, место ударного слога находилось легче, и читателю не приходилось его разыскивать, переворачивая строчку на все лады. У Игоря Северянина нашлось более последователей, чем у Хлебникова ещё и по этой формальной причине.
Но реакция против несовременности символизма потребовала и переработки поэтического словаря. Людям, которым прилично жилось и которые стали довольствоваться внешним миром, естественно было принять и язык внешнего мира: приближение поэтической речи к повседневному разговору стало одной из задач молодых. На этом пути имелся опыт Кузьмина. За ним пошли, но исправляя и дополняя.
Исправлению подлежали остатки миронеприятия, имевшие выражение в стилизации и ретроспективности кузьминской поэтики. Каким бы эстетическим гедонистом ни был автор «Крыльев»,18![]()
Высокая пудреная прическа маркизы была легко и безболезненно заменена модной шляпкой кокотки, „шабли во льду, поджаренная булка”19![]()
![]()
![]()
![]()
Должно ли напоминать, что Игорь Северянин оказался поэтом одной книги? Что усовершенствованный им стих Кузьмина, усовершенствовавшего Бальмонта, порождённого Надсоном, скоро застыл в формуле найденного новшества и слишком поспешно, слишком заметно стал выравниваться в самый неусовершенствованный трёхдольник? Стоит ли напоминать, что именно в поэзии эстета Игоря Северянина, первого, кто решился ввести ругательную полемику с Надсоном в стих, этот самый стих перестал существенно отличаться от техники Надсона? Что с ним это случилось значительно скорей, чем с А. Блоком, — это известно каждому его читателю, но не всем понятно.
А причина была та, что со времени выступления Хлебникова прошёл порядочный срок, и промышленный подъём решительно начинал обнаруживать свою искусственность: все эти иностранные предприятия, гарантированные займы, стратегические дороги и экспортные конторы основывались не для настоящих потребностей населения, которое продолжало в большей своей массе беднеть и разоряться. Столыпинские мужички никого не обманывали, кое-кто начинал тревожиться. Поэтому появление Владимира Маяковского на эстраде перестало казаться явлением исключительной возмутительности, и этого великолепного декламатора стали слушать и как поэта.
В ряды интеллигентов он попал путём шестидесятников, но в противоположность им от такой перемены обстановки в восторг не впал. Более того. Городские прелести, очень остро ощущавшиеся его молодыми чувствами, были для него источником великих и всяческих огорчений, терзаний и той обиды, которую не прощают врагу при жизни, да не всегда забывают и после его смерти.
Ранние вещи этого неплодовитого поэта (он читал много и поэтому кажется, что им написано не меньше Брюсова) обнаруживают сильное влияние Блока. Это характерно: Блок был одним из наиболее бесплотных символистов и наиболее усердным непринимателем мира, даже обходясь без санкции Второго Пришествия. Только Маяковский проявлял больший темперамент, и его требования к Прекрасной Даме были гораздо определённей, чем у Блока, а огорчение развёртывалось не в тихую грусть, а в бурный протест, переходивший в протест социальный.
Игорь Северянин был хорош на первых порах, он будил аппетит, а потом приходилось жаловаться Маяковскому, и его влияние на северянинцев росло не по дням, а по часам. Формально, пока молодые люди были ещё слишком смирны, чтоб идти за ним по пути протеста, и утешались в других местах: им этого хватало, как и “новой метрики Маяковского”, основанной на совершенно небывалом в российской поэзии начале — зрительном. Все гениальные вещи просты. Ударная сторона помянутой метрики особенных усложнений не представляет: она проще и способа Северянина, и методики Хлебникова, к чьей группе примыкал Маяковский. Последний убирал иногда один-два слога из стиха, иногда прибавлял в него столько же. Использование Хлебниковым односложных речений в рифме широко применялось Маяковским для образования этих украшений стиха из групп слов, среди которых только одно несло ударение, место какого определялось по тому целому слову, которое было срифмовано с этим коллективом. Так в рифму попали предлоги и наречия. Но главное новшество было не в том. Маяковский плохо соображал насчёт знаков препинания, а стих у него был декламационный. Чтобы отметить перерывы чтения, пришлось заменить предательские запятые, точки и прочие — пробелами и постишной23![]()
Так поступил Вадим Шершеневич,24![]()
![]()
![]()
![]()
Тем более, что надо было новизны и перемены во что бы то ни стало. Жизнь развивалась с такой быстротой, что даже продолжатели Андрея Белого в «Лирике»28![]()
Культ скорости, провозглашённый Маринетти, быстро был усвоен молодёжью, а также и новой аудиторией. Начался медовый месяц футуризма. Ругать его переставали даже в толстых журналах кадетов, а публика раскупала любую макулатуру с его штампом. Авто-хозяева и автопоклонники понимали прелести динамизма: это, впрочем, было единственное из проповеди Маринетти, нашедшее себе применение в русской, так называемой футуристической лирике. Впрочем, она не только не следовала законодателю Миланской школы, но и находилась с ним даже в вопиющем противоречии.29![]()
Действительно, боевым лозунгом лиризма итальянского севера, переживавшего буйный и менее искусственный, чем в России, промышленный подъём, было отрицание всякого архаизма и даже всякого пассеизма, в чём бы и где бы он ни выражался. Хлебников был до последних пределов архаичен и по языку, и по привязанности к древнерусским сюжетам, и по преданности истинно русскому синтаксису. Деревенские мотивы были запрещены итальянцами: они преобладают у Хлебникова, процветают у Игоря Северянина и украшают творчество поэтов Центрифуги30![]()
![]()
Влияние российской биржи не проникало вглубь мелкой буржуазии города, и поэтому, если последняя и была в общем довольна создавшимся положением, довольна до полной потери желания революции, с которой она до ‹19›05 года так мило заигрывала, то довольство это было совершенно пассивно: жертвовать собой за поддержание существующего правительства она ни в коем случае не собиралась, а личному её благополучию угрозы ещё не было. Поэтому она, в противоположность северо-итальянским одноклассникам, не была ни шовинистична, ни империалистична: она хотела только, чтоб её не трогали. А когда это случилось, то первое её негодование обратилось на нарушителей спокойного пищеварения в этом лучшем из миров.
Но немцы пробыли в роли злодеев очень недолго, — ровно столько, сколько потребовалось мобилизационным отделам времени для рассылки призывных повесток большей части городского населения. Тогда война стала ужасом и мерзостью. Патриотизм перешёл в самоокапывание, идеология новой России путём Земгора32![]()
После изложенного мне, вероятно, не придётся слушать упрёков за то резкое различие, какое я делаю между двумя поэтическими школами, имеющими общее имя, покрывающее совершенно различные приёмы и тенденции, основанные почти одновременно, независимо друг от друга, и порождённые подобными, но не одинаковыми условиями экономического развития двух молодых в хозяйственном отношении стран.
Повышение личного благосостояния мелкой городской буржуазии бросалось всякому, даже не особенно внимательному наблюдателю быта русского общества в первые шесть месяцев войны. Многим стали доступны такие вещи, о каких им раньше и думать не приходилось: та некоторая оппозиционность, которая намечалась ещё в рядах упомянутой общественной группы на первых порах военного бытия, быстро исчезла, и так называемые общественные организации из оппозиционных нечувствительно превратились в архиверноподданные. Роскошь и цветистость городского быта, поэтически преувеличиваемые довоенной риторикой северянинцев, сделались приятной действительностью. Когда процветают идеалы поэта, процветает и поэт.
Так русский футуризм сделался явлением принятым, приятным и в лице одной из своих фракций — даже любимым проявлением словесного искусства. Симпатии распространились и на смежные группы, хотя не всем они совпадали с петербургским бардом в своём отношении к действительности. Игорь Северянин очень хорошо определял своё отношение к серым героям, и восторги его перед наступающими победоносно на Будапешт не мешали ему откровенно признаваться, что сам он не намерен предаться подобному занятию. Разве только, когда все они будут перебиты. Да и то — предложение почтенной публике вести её на Берлин делалось в форме, не допускавшей сомнений в отказе от такого самопожертвования со стороны симпатичного мужчины. Других не очень слушали, не очень понимали, но принимали к сведению по доверенности Северянина. Потом стали заниматься и ими.
Я уже говорил, что злоупотреблять можно всем. Правительство последнего императора злоупотребило многим, в том числе и эмиссией бумажных денег и возможностями эвакуации канцелярий из оставленных территорий, добившей довоенный транспорт, и терпением христолюбивого крестьянства. Положение портилось, жить становилось трудней, а вкусы уже успели развернуться, аппетиты стали шире, инициатива к личному обогащению давала слишком приятные результаты, чтоб не стать качеством ценным и почитаемым. Вы помните оргии спекуляции, справлявшиеся во всех крупных российских центрах в 15 и 16 годах? Вы помните кабацкий разгул и вызывающую роскошь кофейных заседаний и театральных разъездов? Если она не била в нос первое время, то потому, что контраст положения других слоев общества на улицу ещё не был вынесен. Но когда хлебные и сахарные хвосты, выраставшие у лавок с четырёх утра, пересекли поезда разъезжающихся по домам жизнелюбцев, тогда для понимающих стало ясно, чем кончится это беспечальное житьё, и жестокие слова Маяковского нашли себе оправдание во взволнованных чувствах некоторых современников. Отмахиваться можно было ещё временностью явления и, сваливая всё на войну, ожидать и призывать её окончание, как всеисцеляющий бальзам: поэзия С. Боброва выполняла эту функцию с высокой добросовестностью и непоколебимой убеждённостью в своей правоте. Некоторый налёт парадоксальности мешал несколько её широкому распространению, в ней усматривали, пожалуй, по тому времени, кое-что от символистского неприятия мира, но ошибались — поэт этот не отставал от сознания своего класса, а опережал его, кажется, бессознательно.
Потому, что эта группа не переменила своей манеры при крушении монархии, самое крушенье в первые минуты было понято, как ликвидация войны, приветствовано в качестве такого предвестника, но потом благовещение не состоялось и было даже признано ничтожным и не происшедшим. Появилась опасность бóльшая, чем внешний враг. Благополучию мелкой городской буржуазии, пробравшейся к власти, угрожала сила, которую недавно наш общий друг Ллойд Джордж33![]()
Когда волны потопа несколько осели и “родному русскому слову стало опять дело до стихов”,34![]()
И чем более развивалась перестройка, предпринятая Рабоче-Крестьянской властью, тем шире разливалось влияние футуризма.35![]()
Тем не менее положение футуризма до смешного напоминает положение его врага символизма, после шестого–седьмого года нашего столетия. Он не признан только теми самыми людьми, которые в своё время не признавали и его предшественника, он распространён в той же мере, как и тогдашний символизм; но, как и тогдашний символизм, подвергается фракционному дроблению, в его собственной среде возникают внешне тожественные ему по технике группы поэтов, претендующие на звание новых школ, провозглашающих разнообразные, но быстро забывающиеся программы и определённо отмечающие, что футуризм как литературная секта перестал существовать, а как литературное движение — разлагается.
Что общеприемлемость какой-нибудь доктрины уничтожает возможность сектантской её защиты — понятно. Трудней объяснить себе причину разложения победившего литературного метода. Надо обратить внимание на ту среду, из которой вышли, в которой работают и к которой обращаются современные поэты.
Искусство принадлежит к ценностям культурного ряда, а культура создаётся в результате организационной работы многих поколений господствующего класса. Пролетариат, ныне осуществляющий свою классовую диктатуру, ещё слишком мало времени находится у власти для того, чтобы создать свою науку, своё право, свою этику, своё искусство. В этом смысле он ещё потребитель. Производят искусство остатки низверженных классов, главным образом, всё та же мелкая городская буржуазия. Её представители и создают стойкие подобия своих чувств, передавая эти модели тем, кто в них нуждается. Что же это за чувства, как живется теперь этой общественной прослойке?
В подавляющем большинстве — плохо ей живется. Не все пристроились на пайковые места, жалованья не хватает, еженедельно грозит выселение, мобилизация того или иного свойства, ежедневно приходится изворачиваться как для избежания помянутых опасностей, так и для простого добывания пищи и дров. Последнее до сих пор невозможно, почти невозможно в легальных пределах, предпоследнее только недавно стало легализованным, под именем покупки излишков. Отсюда, конечно, оппозиционность существующему порядку: дискуссионно-политическая оппозиция: меньшевизм, анархизм, меньше-эсэровство, чуть больше кадетство, ещё больше черносотенство и самый неожиданный антисемитизм (до смешного заразивший даже евреев); поэтически: непринятие мира вообще и существующего пафоса господствующего класса в частности, то есть аполитизм, ненависть к принципу организации: принципиальный индивидуализм, своевольничание; внеполитичный протест — апология бандитизма и упоение рассказами о разбойничьих подвигах; неприятие господствующей идеологии; протест против рационализма — мистика, демонстративная религиозность, появление в стихах и прозе такого осмеянного футуристами литературного персонажа, как небезызвестный Господь Бог и многое в том же роде. Особенно интересна одна подробность в современном укладе жизни исследуемого общественного явления: большинство этих людей живёт старыми запасами, распродавая уцелевшее от реквизиций, переселений, вселений и уплотнений имущество, приобретая на него предметы питания, то есть непрерывно съедая свои средства существования без возможности и надежды пополнить их чем-либо новым в том же роде: такое новое перестало производиться в Р.С.Ф.С.Р., его можно найти только за её пределами, и крик: „в Москву, в Москву”, сменился воплем: „за границу” или даже „в никуда”.
Мне пришлось привести не случайно заголовок книги одного талантливого имажиниста,36![]()
Вопреки всем нападкам имажинисты — явление органически связанное с настоящими условиями существования мелкой городской буржуазии. Пусть техника их стихов — футуристична, пусть бóльшая их часть была в своё время в рядах футуристов, пусть некоторые критики обличают их в сплошном или систематическом присвоении до них написанных строчек, — мы знаем, чем живёт и питается современный обыватель, мы знаем, какое участие принимает он в производстве страны, мы знаем, как ему приходится использовать нелегальное распределение краденных продуктов для поддержания своей жизни, и поэтому литературные хищения имажинистов только доказывают их своевременность и органичность. Они последовательны и в методах своей издательской деятельности, сплошь нелегальной, и в способах Сухаревского распространения своей литературы. Они являются истинными представителями чувств и идеологии всех совбуров, совбарышень и совспекулянтов, не только в шершеневичевском аполитизме, не только в мариенгофской эротике или кусиковской экзотике, но и в есенинской религиозности, в его разбойничьем пафосе, столь милом сердцу любителей кулацких восстаний, и… сердцу бывших народников, ничего не забывших из времен своей грешной молодости и ничему не научившихся в этой области от партийных билетов, украшающих ныне их почтенную старость.
Тот факт, что наряду с этой старшей группой эпигонов футуризма продолжают возникать, образовываться и почковаться всё новые поэтические секты, показывает, что окончательной формулы, объединяющей чувства обывателя, ещё не найдено. Жизнь его слишком беспокойна и превратна, чтоб в ней могло что-нибудь основательно отстояться. Дальнейшие события в области этой поэзии зависят от характера ближайшего развития нашего производства и от тех изменений, какое оно внесёт в современный уклад городского быта.
Ошибочно было бы противопоставлять этому течению группу, известную под именем пролетарских поэтов, в самом титуле которых имеется некоторое недоразумение. Люди, её образующие, вышли из рабочей среды, но рабочими быть перестали по большей части вот уже несколько лет. Живут они не на фабриках, непосредственного участия в производстве не принимают, и по роду деятельности должны быть отнесены к лицам так называемых свободных профессий, то есть всё к той же городской мелкой буржуазии. Конечно, они недавно в её рядах, конечно, они считают, что их теперешнее положение выше того, которое они занимали раньше, — не станем с ними спорить по этому поводу, а примем к сведению такой факт и тогда мы увидим, что отношение к происходящему у них должно быть диаметрально противоположно отношению имажинистов, ничевоков, презентистов, экспрессионистов, ледоколистов, ваграмофлейтистов37![]()
Оно и является таковым: среда, их питающая, тоже иная: это та группа старой и новой интеллигенции, которая ведёт ответственную и натурпремированную работу, обеспечена жилищем и топливом, в услугах спекулянта не нуждается, личного запаса всяких предметов обмена не имеет и ни переселений, ни мобилизаций поэтому не боится. Она основательно погрязла в канцелярии и потому обюрократилась, и потому очень ревниво относится ко всякой критике, особенно печатной. Её оптимизм очень искренен, и не её вина, если он носит официальный характер. За краткостью своего довольно уединенного существования, она не успела создать культуры, как не успела создать достаточно ощутительного производства. В последней области мы ещё находимся в периоде овладения продуктами капиталистического строительства и живём в них, как в реквизированном особняке. Общественный слой, о котором я говорю, ещё очень тонок, неоднороден, люди его образующие принесли с собой остатки своего прежнего быта и его навыков, чувства их могут быть объединены и обобщены только в области политики. Перегруженность работой не оставляет им достаточно свободного времени для общения с людьми, а если такое и удаётся осуществить, то производится оно в узком и тесном кругу товарищей по работе: люди других социальных группировок слишком неприятные собеседники, да и политически опасно их к себе подпускать, — если не напакостят, то карьере повредить могут.
То обстоятельство, что мировая революция развивается с быстротой, вынуждающей Р.С.Ф.С.Р. в деле своего экономического спасения рассчитывать главнейшим, а до самого недавнего времени единственным образом на собственные средства, помогает забывать, что настоящая ценность нашего государства в том, что оно является единственным участком территории мировой борьбы пролетариата, где низвержен крупный частный капитализм. Всё больше забывается средняя буква нашего пентаграмматона38![]()
Я остановился с такой подробностью на анализе изложенного социального явления, — с подробностью, которая может показаться излишней, но считал необходимым её ввиду полной неразработанности вопроса и тем несправедливым нападкам, которые за последнее время участились по адресу группы пролетарских поэтов. Нападки эти столь же несправедливы, как и не заслуженны.
Если в период первых выступлений техника пролетпоэтов и повторяла приёмы Маяковского, то объяснение такому случаю легко найти в неуравновешенности структуры того общественного слоя, в котором протекала поэтическая работа этих лиц, и вызываемым подобным обстоятельством динамическим направлением формы. Надо указать и на то, что Маяковский был единственным большим поэтом, в те дни безоговорочно повернувшим на путь мировой революции вообще и на дорогу советского строительства в частности. В настоящее время поэты «Кузницы»39![]()
Мы видели, как футуризм, правда постепенно, перешёл из должности поэзии будущего на амплуа поэзии настоящего, к чему его привела его диалектическая антитеза символизму в отношении к миру. Я указал также и на то обстоятельство, что среда, в которой развивается поэзия интересующей нас группы литераторов, отличается замкнутостью. В силу отмеченных мной предпосылок всякого поэтического начинания у наших лириков эта замкнутость должна приобрести особенный, доходящий до агрессивности отпечаток. Так оно и есть в действительности: замкнуты не только в организационном смысле, не только в своих коллективных выступлениях, когда они избегают появляться на трибуне, обмирщённой чужими и погаными предшественниками, но и в самых выражениях своих чувств, в самом выборе тех своих треволнений, которые им приходится выражать ритмически. Если наши потомки захотят составить себе картину жизни республики наших дней и обратятся для этого к писаниям пролетарских поэтов, в виду программного заявления последних об их принципиальной привязанности к действительной жизни, случится такая идиллия, перед которой Теокрит покажется Гартманом,40![]()
Изложенное заставляет меня видеть и в пролетарской поэтике нашего времени только поэтическую секту, не имеющую шансов сохранить свои родовые признаки ко времени создания нового литературного движения, которое возможно только при условии большего уплотнения и большей однородности тех социальных слоев, что в данное время участвуют в культуре страны. Их теперешняя структура, недостатки и болезни коренятся в тяжёлых условиях нашего производства.
Чем больше усилий будет приложено всеми к созданию его подъёма, тем скорей исчезнет и уродливая пришибленность, и безобразная исковерканность наследников старой городской интеллигенции, тем скорей изживётся канцелярская замкнутость и бюрократическое изуверство интеллигенции новой, тем скорей появится возможность к созданию истинно жизненной и действительной поэзии, равной в своих достижениях величию поставленных нами задач и перенесённой за них борьбы.
Выполнение такой работы выходит далеко за пределы литературы вообще и поэтической критики в частности. Но та жизнь, которая создаёт революцию на всей поверхности земного шара, тоже переходит и уже перешла все пределы не только возможных классификаций, но и возможных предвидений. Легкомысленно поэтому было бы пробовать определять характер новой поэтики. Проще и полезней сознаться в полном своём к тому бессилии. Но если мы не можем предсказывать, то мы не смеем запретить себе желания её увидеть, и от нас, а не от кого другого, зависит возможность приблизить к себе эпоху её осуществления. Каждый новый станок, пущенный в ход, приближает её к нам больше, чем каждый новый сонет; каждая загоревшаяся домна делает для будущей поэзии больше, чем самая совершенная по технике или по чистоте идеологий поэма; каждое проснувшееся от спячки веретено — больший вклад в поэзию будущего, чем самый благозвучный стих.
К мыслям такого порядка нас приводит исследование любого явления современности, и если мне сейчас приходится говорить о примате станка над стихом, то только потому, что я отправлялся от стиха в моём изложении. Мы живём в настоящем, но живём будущим и мы хотим и должны стать его участниками.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 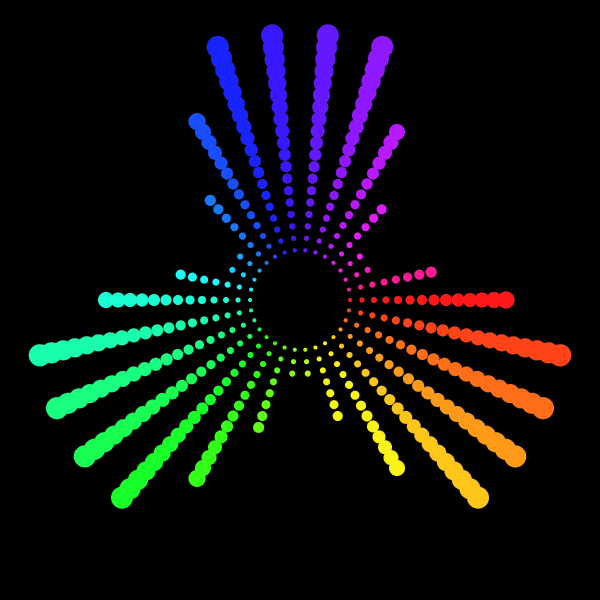 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||