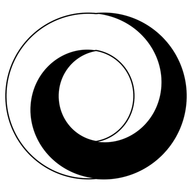
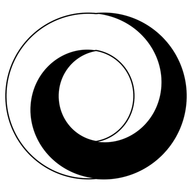
В науке неоднократно указывалось на параллели Хлебникову как внутри авангарда (с В. Маяковским, А. Введенским, П. Филоновым, В. Кандинским, С. Дали), так и за его пределами, как в искусстве, так и в философии (с К. Леонтьевым, Н. Федоровым, П. Флоренским, М. Хайдеггером, Тейяр де Шарденом, структуралистами). Задача данной работы — дать внутренний облик хлебниковского творчества — связана с тем, что гений Хлебникова, взятый в его широте, остается в сущности одиноким в мировой культуре. Как ни странно, уникальность Хлебникова растворяется не столько в сопоставлении с современниками, сколько на фоне различных мировых традиций.
Наука о Хлебникове — одна из наиболее богатых областей в исследовании русского авангарда. Существует ряд убедительных биографических и лингвистических версий хлебниковского творчества. В последние десятилетия получены серьезные результаты в изучении его словотворческого аспекта. Предпринимаются решительные попытки найти ключевые решения и для всех остальных аспектов велимироведения. Вместе с тем в этой, наиболее молодой генерации ученых последних десятилетий удивляет несоответствие между подразумеваемым в большинстве работ пониманием многослойной творческой вселенной Хлебникова и практическим отсутствием попыток дать всесторонний очерк такого целостного понимания. Исключение представляет разве что монография Р.В. Дуганова, в которой закладываются первые основания для трактовки, в какой-то мере удовлетворяющей потребность в широкой реконструкции художественного и теоретического миропонимания поэта.1![]()
Благодаря трудам В.П. Григорьева, Р. Вроона, В.Г. Вестстейна, Н. Перцовой сегодня можно уже представить исчерпывающую по охвату классификацию словотворчества, хотя о необходимости и мере выделения дополнительных подклассов еще будут долго спорить. Гораздо сложнее последовательно увязать словотворчество с образо- и звуко-творчеством, а также с художественно-философской системой Хлебникова в ее целом. В этой сложной работе наиболее глубокие решения принадлежат В.П. Григорьеву.
С моей точки зрения, на сегодняшний день максимально упорядоченная типология словотворчества выглядит так:
1. Лингвистическое словотворчество (языкотворчество)
2. Словотворчество с перевесом поэтической функции
3. Паралингвистическое слово-, звуко- и образо-творчество
В 1 и 3 классах этой типологии наблюдается равновесие поэтической и непоэтической задачи.
Объяснить происхождение и смысл медиумической речи, которая мировоззренчески неотрывна от “звездного языка”, можно будет только на более высоком методологическом уровне, нежели нынешний уровень хлебниковедения.2![]()
Один из труднейших вопросов велимироведения — вопрос о направлении внутренней эволюции хлебниковской художественной и мировоззренческой системы. Эстетически происходит эволюция к взглядам, значительно расширяющим и в перспективе преодолевающим стереотипы традиционной европейской словесности и образности. Знакомство со сравнительным религиоведением, с глубинной культурологическом подоплекой мирового традиционализма — необходимый залог успеха велимироведения в будущем. Только решительное раздвижение культурно-исторического контекста до альтернативных модернистской, древних европейских и архаических неевропейских традиций прольет на образотворчество Хлебникова тот свет, без которого адекватное его восприятие останется невозможным. Во всяком случае, происхождение хлебниковского образа, неологизма и “неолингвизма” благодарно наблюдать на фоне неэмблематического символизма древних традиций Азии, Африки и Америки — только тогда можно строго различить, что Хлебников почерпнул у древних, а к чему пришел самостоятельно.
Название работы «Традиционализм в авангарде» указывает на актуальное в случае с Хлебниковым любопытное совпадение противостоящих категории “модернизм” смыслов. В авангарде (или постсимволизме) отталкивание от предшествующего литературного стиля способно привести к отказу от “модернизма”, но уже как широкого мировоззренческого явления новоевропейской культуры, соотносимого с идеями гуманизма, протестантизма, линейного прогресса мировой цивилизации. Такой отказ автоматически переворачивает историческую фигуру европейской жизни и ввергает авангардиста в эру до модернизма, в эру традиционализма как средневекового, так и еще более удаленного от Нового времени, вплоть до первобытных эпох. Традиционализм в таком понимании отождествляется со всем многообразием традиционных обществ и культур и оказывается бесконечно более широким, чем отвергаемая художественная и идейная система. Все это подводит нас к тому тезису, что Хлебников явился в отечественной культуре уникальным самородком стихийного русского традиционализма, что проявляется в самой природе его мышления, в самих механизмах его образотворчества. Механизмы эти сопоставимы с принципами архаических, до-письменных эпох (словом-талисманом, словом — “зачуром”), а также с принципами идеографического языка и средневекового иконизма. Ключевые фокусы хлебниковского поэтического и теоретического творчества — это психологически и энергетически реализованные точки приложения жизни, решения судьбы, точки одухотворенности мира, в которых раскрывается существенная, онтологическая связь и связность разных личностей и жизней, осуществляется претворение друг в друга разных уровней бытия как полюсов взаимосозерцания. Забегая чуть вперед, можно сказать, что этот механизм функционирует всегда как раздвижение масштаба действительности. Метафора Хлебникова представляет собою скрытую или открытую метаморфозу, причем означающее и означаемое этой псевдо-метафоры оборачиваются двумя полюсами, двумя сторонами — “воронками” образа: узкая масштабность — раздвинутый масштаб действительности. Превращение у Хлебникова не сказочно-мифологический троп, а серьезный теоретически и даже естественнонаучно оправданный принцип становления мира, ориентированный при этом на творческую духоподъемность, на “правое” высвечивание реальности. Вне этой запредельной встречи полярностей, вне этого раздвижения масштаба Хлебников немыслим ни на языковом, ни на образном, ни на мировоззренческом уровнях своего творчества. Более того, скрытая транзитивность миров (сравнение, антитеза, загадка, параллелизм) и открытая, выявленная их транзитивность (метаморфоза) сами оказываются полюсами той же дихотомии: свернутый масштаб — раздвинутый масштаб реальности. Как я постараюсь показать, эта изначально заданная дихотомия пронизывает всего Хлебникова, и эволюция его происходит исключительно в ее русле, углубляя и расширяя это русло. Эволюция же Хлебникова состоит в том, как он меняет сочетание уровней своего традиционализма (как на разных этапах соотносятся языковые и образные, художественные и научно-теоретические, фольклорно-природные и религиозно-философские начала).
Трудность Хлебникова для обычного ценителя поэзии, непроницаемость его слова и демонстративное “незнакомство” его методологического языка с языком читателя являются, в конечном счете, следствием необычной контекстуальной задачи, которую возлагает поэт на слово. Связь и общение с читателем осуществляются на основе не условленной системы признаков, но безусловной системы неограниченной контекстуальности, сверх-контекстуальности, не просто допускающей, а предполагающей неодинаковость читательских и авторских коннотаций. В открытом, неограниченном пространстве сверх-контекстуальности (пространстве опять же “раздвинутого масштаба”) становится конструктивным читательское непонимание. В масштабе свернутого контекста непонимание трагично, в раздвинутом же масштабе, в космической перспективе событий происходит совпадение объемов понимания и непонимания, происходит отождествление говорящего и говоримого, созерцающего и созерцаемого, происходит как бы охват мира бинокулярным взором. Конфликт между этим режимом, который можно назвать режимом “Видящего ока” и свернутой контекстуальностью земной судьбы запечатлен Хлебниковым в мотиве “одинокого лицедейства”, в мотиве “зрелища”, в котором лицедей невидим, и преодолевается в мотиве “сеянья очей”.
Бинокулярность зрения в ее древнем традиционалистском толковании оказывается генеральным переводом той же двууровневости, двумасштабности исходного архаического синкретизма на “оптический” язык (далее см. таблицу 1). Метафора “ночного” как целого, полного вопреки “дневному” как бытовому, узкомасштабному часто используется Хлебниковым: Какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи ‹...› И это просто быт, это случай, что мы находимся именно около данного солнца.
Собственно, превращение случая в закон происходит самым естественным образом — закатывается наша звезда солнце и воцаряется космическая беспредельность. Именно в таком, естественном, закономерном ключе Хлебников воспринимает любую метаморфозу, любое раздвижение масштаба бытия, позволяющее дистанциироваться от узкого и обманчивого случая, от прихотливой природы субъективного мнения и выбора. И страсти, и мысли одной породы — пишет Хлебников. — Ум ведает многими, но дальними, а сердце чем-то одним и близким. Сердце, по Хлебникову, солнечное начало, оно принадлежит родине и народу, но разум — начало звездное, он не может самоограничиться. Вывод: Мозг не может быть только великорусским, мозг должен быть материковым.3![]()
| Таблица 1 | Таблица 2 | ||
| УЗКИЙ МАСШТАБ РЕАЛЬНОСТИ | РАЗДВИНУТЫЙ МАСШТАБ РЕАЛЬНОСТИ | УРОВЕНЬ МЕТАФОРЫ, АНТИТЕЗЫ, СРАВНЕНИЯ | УРОВЕНЬ МЕТАМОРФОЗЫ |
| бытовое значение слова | задача слова в сверх-контексте | коса девушки | время |
| дневная “пара глаз”, солнце | ночная “пара глаз”, звезды | виды зверей | веры в Бога |
| сердце, чувство | мозг, разум | девушка | слон несущий бодисатву |
| родина | материк | русалка, невеста вод | Богородица, невеста звезд |
Сравните несколько поэтических примеров раздвижения перспективного объема реальности (таблица 2):
Остановимся несколько подробнее на четвертом примере из поэмы «Поэт», в которой, с моей точки зрения, происходит интуитивное начертание Хлебниковым художественной формулы русского традиционализма. Эта формула раскрывается в диалоге поэта и русалки, “речной девы”, взывающей к нему о пощаде, то есть о восстановлении смысла древней сакральной традиции. Известно, что незадолго до смерти автор считал «Поэта» (второе название «Русалка») лучшей своей поэмой.
Это у Хлебникова революционное дерзание сочетать сестринскими узами “родную нечисть” и замирную святость. Проистекает это дерзание от веры в единство здесь и теперь нижних и верхних токов одухотворенности, в совпадение полюсов народно-природного и небесного. Уровни вселенной соединяются в одном мирообъятии, традиции размыкаются и открываются для источников живой космической силы. Традиционализм в данном понимании есть единство незамкнутых на себе преданий культа и культуры.
Дихотомическая структура хлебниковской системы, как она представлена здесь, тесно связана с проблемой мирового традиционализма и, особенным образом, традиционализма русского. Если говорить об устойчивых, сложившихся традиционных системах религиозно-философского опыта (древнеегипетская, шумеро-аккадская, древнеиндийская, дальневосточная и другие мировоззренческие модели), то авторская попытка Хлебникова дать русскую версию органичного для своего народа и культуры сочетания традиций является частным случаем всего этого мирового опыта. В главке VII мы коснемся вопроса, насколько удачной можно считать хлебниковскую попытку построения верхнего этажа русского традиционализма.
Таблицы 1, 3 и 4, являются, собственно, частью единой схемы. Для удобства восприятия они даются по отдельности. Это лишь вводные таблицы, не претендующие ни представительную полноту. Поэтически эту схему иллюстрирует таблица 2 и соответствующие ей цитаты в главке 4. Полная схема хлебниковского мировоззрения, в свою очередь, может вступать в определенные ассоциативные и метафорические связи с обобщающей схемой, которая вычленяла бы универсальные смысловые ряды основных мировых традиций. В отечественной науке попытка построения сводных таблиц подобного рода принадлежит В.В. Иванову и В.Н. Топорову.
Что касается наших таблиц, то, восполненные новыми парами противопоставлений “узкий масштаб действительности” — “раздвинутый масштаб действительности”, они могли бы воссоздать собою мировоззренческий облик Хлебникова в его целом. Понятно, что наиболее глубокие смыслы при этом открываются не только в вертикальном или горизонтальном прочтении таблиц, но и в их перекрестном прочтении. Когда исследователь приводит “левые” элементы схемы на очную ставку с далеко отстоящими от них “правыми” элементами, он и проделывает, собственно, восстановление, реконструкцию внутренних связей творчества поэта.
Тема дуальных оппозиций, их потенциального перерастания в “тройственные” структуры, не нова в науке. В XX веке она успешно разрабатывалась в школе французских традиционалистов (Р. Генон), наиболее формализованный аспект ее занимал умы структуралистов, причем русских в большей мере, чем французских. В.В. Иванов и В.Н. Топоров опирались в разработке этой проблемы на труды А.М. Золотарева, уже успевшего проложить первую дорогу в изучении “дуальных организаций” и их связи с “близнечными мифами” многих первобытных племен. В работе «Исследования в области славянских древностей» авторы увязали в единую “систему двоичных противопоставлений” архаические традиции народов разных континентов, уделив внимание, среди прочего, цивилизации инков, традиционным китайским и древнегреческим (досократики) представлениям. Хотя проделанного и недостаточно для построения полной схемы мировоззренческих дихотомии истории мировой мысли, однако же сравнительно-религиоведческий аспект французского традиционализма и этнографический аспект русского структурализма проливают дополнительный свет ни художественно-философскую систему Хлебникова, подчеркивая ее специфически русский, славянский характер (хлебниковская система хорошо сочетается с праславянской моделью мира) и в то же время приоткрывают глубинную архаическую подоснову всего мирового традиционализма.
У Хлебникова своеобразно революционизируется понятие поэтического “вкуса”, в одном котле на равных варятся слова высокого стиля и бранные, книжные и просторечные, разговорные и устарелые, а также вновь сочиненные и безвестные, “выкопанные” из глубин веков и непривычных языков. Со-противо-поставление Ломоносова — Пушкина — Хлебникова может быть глубоко осмыслено только через погруженность в обстоятельства становления русского языка XVII–XX веков. Хлебникова благодарно наблюдать на фоне даже еще более масштабных изменений. Его позиция существенно перекликается и с древнерусским “словотворчеством” (до второго южнославянского влияния), и с архаически-новообразовательными взглядами зрелого Тредиаковского, и с “архаистами” начала XIX века, выступавшими за восстановление “коренного” облика русского языка.4![]()
Хлебников живет в уникальную, резко отличную от времен Тредиаковского или Карамзина эпоху, когда победивший “компромиссный” язык русской элиты решительно наступает на основную массу субъектов русского языка. Пушкинский язык движется в народ в своей “лакейской” ипостаси. По существу пафос ломоносовско-пушкинской программы “уравновешивания” языка заключался в “омосковнивании” и вестернизации элитарного языка, языка будущей интеллигенции. Взгляд Пушкина на традицию (стихийного разговорного, фольклорного языка и языка церковнославянского) можно назвать умеренно-скептическим и роль этой традиции в его программе — пассивной. Этим объясняется и отсутствие у Пушкина интереса к словотворчеству. Именно засчет активизации традиционалистского состава русского языка Хлебников вслед за “архаистами” и предполагает перерождение языка элиты. Пафос этого перерождения прямо противоположен ломоносовско-пушкинскому, при этом оно не вполне совпадает и с позицией “архаистов”. Хлебников исходит из ситуации единого современного русского языка с недоразвитым механизмом самообогащения из внутренней традиции.
Во-первых, Хлебников, в словотворческих аспектах подобно древнерусскому “опрощению” церковнославянского языка,5![]()
Во-вторых, Хлебников не мыслит свое детище как просто поэтический язык, он мыслит его именно как язык культуры и, пусть в отдаленном будущем, язык народа, не говоря уже о “звездном языке”, который не входит сейчас в границы нашего рассуждения.
В-третьих, Хлебников выступает с принципом демонстративной делокализации литературного диалекта — прекращение ориентации на столичный “разговор”, на московское “аканье”. В письме Каменскому в 1910 году поэт напишет: Мы знаем одну только столицу — Россию и две только провинции — Петербург и Москву (Собрание произведении, V, 291).
В-четвертых, еще на самом раннем этапе своего творчества Хлебников отказывается от европейских и прочих заимствовании за исключением личных имен и следует этому “пуризму” весьма настойчиво.
В-пятых, однако, пуризм этот постепенно свелся к бойкоту только европеизмов, в то время как культурно-языковой хлебниковский арсенал обогащается за счет расширения заимствования слов славянского (при несомненном посредничестве церковнославянского языка), азиатского, африканского происхождения.
И ранний, и поздний Хлебников актуализирует абстрактные церковнославянские ядра так, как этого никогда не делал Пушкин: Умерших снов я стал бы современник, / Творя ответы и вопросы ‹...› (Творения, 471). Такие характерные для Хлебникова словосочетания, равно как и схожие с ними новообразования, он считал перспективными в плане выразительности и смысловой оправданности (в плане языковом столько же, сколько в художественном). В отличие от “актуального” Пушкина, дающего язык на завтра, “потенциальный” Хлебников весь в послезавтра и в позавчера, весь упреждающая реакция на новаторство в форме самого этого новаторства, весь “насквозь” авангардист и уже “сквозь” авангард — традиционалист. Поэтому господствующий литературный язык не принял и не мог принять хлебниковской программы. Именно потому, что Хлебников возлагает на язык большие надежды в судьбах человечества, язык и играет в его творчестве определяющую роль. Это пафос возвращения, прорыва вглубь и полета вспять:
Хлебниковская вера меры не может считаться удачно достроенной, а его поэма чисел, коран в числах дописанными. Но многие препятствия пониманию, которые ложатся в связи с этим на пути исследователя, преодолимы потому, что Хлебников не одинок в этом своем мистико-гипостатическом мировоззрении. Он оказывается в родстве с рядом древних традиций: в меньшей степени астрологической (вавилонской, индийской, древнегреческой) в большей — мистико-фаталогической. Вот стихотворная ссылка на эти последние:
Если первая из строф направляет нас в Древний Египет вместе с героями платоновского «Тимея», то вторая является аллюзией на «Откровение Иоанна Богослова», дающего христианам числовой код Антихриста и, соответственно, конца истории. Хлебников же надеется изобрести устройство для поимки судьбы, его прельщает сама возможность жалкого зрелища судьбы, пойманной в мышеловку, испуганно озирающейся на людей (Собрание произведений, V, 144). Многие исследователи Хлебникова видят причину этой мечты только в неприятии войн и катаклизмов. С этим трудно согласиться. Войны, революции являются частными случаями бедствия, “бури” и хаоса рока. Необходимость предотвращать войны, которые в XX веке глобализовались, может быть, самый сильный аргумент за хлебниковскую “веру”, но отнюдь не единственный ее источник. Хлебников — враг хаоса, он стремится построить подобающий мир, основанный на знании судьбы и ее чисел. Представление о таком подобающем мире значит, по Хлебникову, подчинение себя року, а не отрицание его. И хотя на первый взгляд это является чистейшей воды иллюзионизмом, на самом деле, число-слово призвано гармонизировать и упорядочить хаотическое сознание современною человека, жестко обуздать слепой рок внутри человеческого “я”. Хлебников попадает в компанию египетских жрецов, их, как указывает традиция, учеников: Пифагора и позднего Платона — а это, если верить некоторым теперешним историкам философии, компания ультраконсерваторов, реакционеров, стремившихся как раз обуздать хаос человеческой природы, в конце концов, даже и политическими средствами. Мы знаем, что в случае с Платоном и Хлебниковым это были условно-политические средства — Платон так и не реализовал теорию “государства”, созданную в его грандиозных трактатах, Хлебников не пошел дальше Председателя Земного шара и Государства времени, хотя и сотворил ряд фантастичнейших утопических проектов. Даже Пифагор не увидел при жизни расцвета своего политического союза, по сути дела, “партийной” диктатуры в ряде городов Южной Италии. По-видимому, больше повезло жрецам и магам на Ниле и Евфрате, но там их интеллектуальную аристократию (духовную “меритократию”, выражаясь языком современной социологии) уравновешивала жесткая власть монарха, не всегда и не во всем согласного с их научно-религиозным авторитетом. Недаром Хлебникова привлекал образ фараона Эхнатона (Аменхотена IV), радикального религиозного реформатора, совместившего в себе роли царя и священника.
Имеет смысл подробнее остановиться на тех значительных параллелях, которые возникают между Хлебниковым и Пифагором Самосским. При этом важно, что Пифагор и пифагореизм в интересующем нас срезе — одна из труднейших и “темнейших” проблем истории греческой философии и религии, круг стопроцентно точных данных по этой проблеме крайне ограничен, в то время как сомнительной и спорной информации более чем достаточно (это общая черта мистико-гипостатических и фатологических теорий, а также мистики чисел, “всегда тайных”, всегда передаваемых через 3-х лиц и в самом схематичном виде). Тем не менее сумма данных, сообщаемых несколькими древними источниками и упорядочиваемых современными исследователями, достаточна, чтобы восстановить в общих чертах дух мистического учения Пифагора. Почти несомненной является принадлежность пифагореизму учения о переселении душ: „Говорят, он первый заявил, что душа совершает круг неизбежности, чередой облекаясь то в одну, то в другую жизнь”.6![]()
![]()
В 1 листе «Досок судьбы» Хлебников говорит: Я понял, что время построено на ступенях двух и трех, наименьших четных и нечетных чисел. Это дает ему повод увязывать свою теорию с древними суевериями о “чете и нечете”. Из двух последних хлебниковских цитат видно, что в отличие от Пифагора и Евклида у него решающую роль приобретает математическая категория “степени”. Тем не менее, сама основа его числовой философии очень близка пифагорейской. Вот что читаем об этой основе у Аристотеля (Метафизика, 985b 27–98а 20):8![]()
![]()
![]()
Это тем более верно, что Хлебников сознательно осваивает и “обживает” в своих работах религиозно-мифологический опыт более древней, чем пифагорейская, и, вероятно, материнской по отношению к ней традиции. Это судьботворческая в отношении, выражаясь в духе XX века, поту- и посюсторонней экзистенции человека традиция Древнего Египта. Хлебников создает несколько повестей, где фаталогическая теория несистематически развивается вокруг ядра египетской мистики («Ка», «Ка2», «Скуфья скифа») после ознакомления с переводами оригинальных текстов, а также тогдашней египтологией. В центре хлебниковских построений находится субстанция КА. „Судя по текстам, — пишет в своей обзорной статье М. Коростовцев, — у самих египтян сложилось достаточно противоречивое представление о КА. Неудивительно, что и предлагаемые египтологами определения КА весьма многозначны. Так, согласно Г. Масперо, КА было невидимым двойником человека, его точнейшим подобием, которое рождалось и росло вместе с ним. Напротив, немецкий ученый А. Эрман видел в КА некую жизненную силу, таинственную сущность людей. Бесспорно лишь то, что после смерти тела эту тождественную человеку внешне и по существу субстанцию ожидает вечная жизнь в потустороннем мире”.11![]()
Решающая характеристика хлебниковской идеи, на мой взгляд, не мифотворчество, а судьботворчество, такая установка, в которой взаимоуничтожаются и “гасят” друг друга пространство и время, материя и ничто, сходит на нет идеалистическая разведенность первообразов и их отражений. Все это становится возможным пред лицом третьей реальности, некоего обнимающего первоначала (в котором, по Хлебникову, все едино). В центре этого синкретического мироощущения Хлебникова духовный фетишизм числа, мудрого правящего духа. Число Хлебникова и его аритмологические формулы имеют не чисто математическое значение, число рассматривается скорее как структура духа, как организующая форма Промысла. Аристотелевско-кантианские представления о количестве и качестве неизбежно мыслятся преодоленными, отношение между различными качествами сводится к законам числа и счета. Ответы на вопрос “как” и на вопрос “сколько” оказываются лишь разными масштабами одной и той же действительности.
Числословесный уровень хлебниковского традиционализма органично входил в целое его творчества, он был призван объяснить в хлебниковском языке и образе многое, что без него объяснить не удалось бы. Элементы разных уровней равноправно включаются в дихотомическую систему хлебниковского мировоззрения и вступают друг с другом в связи, неожиданно комментирующие как каждый конкретный член оппозиций, так и всю систему в целом.
Теория судьбы Хлебникова, высшее проявление его мировоззрения, складывалась на основе обнаружения совпадающих, повторяющихся точек во времени личной человеческой жизни, в истории и судьбах мира. Эти совпадающие точки времени суть сверх-контекстуальные фокусы смыслопорождения, места транзитивной сведенности миров, встречи преданий, возникновения объемного, бинокулярного зрения разномасштабных уровней реальности. Говоря фигурально, Хлебников противопоставил “нормально” ориентированный взгляд “одноглазию” субъективизма и “косоглазию” идеализма. Не мифо-, а судьбо-творческий заряд хлебниковского мировоззрения обусловлен верою в событийность в духе, то есть в преодоление прямолинейного аспекта времени, в абсолютное время, которое помогает не нарушать на земле смысловых связей природы и истории, выстраивать здесь модели подобающего мира, обуздывать хаос рока внутри человеческого “я”. Поиск Хлебниковым гармонического сочетания традиций, попытка дать законы земного обустройства всемирного Промысла роднит его с русским средневековым и фольклорным сознанием, с представителями многих древних традиций, с основным пафосом мирового традиционализма.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 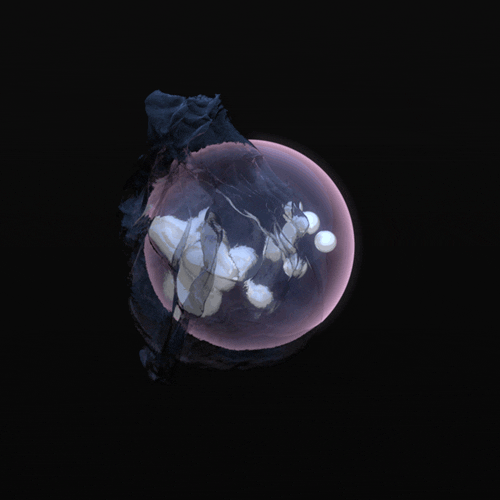 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||