

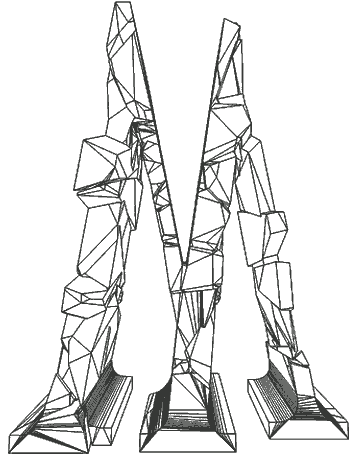 етодология современного хлебниковедения не случайно определяет наиболее верный ориентир в изучении творчества поэта: занимаясь любым вопросом его наследия, привлекать разные тексты, вне зависимости от жанра, степени завершённости, тематического ряда. Только при таком методе широких и открытых контекстов выявляются содержательные аспекты хлебниковского мифологизирования, неумолимо ассимилирующего и преображающего на свой лад материалы и приёмы науки, искусства, непосредственной реальности.1
етодология современного хлебниковедения не случайно определяет наиболее верный ориентир в изучении творчества поэта: занимаясь любым вопросом его наследия, привлекать разные тексты, вне зависимости от жанра, степени завершённости, тематического ряда. Только при таком методе широких и открытых контекстов выявляются содержательные аспекты хлебниковского мифологизирования, неумолимо ассимилирующего и преображающего на свой лад материалы и приёмы науки, искусства, непосредственной реальности.1То, что имеет отношение к “историософии” Хлебникова, заключено не только в его статьях и работах собственно научной ориентации («Учитель и ученик», «Наша основа», «Доски судьбы») или в исторических по теме поэмах (строевых единицах его сверхповестей), но и в кажущихся стилистически независимыми стихотворных фрагментах, в заметках литературно-полемического характера, в частных письмах и дневниковых — без начала и без конца — записях на случай, впрок...
Одни и те же поэтические мотивы и образы, ключевые слова и тематические ситуации можно наблюдать в этих разнокалиберных и разнодатируемых текстах. Причём какая-нибудь совершенно тёмная деталь в, вероятно, законченной вещи получает свое объяснение в отрывке, не имеющем с предыдущим произведением явной тематической или стилистической связи.
При эллиптическом характере хлебниковского творчества собрания его произведений сами по себе являются своеобразными автокомментариями: одна вещь отсылает к другой, один текст проясняет нечто в другом.
Но это только подчёркивает необходимость тщательного и глубокого литературоведческого комментария, который должен выявить генезис хлебниковских идей и мотивов (исторического характера, в частности).
Например, о славянских настроениях и построениях Хлебникова написано немало; собран интересный биографический и творческий материал, сделавший тему как бы самоочевидной.2![]()
Как общая посылка, справедливо замечание, что „Хлебников очень рано преодолел европоцентризм, господствовавший в исторических воззрениях его современников”.3![]()
Объясняя смысл своих научно-исторических штудий, Хлебников называл мыслителей прошлого, предвидевших победу числа над словом как способ познания законов человеческого развития. Современное хлебниковедение значительно продвинулось вперёд, интерпретируя научный контекст идей Председателя земного шара.4![]()
Но с этой точки зрения остаётся неисследованной русская литература XIX века, проявлявшая интерес к выявлению всеобщих законов мирового развития, к проблеме объективного (даже математического) выражения этих законов.
При всей оригинальности своего мышления Хлебников как поэт и философ родился и развивался не в культурной изоляции. И его перекличка с классическими цивилизациями прошлого была бы невозможна вне атмосферы противоречий и тенденций современной, близкой ему, культуры.
Очень важно за далёкими, самим поэтом названными предшественниками (Пифагор, Будда, Мэн-цзы) увидеть явления (лица) непосредственно близкого к Хлебникову культурного круга. Кстати и понять, почему этот ближний план он если не игнорирует, то по большей части сознательно не называет.
В век книг
Воскликнул я:
„Мы только зверям
Верим!”
(НП: 205)
Главная тема размышлений и исследований Хлебникова — время (в противоположность пространству неосвоенная, неосознанная сфера человеческого бытия).
Хлебников называет себя времяпашцем, времямазом, королём времени: таким я уйду в века — открывшим законы времени (V: 304).
Зверь наряду с числом — образы (или координатные параметры) времени.
Наибольший ток возможен при наибольшей разнице напряжений, а оно достигается шагом вперёд (число) и шагом назад (зверь), — так Хлебников определяет общий энергийный принцип времени в историософской работе «Время мера мира» (Пг. 1916, с. 13).
Символическое изображение мировой истории как некоего маятника находим в стихотворении «Зверь + число» (1915).5![]()
Хлебниковский зверь не есть ли своеобразная парафраза “дионисийства” Ницше как спонтанно-буйного начала жизни? Соответственно число не сопрягается ли с “аполлонизмом”, то есть с противоположным по смыслу мировым началом — логически членящим, интеллектуально-упорядочивающим? Сюжетное ядро некоторых его поэм («Гибель Атлантиды», «Поэт») представляет собой композиционное напряжение двух этих онтологических начал.
Как бы в согласии с циклическим круговращением Земли в некоей точке солнцеворота происходят смены исторических периодов, характерных преобладанием то язычески-цельного, стихийного восприятия мира, то рассудочно-научной дезинтеграции.6![]()
В черновой записи Хлебникова начала 20-х годов «Что я изучил» (V: 274) на первом месте — звери, потом числа и азбука.
Звери интересовали и волновали Хлебникова в своём реальном, физическом обличье. В первой его юношеской декларации 1904 г. читаем: Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга упала на многие благородные животные виды (НП: 318). Библейская реминисценция проглядывает и на одной из последних его страниц 1922 г.:
Хлебников верил в лечебную силу, исходящую от зверей. Отсюда его прекрасный образ: глаз зверя больше значит, чем груда прочтённых книг.
«Зверинец», откуда взята эта фраза, — классическая вещь, завораживающая и наглядно-объективная образность которой, кажется, доступна всем, хотя строки о видах и верах предупреждают, что за поэтическим изображением зоосада кроется какой-то глубинный, “метафизический”, смысл, распространяющийся на каждую деталь и всю картину в целом.
Отчасти однолинейное, облегчённое восприятие хлебниковского шедевра объяснимо отсылкой его известным критическим комментарием к «Песни о себе» У. Уитмена с характерным для американского поэта пафосом описательной и бесконечной перечислительности:
Этот текст, действительно, напоминает «Зверинец», хотя Хлебников не “пародировал” Уитмена, как сказал, заметив это сходство, К. Чуковский в 1913 г., и едва ли в буквальном смысле „подражал” ему (комментарий Н. Харджиева — НП: 454).
Хлебников, как известно, решительно утверждал творческую независимость своей вещи. Другое дело, что он знал и любил Уитмена, и предложенная параллель безусловно имеет литературную значимость. И если “живописная образность” «Зверинца» чисто хлебниковская, выходящая за пределы поэтики Уитмена,7![]()
Герцен, которого около 1905 г. стали открыто печатать в России, — чтение для молодёжи того времени новое и захватывающее. (Арестованный за участие в студенческой демонстрации в ноябре 1903 г., Хлебников писал родным из тюрьмы: Я недавно занялся рисованием на стене и срисовал из «Жизни» портрет Герцена.9![]()
Любопытно, что отрывок из этой главы (о П.Я. Чаадаеве) был включён в книгу «Философские письма П. Чаадаева», изданную в Казани в 1906 г. Редактировал издание приват-доцент естественного факультета Казанского университета В. Ивановский; французские тексты перевёл соученик Хлебникова по гимназии Б. Денике.
И если у Герцена „свирепствовал за Москву” К. Аксаков, то Хлебников как бы в тон „передовому бойцу славянофильства” (С. Венгерову) семьдесят лет спустя клянётся, что будетляне будут свирепствовать, как новая оспа, пока вы не будете похожи на нас, как две капли воды (V: 187). И если „замороженными” были колкости Чаадаева, то и “славянские чувства” студента Хлебникова заморожены петербургским сквозняком, о чём сообщает он матери (V: 284).
Но самый важный и самый ожидаемый в данном случае вопрос — где же здесь звери? Зверей у Герцена, действительно, нет, но весь этот пассаж о московских гостиных, сочетающий ностальгическую патетику воспоминаний с тонкой иронией свидетеля и участника подобных сборищ, несомненно, вызывает представление о своеобразном аттракционе или кунсткамере, нечто специально подобранное напоказ, собрание диковин (каким является, в частности, и зверинец).
Для Хлебникова идея метафорической соотнесённости людей с животными очень естественна. Поэтому и герценовское описание он мог воспринимать в подобном ключе (имея в виду и другие ассоциативно сходные, литературные примеры10![]()
Спектр зоологических уподоблений у Хлебникова чрезвычайно разнообразен. От насекомого Ремизова (V: 179) до alter ego — бабочки («Мне, бабочке, залетевшей в комнату человеческой жизни» — III: 324). От уличных толп людей — кроликов («Ка», «Письмо двум японцам» — V: 156) до белых зверей — оленей (в «Ночном обыске» белогвардейцы, за которыми охотятся матросы — I: 265).
Подобными уподоблениями, так сказать, прошит весь текст «Зверинца»: в обитателях зоосада проглядывают лики исторических деятелей (Иван Грозный), современных мыслителей (Ницше, Иванов), литературных героев („старосветские помещики” Гоголя). Более того, животные виды напоминают о человеческих расах (монголы) и вероисповеданиях (буддизм, ислам).
В символическом аспекте «Зверинца» есть несомненная связь с жанром средневековых “бестиариев”, восходящих к известному на Руси с киевского периода раннехристианскому сборнику рассказов о животных и растениях — «Физиолог». Традицию зоолого-мистической экзегезы — самую существенную особенность этой аллегорической литературы — Хлебников трансформирует для выражения своей точки зрения на причину и смысл культурно-этнического разнообразия человечества: ‹...› на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога (НП: 286), иначе говоря — на свете потому так много культур и народов, что они имеют свою телеологию, свою предустановленную цель.
Логическая основа такого восприятия мира — возникшее на почве славянофильства учение о культурно-исторических типах. Полнее всего оно выражено в книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», содержание которой, несмотря на заголовок и подзаголовок — «Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» — шире обозначенной оппозиции и претендует на философский универсализм.
Исходный тезис книги — нетождественность цивилизации европейской с общечеловеческой, а главный вывод — наличие разных цивилизаций во всемирной истории, ни одна из которых не может представлять высшую точку развития.
Естественник по образованию, Н.Я. Данилевский свою историософию сопрягает с картиной растительного и животного мира. Ход его рассуждений: ни одна ботаническая форма не осуществляет наилучшим образом идею растения. В животном мире то же самое. Человек не есть высшее осуществление идеи животного. Во многих случаях он стоит ниже других видов — хуже, чем рыба, передвигается в воде, хуже, чем лошадь, по земле и т.д.
Поскольку эволюционной непрерывности видов не существует, морфологические явления, по Данилевскому, представляют неизменяемые и не приводимые к общему знаменателю, разные по происхождению “типы”. Если это верно для растительного и животного мира (Данилевский антидарвинист, как и его последователь Н.Н. Страхов, также зоолог по образованию), то верно и для человечества:
В образно-поэтическом мышлении Хлебникова эта борьба с очевидностями позитивизма XIX века (характерно — по ассоциации — название культурологической работы Н.Н. Страхова — «Борьба с Западом в нашей литературе», 1882) предстаёт как героическое преодоление господствующих научных стереотипов и выход в иное — “до” и “пост” — научное сознание: Пусть на могильной плите прочтут: он боролся с видом и сорвал с себя его тягу. Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за распространение на благородные животные виды заповеди и ее действия „люби ближнего, как самого себя” (НП: 318). Так начинается первая декларация Хлебникова, из которой уже цитировались слова про стяг галилейской любви.
В «Зверинце», через пять лет после этой декларации, антипозитивизм приобретает форму своеобразного тотемизма:
Представляет несомненный интерес (и ждёт своего полного выяснения) тот путь, по которому Хлебников пришёл к этой метафизической высоте. По крайней мере, небезразличны к этому вопросу нижеследующие рассуждения знатока старинной псовой охоты А.С. Хомякова о соотношении собачьих пород с культурными регионами человечества:
В символической картине мира, созданной цепью животных метафор «Зверинца», представлена, разумеется, и Россия. Это стержневая и эмоционально наиболее насыщенная тема произведения, где мы сжимаем руку, как если бы в ней был меч, и шепчем клятву: отстоять русскую породу ценой жизни, ценой смерти, ценой всего (НП: 285). Русская порода олицетворена в «Зверинце» орлом (или равноправной ему по царственности птицей — соколом). Только однажды этот мотив воинской доблести и гордой устремлённости к небу уступает место понурому, предвещающему беду нетопырю (летучая мышь) — речь идет о сердце современного русского.
Современные русские ходят по саду, среди зверей, насупившись и сумные. А немцы цветут здоровьем (НП: 285).
Цветущие немцы в зоосад ходят пить пиво, и в этой бытовой подробности соприкосновения двух пород — тоска Хлебникова по национальному здоровью, по орлиному клёкоту, по праву на самовитый творческий рык:
‘Рыкать’, ‘тыкать’ — всё это „крепкие, дебелые слова русского языка”, которые в своё время архаист А.С. Шишков призывал помещать в высоком слоге, но которые символистами были изгнаны из литературы:
Русская порода в «Зверинце» так же противопоставлена немцам, как и монголам. Незаживающий след от войны с Японией (момент резкого перелома в умонастроении казанского студента Виктора Хлебникова) диктует образ какой-то единой породы, угрожающей русским с востока (отзвук жёлтого „панмонголизма” В. Соловьёва): Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур (НП: 287).
«Зверинец» — модель мира, разделённого на сосуществующие, но онтологически не слиянные виды (веры | породы; по Данилевскому — „культурно-исторические типы”).
«Зверинец» — мощная поэтическая концентрация идей и настроений раннего Хлебникова, в числе важнейших целей своей жизни назвавшего открытие загадочного славяния (НП: 318) — не то элемента в таблицу Менделеева, не то генетического ядра чаемой культурно-этнической общности.
Говоря о “раннем Хлебникове”, мы прежде всего имеем в виду этот строгий и устойчивый круг “славянских чувств”. По интенсивности их и прямоте выражения более всего связана со «Зверинцем» рождественская сказка «Снежимочка», написанная несколько раньше, в конце 1908 г.
В ней не только собран букет улично-популистских лозунгов верности „славянским одеждам” и „русскому обычаю”, но и прямо брошен дерзко-ироничный вызов интеллигентскому либерализму (“мракобес” Ховун предупреждает прохожего чужака: Мы, барин, тёмные люди черной сотни, у самой Снежимочки — черносотенные глаза13![]()
Представление о Хлебникове как о чистом визионере ещё сравнительно недавно считалось критической аксиомой. Вот типичный пример такого взгляда:
Однако вот достаточно красноречивый фрагмент из того же «Зверинца»: Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих! (IV: 30). Он говорит о том, что в злободневных после 1905 г. спорах о государственном устройстве России молодой поэт разбирался и занимал позицию „скорее справа, чем слева”.
Отсюда сопоставление “жвачных” и “хищников”, в частности буддийского верблюда и исламского тигра. (В целом у Хлебникова элементов ислама заметно больше, чем элементов буддизма, хотя всё это надо смотреть в эволюции творчества. Ещё меньше — христианства. В одном из вариантов «Снежимочки» на вопрос о вероисповедании героиня отвечает: Я — лесная (НП: 396). Коран упоминается Хлебниковым чаще Евангелия. Магомет и Будда — чаще Христа.)
Отметим кстати, что обычно в публикациях «Зверинца» абзац о жвачных кончается словом страны и тем самым обессмысливается.
Выход в более широкую сферу исторического понимания России находим мы у Хлебникова после «Зверинца», с начала следующего десятилетия. Русские не только славяне15![]()
Стихотворение 1920 г. «Единая книга» — другой крайний полюс хлебниковского историко-поэтического маятника. (Нелишне заметить, что в этих крайностях полюсов есть своя очень сложная диалектическая взаимосвязь.)
В 20-е годы, утверждая историческое единство мировой культуры, Хлебников не забывал русскую дедину (III: 298), то есть древность, особость, своеобразие. Точно так же и в начальный период поиска славяния кругозор его не был замкнут границами государственно-этнографических интересов.
Доминантные идеи Хлебникова прослеживаются непрерывными линиями развития через всю его творческую биографию. Но это именно развитие, смещение и переосмысливание важных идейно-содержательных акцентов.
Теперь обратимся к началу второго десятилетия века — срединному периоду творческой работы Хлебникова.
Отечество — ты серый тигр.
(НП: 428)
Обращает на себя внимание тигр, заменивший ожидаемого здесь орла. Необычна и окраска зверя — может быть, это особая сибирская порода — бабр.16![]()
Хотя в хлебниковском словоупотреблении два разных названия данного вида вполне синонимичны, лексическое предпочтение отдано все же иностранцу (редкий случай!). В чрезвычайно важном для Хлебникова слове тигр — образ верности и мужского достоинства. Современное, приветствуемое Хлебниковым искусство — это ляля на тигре (сочетание женственности и воинской отваги). Зверем в жёлтой рубашке (НП: 370), то есть тигром, назван Маяковский — самое впечатляющее для Хлебникова явление современной поэтической стихии.
Но не забудем, что тигр олицетворяет ислам и вообще мир мусульманства. И если русские не только славяне, то, как сказано в поэме «Хаджи-Тархан» (1912):
«Песнь мне» — первый поэтический текст Хлебникова, в котором Россия — разноязычный кровей стан — предстаёт сложным напластованием исторических, географических, этнических реалий:
Впервые упомянуты в этом тексте орочи, и дан как бы эскизный план «Детей Выдры» (общеазийское сознание в песнях, как определил Хлебников целевую установку своей первой сверхповести — II: 7).17![]()
Культурологическая позиция Хлебникова в начале 10-х годов (после «Зверинца») — противостояние России Западу в теснейшем союзе с Востоком. Это не тактическая комбинация, выгодная или вынужденная в силу определённого расклада мировых политических сил; это утверждение естественной материково-азийской сущности России.
Здесь и дальше цитируется статья «Западный друг»,18![]()
Ожидаемое нарушение европейского мира вызывает в воображении Хлебникова парадоксальное сопоставление:
Призыв К. Леонтьева „подморозить Россию”,19![]()
Материализуя языковую метафору в образ холодного северного моря и плавающих по нему ледяных гор, Хлебников выводит леонтьевский императив из контекста ежедневно-газетных интересов и настроений в грандиозный план мифологизирования исторических закономерностей. Само же обращение к К. Леонтьеву отнюдь не случайно. Хлебников, наряду со многими людьми своего поколения, испытывал влияние ферментирующих идей этого одинокого мыслителя, обречённого на одиозную славу ретрограда.
С начала века стали переиздаваться и комментироваться работы К. Леонтьева, при жизни автора печатавшиеся в разрозненных и малодоступных изданиях.
К. Леонтьев, врач по профессии, никогда не называл себя публицистом, тем более философом, но “художником мысли”. (К художникам мысли относил себя и В. Хлебников — V: 217). Единственно общим критерием для всех явлений объективного мира К. Леонтьев считал эстетический. Научная теория теряла в его глазах признак объективности, если она не была художественна, то есть органична.
Вот характерная эстетическая декларация Леонтьева:
Так называемый “аморализм” К. Леонтьева заключался в его скептицизме относительно возможности всеобщего равенства, в жёстком отрицании этики, признающей единственным источником нравственности человека стремление его к счастью. По К. Леонтьеву, в мире нет равенства, а есть разнообразие; человек не добр и не зол, а своеобразен. Отсюда мечта о жизни прекрасной — как богатой множеством неординарных общественных структур и неординарных же форм выявления индивидуальной выразительности. Вот предельно ясное культурологическое кредо К. Леонтьева, обращенное к широкой публике:
Как это ни странно, но наиболее близким себе по духу русским писателем охранитель К. Леонтьев считал революционера Герцена, страстно отвергавшего торгашеский и антихудожественный строй жизни буржуазной Европы и уверовавшего в русскую крестьянскую общину как в идеал социальной организации. „У Герцена все, что касается политики — бредни, но все, что касается жизни — прекрасно” (Л., 6, с. 159). Буржуа везде одинаков — во Франции, в Германии, в России — считал К. Леонтьев. В России он, пожалуй, хуже всего как бессмысленный разрушитель исторической базы и у себя, и у других. Что можно противопоставить этой нигилистической тенденции к среднему уровню, к европейскому стандарту? Конечно, своеобразие всех уровней и ячеек общественной жизни — государственной, духовной, социальной, художественной, что в сочетании и являет собой тип национальной культуры. Но все великие нации — продукт племенных скрещиваний, сложные организмы по составу крови, по особенностям быта составляющих ее этнографических, сословных, религиозных групп. Поскольку в России всё это ещё наглядно и живо, то на этом, по К. Леонтьеву, и следует основывать сознательное национально-культурное творчество. Астраханские мусульмане и буддисты, староверы и скопцы, татары и черкесы, ясные и явные своей индивидуальностью инородцы и иноверцы для крепости и своеобразия русской культуры важнее тривиального всеуравнивающего либерализма. Под их воздействием, прямым или косвенным, и можно создать свою органическую цивилизацию. К. Леонтьев призывает не бояться союза и смешения с турецкими, индийскими, китайскими началами.
Очень понятна становится оппозиция К. Леонтьева традиционному славянофильству: для него важна оригинальность русской или, как он её иногда называет, „ново-восточной” (Л., 6, с. 67) культуры, а не политическое объединение всех славян.
„Мы, загадочные славяно-туранцы” (Л., 6, с. 77) — формула К. Леонтьева того же историко-метафорического характера, что и хлебниковская Волга — река индоруссов (II: 7).
Леонтьевское историческое прогнозирование своеобразно преломлено в будетлянской идее Хлебникова 1918 г.:
Живому художественному чувству К. Леонтьева, который был плодовитым беллетристом этнографического толка, более всего говорили картины патриархального быта балканских народов, в частности, элементы византизма и мусульманства. К. Леонтьев с глубоким интересом писал о сербах, греках, албанцах, турках и босняках, любуясь их одеждой, обычаями, песнями и танцами. За покровом экзотики он старался разглядеть и понять психологические основы их духовной жизни, нравственности, семейных отношений.
Для прозы Хлебникова характерна та же привязанность к поэтически яркому, выразительному материалу. У него почти нет живой великорусской деревни, но есть Украина в романтически-гоголевском преломлении («Велик-день», «Жители гор»), черногорская Сербия («Закалённое сердце»), степное кочевье («Охотник Уса-Гали»), волжское понизовье («Николай») и начинающийся отсюда, через Астрахань, путь в страну, где люди и боги вместе — в Индию («Есир»).
Можно проследить множество параллельных мотивов у Хлебникова и у К. Леонтьева: тематических аналогий, ключевых слов и образов, общего эмоционального тона. Например, хлебниковское уважение к инородцам (НП: 334). Интерес к Византии (легендарный славянин Управда на императорском престоле как напоминание прав русских на Царь-град21![]()
“Леонтьевское” в Хлебникове, конечно, не просто заимствованное из первоисточника. Как творческий импульс и как мироощущение оно имеет много опосредований. В этом отношении нелишний пример — В. Розанов, чрезвычайно ценивший Леонтьева и для Хлебникова явно небезразличный.
Поименное отрицание современной литературы в «Учителе и ученике» буквально связано со статьей В. Розанова «Не верьте беллетристам» (газ. «Новое время», 5 янв. 1911 г.); В. Розанов поддерживал эстетическое неприятие К. Леонтьевым натурализма и „разоблачения жизни” в текущей русской прозе.
Парадоксальная фраза Хлебникова Мы знаем одну только столицу Россию и две только провинции Москву и Петербург (V: 297), которая нарушает традиционную дилемму в спорах славянофилов и западников, навеяна, возможно, розановскими комментариями к письмам К. Леонтьева.22![]()
В. Розанов первый сравнил К. Леонтьева с Ф. Ницше, подчеркнув их поразительную схожесть:
“Леонтьевское” в Хлебникове зачастую манифестировано этим европейским „властителем дум эпохи” (сам К. Леонтьев в своём затворничестве и мечтать не мог о такой популярности).
Ницше закономерно положителен в “антинемецком” «Зверинце». В «Западном друге» сказано: Ницше и Бисмарк сходились в том, что они не немцы.
Ф. Ницше действительно числил в своих предках славян, а Бисмарк не раз с высоким уважением отзывался о России. Главное, однако, в том. что Ницше был одним из первым европейцев, подвергших сомнению европоцентризм, обративших свой взгляд на великие восточные культуры.
Ритмизованная, пророческая по духу и по манере проза Ницше («Так говорил Заратустра») чувствуется в стилистике «Зангези» и некоторых других вещей Хлебникова.
В стихотворении Хлебникова «Дерево» (1921): И каждое утро шумит в лесу Ницше. И далее: Звёзды — даже вон те / Говорили всю ночь о белокуром скоте (НП: 278). Из отброшенных строк стихотворения: Дереву нравы дал зверь белокурый (НП: 452).
И белокурый скот, и белокурый зверь восходят к более привычной для нас форме ницшеанского образа — „белокурая бестия” (в буквальном смысле — ‘зверь’).
К. Леонтьев немецкого философа не знал. О другом великом германце он писал неоднократно:
Ортодоксальное православие К. Леонтьева часто ставится под сомнение исследователями его творчества. Во всяком случае, “ницшеанство” К. Леонтьева — это отрицание христианской кротости и смирения во имя героизма и красоты личного поступка, испытания судьбы.
Храбрый Хлебников (II: 178), воин не наступившего царства (V: 187), дерзко прославляющий (в противовес современной русской литературе, но заодно с народной песней) военный подвиг и войну (V: 181), знает, что его задача величественна и сурова: чем ответить на опасность родиться мужчиной, как не похищением времени ? (V: 152).
То, что Хлебников считал своим героическим деянием — осада времени, иначе — раскрытие законов истории, имеет непосредственную связь с К. Леонтьевым.
В день Ивана Купала я нашёл свой папоротник —
правило падения государств.
(V: 179)
Последняя, прижизненная, публикация Хлебникова — «Доски судьбы» (1922) — о законах времени, о возможности предвидения мировых событий. Вошёл он в литературу с этой же темой; по крайней мере, о своём папоротнике Хлебников заявил в первом авторском издании — «Учитель и ученик» (1912).
Кончается эта вещь вопросом учителя: Но что за книга у тебя на коленях? — Крижанич, — отвечает ученик, — я люблю говорить с мёртвыми (V: 182).
Если бы “величественный” хлебниковский эзотеризм уступил в данном случае место конкретной литературной отсылке, то в заключительной реплике ученика возможно был бы назван Леонтьев. В главной работе К. Леонтьева «Византизм и славянство» (1876) есть раздел «О долговечности государств» — то, что Хлебников, по всей вероятности, знал, и что представляет чрезвычайный интерес для нашей темы.
Суть леонтьевской концепции такова. Как всё в органической жизни, любая социально-культурная структура совершает постепенный и неукоснительный ход развития: всё сначала просто, потом сложнее, потом вторично упрощается и разлагается.
Высоко оценив теорию Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах, К. Леонтьев особо акцентирует значение естественно-научного её обоснования. Самым важным в своём подходе к проблеме К. Леонтьев называет гипотезу „вторичного смесительного упрощения”. Общественный организм (государство в данном случае) переживает период своего расцвета, когда наличествует социально-морфологическая дифференциация различных составляющих его групп, „осторожно подвижных” в сложной иерархической структуре. Однообразие воспитания, вкусов, прав, обязанностей, сглаживание различий, всё, что ведёт к внешнему усреднению общества, — это и есть процесс вторичного упрощения или предсмертного смешения. Отсюда и практическая рекомендация К. Леонтьева о спасительном „подмораживании”. В России ещё наличествует положительная “сложность”, и стабилизировать это состояние можно путём уменьшения чрезмерной „подвижности” разных групп и частей государства.
Открытый Н.Я. Данилевским славянский тип как оригинальная культурная общность имеет, согласно К. Леонтьеву, византийскую основу (православие, идея самодержавия, традиции литературы, изобразительного искусства). Византизм (который Н.Я. Данилевский, по словам К. Леонтьева, „просмотрел”) культурно осложнил славяно-русскую органику. Но если греческое влияние имело такое основополагающее значение в прошлом, то в настоящем и будущем существование и упрочение так называемого “нововосточного” культурного типа определено в значительной мере влияниями азиатскими.
Для К. Леонтьева существенно и положительно всё, что, отделяя Россию от Европы, придаёт ей самобытную оригинальность. Для К. Леонтьева границы культуры и религии не совпадают. Не был он ни расистом, ни националистом, но государственником par exellence. Далёкие и широкие культурно-морфологические аналогии необходимы К. Леонтьеву для обоснования своего взгляда на природу будущности русской государственности.
Раздел книги «Византизм и славянство» — «О долговечности государств»— представляет собой комментированную хронологическую сводку об известных государствах древнего и нового мира. Вывод из этих наблюдений: как любая органическая структура, государство имеет своё начало и свой конец; присущий ему жизненный цикл разворачивается на временнóм отрезке продолжительностью 1000–1200 лет.
(В связи с этим ещё одна, последняя, цитата из «Западного друга»: С правильностью цветка Германия пережила два расцвета. ‹...› Есть признаки, указывающие, что кончился немецкий век и начался славянский. — Здесь впечатляюща внутренняя ассоциативная связь образа Хлебникова с леонтьевской идеей.)
Но какова продолжительность русской истории? О тысячелетии России, времени наступления второго смесительного упрощения К. Леонтьев писал в «Византизме и славянстве». С годами нарастал его пессимизм относительно будущего страны, которая, по его слову, находится у какого-то „страшного предела”.
Единственная положительная эмоция в этих тревожных размышлениях, что близится конец Руси „петровской, петербургской”:
Помня Хлебникова, но говоря по духу и по букве К. Леонтьева: когда умирает государство, не происходит ли „предсмертный процесс смешения сложного во имя какой-нибудь новой простоты идеала?” (Л., 6, с. 52).
В основе известного четверостишия Хлебникова об умирании («Когда умирают кони — дышат») — гераклитовская идея диалектического единства живого и мёртвого. Древнегреческий философ говорил, что „жизнь одних есть смерть других. Смертные — бессмертны. Огонь живёт смертью земли, воздух живёт смертью огня, вода живёт смертью воздуха, земля — смертью воды”.25![]()
В стихотворении Хлебникова песни — не просто гимн во славу умерших. Песни (то есть искусство) — это бессмертие смертных, нечто, живущее смертью людей. Таким образом, хлебниковское четверостишие — это трагическая картина непрерывно становящегося и обновляющегося мира в разных его ипостасях: растительном (травы): животном (кони), человеческом (люди), космическом (солнца). Не подлежит сомнению, что подобного рода поэтическая концепция питалась и размышлениями о формах человеческой общежительности, в частности, о судьбах государств.
В перспективе этих размышлений — «Ладомир», идея Правительства земного шара, мечта о завоевании будетлянами безграничного простора звёздного неба (нечто диалектически противоположное современным государствам, ощетинившимся друг против друга вооруженными границами, возможное только в результате смерти этих государств).
Но это действительно: — в перспективе. В 1912 г. Хлебников думал не так, как в 1920-м. Вспомним «Детей Выдры»:
Н. Степанов (с. 83) объяснил эти стихи Хлебникова как мечты о мировом единстве, хотя смысл их близок концепции К. Леонтьева о смертельности уравнительного однообразия и даже опасности слияния европейских государств в одну федеративную республику.
В эволюции мысли Хлебникова мы видим движение “качелей”: от да-государства к нет-государству. Исходный же момент этих размышлений — тревога за судьбу государства конкретного. Загадочно предсказанная Хлебниковым в 1912 г. дата 1917 рождена предчувствием близкой катастрофы, исчерпанности целого исторического периода.
Хлебников постепенно проникался убеждением, что любое развитие не есть движение прямолинейно-поступательное, что в истории человечества, как и в отдельной человеческой жизни, просматриваются циклы, повторы, чередования (спады и подъёмы) однородных явлений. Отсюда “восточного” происхождения мысли Хлебникова о колесе повторов судеб и событий, о мировых качелях.
То, что К. Леонтьев, по словам В. Розанова, первым в XIX в. осознал нетождественность исторического движения с бесконечно восходящей линией прогресса, делало его понятным и близким Хлебникову. Нет никакой необходимости это влияние преувеличивать. Его следует заметить.
‹...› слова суть лишь слышимые числа нашего бытия:
не потому ли высший суд славобича всегда лежал в науке о числах?
(НП: 312)
Красноречивый пример леонтьевского исторического рассуждения:
„Что бывало” и „чему были сходные примеры” — это и есть идея повторяемости, цикличности, круговращения. А упоминание естественных наук — ориентир на объективность исследовательского инструментария, на поиски законов общественного развития, устраняющих субъективизм сиюминутных программ счастливого устроения человечества.
Предельную объективность познания дают приёмы и методы математики. Самый известный пример математического истолкования истории (точнее — символизации её математическими терминами) дан в эпопее Толстого «Война и мир».
У Хлебникова («Учитель и ученик») находим параллель Л. Толстому, осложнённую стилистикой Ницше:
К. Леонтьев, современник и заинтересованный свидетель дерзкого выпада Толстого против традиционной исторической науки и литературного пуризма, писал:
В Досках судьбы» приводится много примеров закономерности движения и противодвижения человеческих волн (вековой поединок Востока и Запада28![]()
Эмоциональное, побудительное влияние «Войны и мира» на формулирование Хлебниковым законов времени безусловно. Но здесь важно отметить и другое, сопутствующее, обстоятельство. Толстой разрабатывал свою историософию не в одиночестве; по существу, научно-философский отдел эпопеи есть концентрированное выражение идей и настроений целого круга связанных с ним людей. Таким образом, через «Войну и мир» просматривается та историософская тенденция, которая оказалась близка Хлебникову. В необыкновенно богатой по материалу работе Б.М. Эйхенбаума о Толстом в 60-е годы рельефно показан идеологический фон эпохи, на котором возникла загадочная толстовская “самобытность” в истолковании истории. Тогдашней академической науке и демократически-разночинной публицистике, занимавшимся в истории отыскиванием причин событий, противостояла небольшая группа славянофилов-архаистов, делавших упор на разработку законов развития.29![]()
Поскольку книга Б.М. Эйхенбаума с 1931 г. не переиздавалась (а параллель “Хлебников — Толстой” никогда не предлагалась исследователями), имеет смысл напомнить некоторые её положения, прямо относящиеся к нашей теме.
Б.М. Эйхенбаум показывает, что ориентация людей толстовского окружения на математику носила принципиальный, как бы даже “партийный” характер.
Математик по образованию, кн. С.С. Урусов обращается к другу своему Толстому в момент самой интенсивной работы писателя над философскими главами «Войны и мира»:
В другом письме он сообщает об идее их общего знакомого С.А. Юрьева (математика и литератора):
Понятие „дифференциал истории” (т.е. “бесконечно-малые” элементы её) Толстой заимствовал у патриарха “москвитян” профессора М.П. Погодина, вместе с остальной математической символикой и соответствующей ей системой логических доказательств и стилистических особенностей языка.
И Толстой, и Урусов с большим почтением отзывались о Погодине как о своём предшественнике и учителе (один из наших „доморощенных гениев”), обогнавшем современную западную науку. Любопытно, что в письме 1868 г. Толстой делится с маститым историком-славистом своими горестными размышлениями о современном состоянии просвещения и своими планами издания журнала «Несовременник»:
Хлебниковская “несовременность” (иронически выраженная в готовности обучать лошадей, поскольку сегодня нет человеческой аудитории, заинтересованной в его идеях, — НП: 395), хлебниковская ориентация на математику и числовое выражение законов истории; хлебниковское желание найти бесконечно-малые художественного слова (II: 10) как использование дифференциального анализа в драматическом творчестве — всё это, конечно, аналог настроениям и устремлениям толстовского окружения.
Примеров сходства, иногда почти буквального, можно привести немало, хотя видеть в каждом таком случае непосредственную генетическую связь не приходится (скажем, писем Урусова к Толстому Хлебников явно не читал). Но если Хлебников упоминает (в статье «Закон поколений») таких русских военных историков, как Н.М. Сипягин и Ф.Ф. Веселаго, законно предположить его знание Урусова — автора книг о двух войнах: Крымской 1854 года и Отечественной 1812 года.
Вот небольшой монтаж цитат из второй работы друга Толстого:
В 1870 г. в нескольких номерах газеты «Московские ведомости» Урусов помещал краткие комментарии относительно начавшейся франко-прусской войны. „Законы войн я называю объективными (роковыми), — писал он в №173, 12 августа, — то есть такими, которые от воли человеческой не зависят”. В заметках Урусова не было ни уравнений, ни вообще каких-либо числовых расчётов. Это были стратегические прогнозы, основанные на сближении сходных ситуаций в трёх войнах: 1812, 1855, 1870 годов.
При всем различии в методах конечная цель Урусова (предопределить ход военных действий) идентична с хлебниковским желанием издать расписание морских боёв с их исходом для тех и других враждующих сторон (НП: 378 — письмо к М. Матюшину, представляющее комментарий к книге «Новое учение о войне»).
Теперь небольшой монтаж цитат из статьи Хлебникова 1919 г. «Наша основа» (раздел «Математическое понимание истории. Гамма будетлянина»):
Свою статью-декларацию Хлебников завершает призывом понять волю звёзд — доски грядущих законов (иначе: «Доски судьбы». — Е.Л.). Путь к их пониманию — Гамма будетлянина, одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца (V: 243). Этот поэтический образ всеединства сущего, принципиальной соотносимости микро- и макромиров напоминает толстовское представление истории, где „существуют линии движения человеческих воль, один конец которых скрывается в неведомом, а на другом конце которых движется в пространстве, во времени и в зависимости от причин сознание свободы людей в настоящем” («Война и мир», эпилог, ч. II, гл. XI).
Ещё раз подчеркнём, что дело не в доказательстве знакомства поэта с той или иной работой Урусова и Погодина, которые как бы растворены в Толстом — домашнем чтении семьи Хлебниковых. Речь идёт о внимании к определённому пласту русской научно-художественной мысли XIX в., об особой традиции философствования на тему истории, захватившей и будетлянина.
Исходя из своей методологии, будетлянин называет дальние точки, тождественные и подобные себе (например, древнего индусского учёного Ариабхатту). Но было бы неверно игнорировать такую “близкую точку” ведантизма, как Вивекананда, влияние идей которого можно проследить в творчестве Хлебникова.33![]()
Точки соседние по хронологии, по культуре — Л. Толстой, К. Леонтьев, Н. Данилевский — в этом смысле очень важны и представительны. Можно и не относиться к историософии Л. Толстого панегирически, понимая всё же, что реальность эпопеи «Война и мир» без неё немыслима.
Ещё бóльшая взаимопроникновенность художественной и научной мысли у Хлебникова. Его поэзия — “научна”, его наука — “поэтична”. Вполне возможно возражение с частицей ‘псевдо’. Но и к Толстому эта частица так же применима. Тем не менее, ‘псевдо’ научные взгляды Толстого изучаются: выясняется их происхождение, их место в общей ткани художественного текста, проявление в них толстовских универсалий.
Что касается Хлебникова, то многим представляется, что даже ‘псевдо’ исторических взглядов у поэта по существу нет, а есть только колонки дат и арифметические подсчёты, не складывающиеся в последовательность научной концепции.
Действительно, о причинах падения государств Хлебников не рассуждает пространно. Так же не рассуждает он о характере русской государственности, не формулирует словесно своё понимание культуры, истории, нации.
Обратимся ещё раз к названию данной статьи и восстановим образный контекст усечённой фразы.
Если законы явлений имеют числовую природу, то и следует пользоваться этими объективностями, не тратя энергии на субъективные слова и экономя чернила.34![]()
В самих этих колонках дат и системах подсчётов есть определённый выбор, последовательность, внутренняя логика. Сегодняшняя задача хлебниковедения — вплотную заняться этими вопросами.
Скажем, если падения государств разделены сроком в 1383 года (365+48·2)3, то следует понять смысл того, почему покорение царства Вандалов в 534 году взято в качестве опорной даты для определения ближайшей государственной катастрофы. На последней странице «Пощёчины общественному вкусу» заключительная строка в выборке дат, напечатанных под заголовком «Взор на 1917 год», выглядит так:
Следует подробно прокомментировать символическое и естественнонаучное (а также натурфилософское) значение опорных для хлебниковских вычислений цифр: 365, 48, 28 (силы и сроки вращения — V: 178). Очень важно представлять, о каких методах и традициях предсказывания событий на основе их повторности и чередований мог знать Хлебников.35![]()
Речь идёт не о прикладной проблеме — как продолжить хлебниковские прогнозы или, может быть, усовершенствовать его методику. Всё это, в конце концов, важно для понимания поэзии Хлебникова. При этом следует твёрдо представлять, что у Хлебникова нет семантически пустых мест; каждый элемент хлебниковских текстов насыщен содержанием, хотя далеко не всё нам понятно даже приблизительно.
Воспользуемся одним известным положением Ю.Н. Тынянова, что каждое явление можно рассматривать с трёх точек зрения. В недалёком прошлом чаще всего смотрели на Хлебникова сверху вниз, видя в нём, главным образом, чудака и формалиста. Теперь всё чаще смотрят на поэта снизу вверх, охотно им восхищаясь, но мало вникая в смысл его идей. Настало время смотреть на Хлебникова вровень, изучая его последовательно и стараясь понять энергию его смысловых молний.36![]()
Этот взгляд на Хлебникова „вровень” предполагает — в немалой мере — детальное изучение многообразных связей его с русской классикой XIX века.
Одна из самых характерных особенностей этой литературы — не просто интерес к истории, но в какой-то мере готовность выполнять её универсальные функции.
Гоголь мечтал об особом поприще, особой миссии великих поэтов, „которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народам”.37![]()
Конечно, единичен подвиг Н.М. Карамзина, который, не обладая соответствующей профессиональной подготовкой, создал многотомную (и впервые не только профессионалами прочитанную) «Историю Государства Российского». Но Пушкин и Гоголь, Тютчев и Одоевский, Толстой и Достоевский, каждый по-своему обогащая литературу опытом своих исторических размышлений, раздвигали традиционно предустановленные рамки “чистой поэзии”. Историзм мышления и широко поставленные задачи человековедения во многом и определяют совершенное своеобразие русской литературы в мировой художественной культуре.
Сама судьба России, её географическая беспредельность, её промежуточное положение между разными цивилизациями, её культурная многослойность, её открытость разным влияниям и её закрытость односторонне-логическому пониманию, прежде всего, и воспитали этот философско-исторический искус русской литературы.
С пушкинской поры как перед загадочным сфинксом, сущность которого надо понять, останавливается русский писатель перед проблемой национального характера. Здесь клубок взаимосвязанных причин и следствий: как влияют на этот искомый характер природно-климатические условия и как, в свою очередь, созидает он структуру общежительных нравов и законов, как сочетаются в нём религиозно-бытовые традиции и культурные запросы времени. За кажущейся абстрактностью проблемы — конкретное, мучительное переживание судьбы личностной как частицы судьбы народной.
„Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние», — так соглашался Пушкин с грустно-отрицающим взглядом Чаадаева на характер русской национальной действительности”. Тут же он замечает: „Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...”38![]()
В этих словах не только патриотический стоицизм, но и констатация сложных, не поддающихся односторонней оценке следствий из всего многообразия исторического опыта своего народа.
Здесь завязь дальнейших размышлений Гоголя, что
Гоголевские «Арабески» — это художественная мысль (воспользуемся уже знакомым словосочетанием К. Леонтьева) о соотношении истории, искусства и национального характера. Творческий потенциал разных эпох и разных народов воплощается в оригинальных формах. Поэтому мировое искусство, по Гоголю, — свидетельство разнообразия и непредсказуемой изобретательности, а не движение по одной дороге к несуществующему и невозможному единому для всех эстетическому идеалу.
Главная болевая проблема русской культуры XIX века — отстаивание национальной самобытности перед очевидной и как бы неизбежной (по-своему благодетельной) европейской нивелировкой. Невозможность и просто пагубность отгораживания от Европы была понятна писателям, не заражённым болезнью ксенофобии.
Но им так же было понятно, что в силу объективных причин самого разного характера не могла Россия быть измерена, тем более построена по среднеевропейскому аршину. Отсюда знаменитая тютчевская максима „умом Россию не понять”, неоднократно поминаемая Хлебниковым.
Хлебников конкретизировал этот „ум” как ограниченность европейского рассудочного интеллекта (европейского исторического опыта, — скажем иначе) и заговорил о необходимости шагнуть за его пределы:
Хлебников обосновывал свою лингво-поэтическую мифологему растущим значением нового материкового (или азийского) сознания. И в этом важном моменте его пророчеств ощутимо подспудное присутствие толстовского ориентализма как критики и неприятия великим писателем эгоизма и ограниченности современной ему европейской науки („новая история поставила свои цели — благо французского, германского, английского (народов. — Е.А.), в самом своём высшем отвлечении, благо цивилизации всего человечества, под которым разумеется обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка” («Война и мир», эпилог, ч. 2, гл. 1). Сходный мотив в книге Н. Данилевского:
Многочисленны противопоставления у Хлебникова материкового сознания полуостровному (Собственно европейская наука сменяется наукой материка. Человек материка выше человека лукоморья и больше видит. — V: 296).
Познание России в мире — главная историческая задача русской литературы XIX века.
Хлебников, писатель XX века, своеобразно осуществивший мечту Гоголя о соединении в одном лице философа, поэта и историка, считал, что одна из тайн творчества—видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа ‹...› (V: 298).
| Персональная страница Е.Р. Арензона на ka2.ru | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||