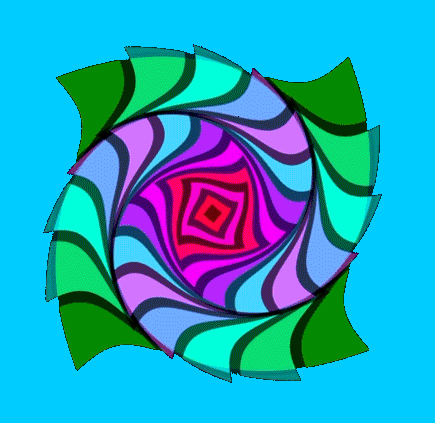Григорий Амелин, Валентина Мордерер
Закон поколений
Людмиле и Катерине Богословским
Когда я отроком постиг закат,
Во мне — я верю — нечто возродилось,
Что где-то в тлен, как семя, обратилось:
Внутри себя открыл я древний клад.
Так ныне, всякий с детства уж богат
Всем, что издревле в праотцах копилось:
Ещё во мне младенца сердце билось,
А был зрелей, чем дед, я во сто крат.
Иван Коневской. Наследие веков
Статью «Закон поколений» Хлебников опубликовал в 1915 году в своей брошюре «Битвы 1915–1917 гг. Новое учение о войне». Основная мысль ее была незамысловата: в борьбе за истинную веру встречаются люди, которых разделяет (по году рождения) 28 лет. Этот арифметический текст — единственное прямое свидетельство непосредственного знакомства Хлебникова с наследием Одоевского, но сейчас речь не об идеях — об именах. Определяющим мерилом личности творца Хлебников безоговорочно признает веру — в высшую судьбу отечества. Хотя вера Одоевского слегка усталая, он такой же священный столп истины, как и суровый Тютчев. Их объединяет цифра 1803 — единый год рождения, предопределивший создание ими вершин величавой веры. Но не только. Роднит их тайна имен. Вот тут-то высокая нота похвалы потомка-Хлебникова дает курьезный сбой, вызывающий недоумение читателя:
Истина разно понимается поколениями. Понимание ея меняется у поколений рожденных через 28 лет ‹...›. Для этого берутся года рождений борцов мыслителей, писателей, духовных вождей народа многих направлений, и сравнивая их, приходишь к выводу, что борются между собой люди рожденные через 28 лет, т.е. что через это число лет истина меняет свой знак и силачи за отвлеченныя начала выступают в борьбу от поколений, разделенных этим временем. Напр‹имер›. Уваров 1786 и Бакунин 1814, Грановский 1813 и Писарев 1841. ‹...›
Не менее странен ряд Каченовский (I), Одоевский, Тютчев (I), Блаватская — 1775, 1803, 1831. Суть этого ряда вершины “величавой веры” и “жалкого неверия” в Русь. Каченовский как ученый противник Карамзина отвергал подлинность киевских летописей и “русскую правду”. Это высшие размеры научного сомнения кем-либо когда-либо проявленные. И Тютчев пришедший через 28 лет во имя священного обуздал рассудок и указал сомнению его место.
Итак не оттого ли Тютчеву присуща высокая вера в высокие судьбы России (известные слова: „умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать — в Россию можно только верить“), что за 28 лет до него жил Каченовский и не к Каченовскому ли обращены эти гневные слова? „У ней особенная стать — в Россию можно только верить“!
Конечно Тютчев и Одоевский должны были родиться в одном году. На это указывает особая более не встречающаяся тайна имен. В этом уходе на остров веры спутником Тютчеву был и Одоевский. Тютчеву и Одоевскому должно быть благодарными за одни их имена. Имена Тютчева и Одоевского может быть самое лучшее что они оставили. Странно что «Белая ночь» звучало бы настолько плохо, насколько хорошо «Белые ночи». Белыми ночами как зовом к северному небу скрыто предсказание на рождение через 28 Бредихина, первого русского изучавшего хвостатые звезды, и брошено указание на родство 2-го знания с звездным.
Блаватская — перенесение предания Тютчева в Индию, а Козлов (1831) дал высший уровень смутной веры. В бегстве от запада Блаватская приходит к священному Гангу. Этот ряд может быть назван рядом угасания сомнения, так как на смену Каченовскому приходят люди, те кто, то — устало как Одоевский, то с оттенком строгого долга как Тютчев, то пылко как Блаватская верят большему и в большее чем средние люди.
V, 428–429
При всей любви к историософской выделке родных шкурок и зверском аппетите к крабовому мясу магических чисел, Хлебников душой болеет все-таки не за них. Вершина северного неба, особенная стать отчизны — ее язык, русское слово. Вера зиждется на нем.
Какова же тайна имен, быть может, лучшее, что оставили после себя Тютчев и Одоевский? Почему Хлебников, уж если он так превозносит последнего, не потрудился правильно назвать его книгу — «Русские ночи», а упорно и ошибочно именует ее «Белыми ночами»? Какое отношение к истории русской словесности имеет астроном Бредихин?
Директор Пулковской обсерватории действительно родился в 1831 году (через 28 лет после Тютчева и Одоевского) и умер в 1904 году. И действительно обогатил науку выдающимися открытиями — развил механическую теорию кометных форм, объяснив все наблюдавшиеся образования кометных хвостов отталкивательной силой Солнца. Он исследовал процесс распада комет и возникновение метеоритных потоков.
«Белые ночи» предсказывают его рождение? Слегка абсурдно, но в этом и кроется тайна имен, поколенческий секрет преемственности, неутомимая жажда Хлебникова проследить цифровые связи и выявить соответствия. Как зовут всех этих спутников, уходящих на остров веры? Федор Иванович Тютчев. Владимир Федорович Одоевский. Федор Александрович Бредихин. И наконец — Федор Михайлович Достоевский. Последний «Белыми ночами» предсказывает рождение Бредихина и чрезвычайно важен как участник синклита, но, увы, подкачал и родился преждевременно — в 1821, через 18, а не 28 положенных лет. Каждый заключает своим именем провиденциальное, божественное начало — ‘Тео-дор’. Подобным образом разлагал и разыгрывал имя Теодора де Банвиля (le divin Théodore de Banville) Малларме в III части своей «Литературной симфонии».
Одежды судьбы шьются именем божьего величия, укрепляют стать страны. Космический Тютчев — грозовые тучи и божественные ливни. С его высот вся земля может казаться погадкой совы, непрожеванным комком, изрыгаемым хищной птицей, “кормом зевесова орла”:
О Тютчев туч! какой загадке,
Плывешь один, вверху внемля?
Какой таинственной погадка
Совы тебе, моя земля? ‹...›
Взор обращен к жестокому Судье.
Там полубоязливо стонут: Бог,
Там шепчут тихо: Гот,
Там стонут кратко: Дье!
(IV, 233–235)
Владеющий миром музыки Одоевский — голос из торжественного хора «Русских ночей», борющихся за «Белые ночи» Достоевского. Бредущий, по завету имени, по небу астроном Бредихин управляет хвостатыми кометами. Он передает свои математические познания потомку Хлебникову, и поэт в образе Зангези, одолев тайну числа, определяет стоимость вселенной. Он стоит на острове, утесе веры, заклиная мир вычислениями:
Я скачу и пляшу на утесе.
Когда пою, мне звезды хлопают в ладоши.
Стою. Стóю! Стойте!
Вперед, шары земные!
Так я, великий, заклинаю множественным числом,
Умножарь земного шара: ковыляй толпами земель,
Земля, кружись комариным роем. Я один, скрестив руки,
Гробизны певцом.
(III, 343–344)
Федор Достоевский — идеальная фигура этой богоподобной стати, именем своим воплощающий идею твердостояния, особого положения художника в мире, полноты и достатка обретенного бытия. Его имя — символ достоинства и пророческой обращенности.
Все так — смена поколений, законы числа, борьба добра и зла, веры и неверия… Но почему нужно быть благодарным за одни только имена? Почему имя — лучшее из того, что остается? ‘Федор’ с греческого — “божий дар”. В коренном составе имени — ‘Дар’ и ‘Бог’. Обладающим даром Божьим. Даром чего? Даром за что? История оборачивается Откровением, личность — сверхличностным бытием, а вопрос веры требует ответа поэтического. Высший дар — имя, слово. Если поначалу Тютчев, Одоевский, Достоевский — точки предельной индивидуации, то объединяющий их теодорический именнослов — точка захвата целого, размыкания на бытие.
В самом имени ‘Достоевский’ — равновесие, устойчивость и прямостояние смысла.1 Но это стать движения, поиска и обретения. Имя отделено от мира, сплочено. Основной признак его — достоинство. Бытие этого имени дано в самозамкнутой и уравновешенной в себе полноте. Поэтому оно исполнено совершенства. Истинность его устанавливается не относительно чего-либо, ему внеположенному, а им самим. Прекрасная цветущая форма. Саморазвертывание вовне плотной бытийственной самососредоточенности.
Но это стать движения, поиска и обретения. Имя отделено от мира, сплочено. Основной признак его — достоинство. Бытие этого имени дано в самозамкнутой и уравновешенной в себе полноте. Поэтому оно исполнено совершенства. Истинность его устанавливается не относительно чего-либо, ему внеположенному, а им самим. Прекрасная цветущая форма. Саморазвертывание вовне плотной бытийственной самососредоточенности.
Звуки крепко и благородно всходят дугою, чтобы плавно и евхаристически низойти и подняться вновь: До–сто–ев–ский. Имя раскрывается в артикуляции, как клейкий листок из почки. Произнесение цельно, звуки пригнаны друг к другу, как створки раковины, имя внутренне богато и гармонично. Но Достоевский всегда на краю всепоглощающей бездны. И никаких разумных оснований рассчитывать на целость нет, потому что всякий раз он бросается в эту бездну с открытыми глазами и в расчете на неминуемую гибель. Когда же этого не случается, спасение сходит ему как чудо и явленная помощь высших сил, неожиданная и благодатная. Федор! И сколько бы ни повторялась эта отдача себя грозной и все же родимой, близкой стихийной бездне, она всегда делается с решимостью окончательной гибели и полного растворения в мировой первооснове. Поэтому сохранение целости всякий раз — милость Божья, незаслуженный дар. Федор — имя не земное, небесное. Даже присваиваясь историческому лицу, оно остается тварным именем духовного мира, мерилом вечности. Это богоподобное имя молниеносной быстроты и непреодолимой крепости — средоточие высших энергий в их осуществлении и посланничестве. Поселяясь в мирской истории, оно остается откровением и, истинно пребывая, не делается здесь своим.
————————
Примечания 1
1 Стояние истинно, истина стояча, согласно набоковскому вслушиванию во внутреннюю форму слова: „Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется (а почему с той же ‘стеной’ не рифмуется? хотя понятно, Набокову позарез нужно, чтоб это слово оставалось единственным и рифменному совокуплению неподвластным. —
Г.А., В.М.). У него нет пары, в русском языке оно стоит одиноко, особняком от других слов, незыблемое, как скала, и лишь смутное сходство с корнем слова ‘стоять’ мерцает в густом блеске этой предвечной громады“ (
Владимир Набоков. Лекции по русской литературе.
М., 1996. С. 224).
Воспроизведено по:
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/filos/pisma/pism_1.html
Изображение заимствовано:
Niki de Saint Phalle, born Catherine-Marie-Agnès Fal de Saint Phalle (1930–2002).
Nana santé (Nana health). 1998.
Collectie ZonMW, Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, Rotterdam.
www.flickr.com/photos/grrrl/3427049849/
‘Nana’ — French slang for female (equivalent to ‘lass’ or ‘chick’). The Nanas are loud, brash and bursting with energy!
The first sculptures were made from cloth, yarn and papier maché over a wire base. Those meant for outdoor settings were made from stronger materials such as polystyrene, plaster and cement, with a metal frame. Niki said, „I dreamt of huge colourful Nanas that could stand outside in the middle of a park or a square — I wanted them to take charge of the world“.


![]()