

Сергею Мазуру
Le canon sur lequel je dois m’abattre à travers la mêlée des arbres et de l’air léger!
Arthur Rimbaud1![]()
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!
Владимир Маяковский
Герой лабиринта, вопреки Ницше, не свою Ариадну ищет, а истину. Пушкинские темы и образы пронизывают текст. Но сведение их воедино не получается. Остается непонятным, почему Пушкин появляется в новой поэтической версии мифа о Минотавре. И если подземный бык с курчавым челом — Пушкин, то с чем связано такое чудовищное превращение? Что это за поединок и почему победа равна поражению? И почему, в конце концов, после своей блистательной виктории герой остается никем невидимым?
Плач над Царским Селом новой Ярославны — по мужу. Убитый Гумилев заговорит устами нового героя. Но сначала о Гумилеве живом, который писал в одном из “жемчужных” стихотворений — «Рыцарь с цепью» (1908):
Хлебников, восторженно приветствуя Февральскую революцию, уже окликал это стихотворение Гумилева. Переделывал его он в конце 1921 – начале 1922 года (время создания «Одинокого лицедея»), когда опьянение ветром свободы прошло и песня о древнем походе Игоря обернулась “девой Обидой” и плачем жен от Путивля до Царского Села:
Победоносное шествие самодержавного народа, чувство сопричастности и общей свободы сменяется в «Лицедее» рукопашным одиночеством, ужасом и безнадежностью поединка. „И я упаду побежденный своею победой...“, — мог бы повторить Хлебников вслед за Галичем.
Мин у Хлебникова всегда связан с воспо-мин-анием, по-мин-овением: Но и память — великий Мин... (IV, 119).3![]()
Но почему память получает такое кровавое имя, а Пушкин превращается в каннибалистического монстра, чью голову нужно отрубить и выставить на всеобщее осмеяние?
Живой Пушкин — высочайшая нота поэзии, недосягаемый идеал, выстрел полдневной пушки Петропавловской крепости. „Он любовь, идеальная мера, открытая вновь, разум внезапный и безупречный, он вечность, круговорот роковой неповторимых свойств. Все наши силы, все наши порывы устремлены к нему, вся наша страсть и весь наш пыл обращены к нему, к тому, кто нам посвятил свою бесконечную жизнь...“ [Il est l’amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l’éternité: machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l’épouvante de sa concession et de la nôtre: ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoiste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie...], — так писал Рембо в стихотворении «Гений» о всяком истинном поэтическом гении и так, мы уверены, думал Хлебников о Пушкине.5![]()
Но Пушкин из живого поэта превращен чернью в чугунного болвана, мертвого идола на Тверской.6![]()
Поникший и умолкнувший, засиженный птицами памятник — какой-то страшный некрофильский талисман. Спасти он никого уже не может, и его именем освящают смерть других поэтов. Хлебников вкушает из чаши смерти своего поэтического сородича и отправляется в поход за его освобождением.
26 октября 1915 года в альбомной записи Хлебников делает существеннейшее пояснение к «Одинокому лицедею»:
Пожалуй, нигде Хлебников так откровенно не называл футуристов пушкинианцами. Двадцатый век, познавший мировые катаклизмы, пришел перед лицом такого воина истины, как Пушкин, к своему историческому самоотрицанию. Здесь важно то, что Пушкин века предшествующего осмеивается и отрицается самим же Пушкиным. К тому же, смерть великого поэта — не единоличное злодейство какого-то там Дантеса, а погребальная слава целого столетия. Пушкин заплатил не только собственной смертью, но и посмертной славой, и как Спаситель, повешенный на кресте, был распят на собственном образе. Мережковский говорил о „смерти Пушкина в русской литературе“. Его духовное истребление не равно физической смерти, поэтому Хлебников и говорит о 18ХХ гг. Вековой подлог личности классика — условие торжества бессмертной пошлости новых Дантесов над Поэзией.
Но почему будетлянин — это Пушкин в освещении мировой войны? Не в освящении и воспевании, а освещении? Война, зарифмовавшая Пушкина и пушки, означала превращение „веселого имени“ в мрачное орудие смерти — пушки, что спрятаны в Пушкине (V, 532). Во время войны пушкинский канон начинает говорить языком братоубийственного символа веры:
Пушкин — ушкуйник, крылышкующий кузнечик, поглощающий “червячков письма”, — съеден Зинзивером. Пасть Минотавра — всепожирающее пушечное жерло, давно пожравшее истинного Пушкина и требующее себе пушечного мяса и бесконечных жертв (‹...› Курчавое чело / Подземного быка в пещерах темных / Кроваво чавкало и кушало людей ‹...›). Здесь физиология граничит с космологией. Хтоническое чудовище, хранящее пушкинские черты, — его ложный образ. Задача хлебниковского одинокого лицедея — разоблачение этого ложного и кровавого образа. Отсюда — необходимость схватки.
В «Ка 2» перед памятником Пушкина Хлебников вспоминает о своем юношеском и неисполненном намерении проиграть в современности один греческий сюжет. В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь проиграть в XX столетии один рассказ греков. Это были последние дни моей юности, трепетавшей крылами, чтобы отлететь, вспорхнуть (V, 128–129). Античный миф остался невостребованным. Приблизительно тогда же, в конце 1916 года, поэт возвращается к своему “театральному” замыслу. В отрывке «Закон множеств царил...», описывая свое одиночество и дантовские блуждания в огромном городе, Хлебников восклицает: Хорошо! — подумал я, — теперь я одинокий игрок, а остальные — весь большой ночный город, пылающий огнями, — зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы — лицедеями.9![]()
![]()
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 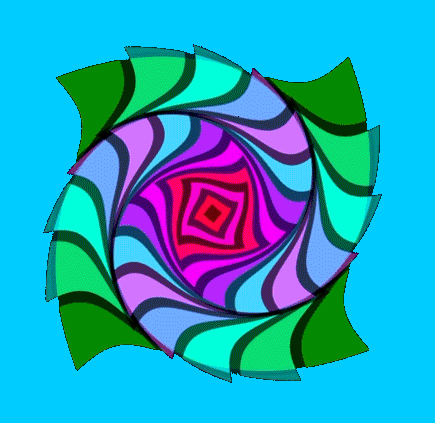 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||