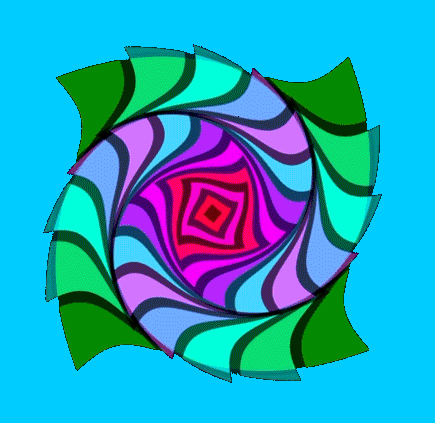Григорий Амелин, Валентина Мордерер
Завет свирели
Ирине Коневой
— Куда же ты сердце свое простираешь?
— Я его простираю к Раю.
— Но разве об Аде ничего ты не знаешь?
— Нет, не знаю.
Константин Бальмонт
Я — уст безвестных разговор…
Борис Пастернак. Лесное
Пресловутый хлебниковский архаизм вовсю процветает свободными словоновшествами. Прошлое, к примеру, очень часто определяется сладостью меда, совсем как в сказочном Лукоморье („И там я был, и мед я пил…“). У Хлебникова мед извлечен, как из улья, из сердцевины слова, становясь пайком для дальнейших языковых окормлений. Приведем полностью стихотворение «Зеленый леший — бух лесиный…» ‹1912?›:
Зеленый леший — бух лесиный
Точил свирель,
Качались дикие осины,
Стенала благостная ель.
Лесным пахучим медом
Помазал кончик дня
И, руку протянув, мне лед дал,
Обманывая меня.
И глаз его — тоски сосулек —
Я не выносил упорный взгляд:
В них что-то просит, что-то сулит
В упор представшего меня.
Вздымались руки-грабли,
Качалася кудель
И тела стан в морщинах дряблый,
И синяя видель.
Я был ненароком, спеша,
Мои млады лета,
И, хитро подмигнув, лешак
Толкнул меня: „Туда?“
(II, 92)
Одна из тайн лешего задается каламбуром таить / таять. Лесной обманщик таит (скрывает) тоску прошедшего, которое тает, как снег, как ледяные сосульки. Другая тайна — в том кончике дня, который мажут медом, как и в другом стихотворении, посвященном началу дня, утренней прогулке:
Лапой белой и медвежей
Друг из воздуха помажет
И порыв метели свежий
Отошедшее расскажет.1
О прошлом повествует уже не мед, а белый ледовитый медведь, мажущий лапой. Из какого слова вышли эти подмигивающие тени сказок? Ответ дает гуцульское предание «Ночь в Галиции»:
Вон гуцул сюда идет,
В своей черной безрукавке.
Он живет
На горах с высокой Мавкой.
Люди видели намедни,
Темной ночью на заре,
Это верно и не бредни,
Там на камне-дикаре. ‹...›
Улыбки нету откровеннее,
Да, ты ужасно привидение.
(II, 201–202)
Кончик дня — намедни, каламбурно намазанный медом.
Но секрет зеленого лешего, его обман заключен не только в таинственности слова ‘намедни’. Неизреченная загадка всегда таится в тающем взоре прошлого, уходящего в воды истории дня, года, эпохи:
Что было — в водах тонет.
И вечерогривы кони,
И утровласа дева,
И нами всхожи севы.
(II, 181)
Бух лесиный и есть архаический символ прошлого, напоминание и веселая тоска об ушедшем, потому что Великий Пан не умер, он жив. И пока мы не разгадаем, почему леший назван бухом лесиным, пока не ответим конкретно и утвердительно на его хитрый с подмигиванием вопрос „Туда?“, мы ничего не поймем в хлебниковских текстах.
Так куда спешит юный поэт, в свои младые лета ненароком забредший в сладостно-постанывающий и дикий лес и случайно представший пред чудесным видением? На свидание? Нет. Может быть, на встречу с родной чертовщиной? Тоже вряд ли. Задолго до ернического анекдота о Владимире Ильиче он поспешает, „да, туда“ — в библиотеку. Стихотворение Анненского так и называется — «Библиотека»:
Я приходил
туда, как в заповедный
лес:
Тринадцать старых ламп, железных и овальных,
Там проливали блеск мерцаний погребальных
На вековую пыль забвенья и чудес.
Тревоги
тайные мой бедный ум гвоздили,
Казалось, целый мир заснул иль опустел;
Там стали креслами тринадцать мертвых тел.
Тринадцать желтых лиц со стен за мной следили.
Оттуда, помню, раз в оконный
переплетЯ видел
лешего причудливый полет,
Он
извивался весь в усильях бесполезных:
И содрогнулась мысль, почуяв тяжкий плен, —
И пробили часы тринадцать раз железных
Средь запустения проклятых этих стен.
2
Это вольный, как всегда у Анненского, перевод из книги Мориса Роллина «Неврозы», вошедший в «Тихие песни» (1904). В этом-то и состоит секрет архаичного будетлянина Хлебникова. В перелицовке на гусельно-старинный лад библиотечных богатств, накопленных мировой культурой. Мертвое запустение заповедного леса пыльных фолиантов оживляется и воскресает в лукавых образах славянского лукоморья.
Но образы книжных хранилищ — библиотеки как леса у Анненского и леса как причудливой библиотеки у Хлебникова — весьма отличны. Если в стихотворении «Зеленый леший — бух лесиный…» господствуют яркие краски — зелень, синь, золото меда, то в «Библиотеке» Анненского — замогильные мерцания, пыль веков и безжизненная желтизна. В первом случае — младые лета, дикая первозданность и свежесть, благостность и обещание сладостного меда, во втором — проклятое место, мýка образов, бесплодность всех усилий и старческое содрогание мысли. У Хлебникова — полнота и бодрствование, у Анненского — опустошение и сон. Здесь — набухающая бытийственность настоящего, там — прошлое, тайные тревоги и мертвые тела воспоминаний. У Хлебникова вся картина в ритме качающейся колыбели (качались дикие сосны, качалася кудель)3 и прядения животворящей пряжи существования, у Анненского — какой-то погребальный обряд и вколачивания впечатлений в изболевшее сознание, как гвоздей („тревоги тайные мой бедный ум гвоздили“). Но в обоих текстах есть леший, библиотечная метафора леса и таинственное “туда”. В хлебниковском тексте — это как бы книга, вернувшаяся в лес, к своему истоку, цветению бытия, природе как книге. Более того, зеленый леший есть демонологическая персонификация самой книги.
и прядения животворящей пряжи существования, у Анненского — какой-то погребальный обряд и вколачивания впечатлений в изболевшее сознание, как гвоздей („тревоги тайные мой бедный ум гвоздили“). Но в обоих текстах есть леший, библиотечная метафора леса и таинственное “туда”. В хлебниковском тексте — это как бы книга, вернувшаяся в лес, к своему истоку, цветению бытия, природе как книге. Более того, зеленый леший есть демонологическая персонификация самой книги.
Современный читатель, ссылаясь на самого поэта, принимает за неологизм слово бух, полагая, что это „одухотворение виновника ‹...› быти“, то есть бытия. По хлебниковскому принципу: дуть — это дух, мыть — это муха, а быть — это бух. Все так, но это не просто сказочный дух, олицетворяющий сам принцип бытия. Анненский подсказывает хитрую природу его происхождения: „Оттуда, помню, раз в оконный переплет / Я видел лешего причудливый полет…“ Появляясь в оконном проеме, леший разом вылетает из книжного переплета. Причудливо извивающийся и выходящий из книжного переплета, насельник заповедного леса стеллажей и живого бора природы — воплощенная книга натуры — Бух (нем. Buch), книга. Свой совместный с Крученых поэтический сборник Хлебников так и назовет «Старинная любовь. Бух лесиный» (1914). А его последняя рукописная, еще ждущая своего досконального прочтения книга называется «Гроссбух».
Михаил Кузмин свидетельствует в своем дневнике — в день смерти Анненского на башню Вяч. Иванова приходит горько плачущий и осиротевший Хлебников. Самый разительный пример общности двух поэтов являет собой ранняя, написанная ритмической прозой вещь Хлебникова под названием «Зверинец». 10 июня 1909 года, отправляя поэму все тому же Вяч. Иванову, поэт сопроводил ее таким комментарием:
Я был в Зоологическом саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с Исламом. После короткого размышления я пришел к формуле, что виды — дети вер и что веры — младенческие виды ‹...›
Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Волнующие нас веры суть лишь более бледный отпечаток древле действующих сил, создавших некогда виды. Вот моя несколько величественная точка зрения. Я думаю, к ней может присоединиться только тот, кто совершал восхождения на гору и ее вершину.4
Анненский проставил под своей статьей о Леконте де Лиле дату ее окончания — 23 августа 1909 года. Вот что он писал о своем любимом поэте и учителе, „великом креоле“, подчеркивая африканские черты француза, подобные иному, незабываемому образу:
‹...›
История религий и
естествознание делаются той властью, той личиной нового Рима, которой сознательно подчиняет свое творчество гениальный африканец. ‹...› Во второй половине прошлого века французская литература формировалась под влиянием науки. ‹...›
Всякая религия была истиной для своего времени — таков один из тезисов, которые можно проследить в творческой работе Леконта де Лиль. ‹...› Поэмы Леконта де Лиль, где перед нами должны проходить “веры” индусов, персов, эллинов, израильтян, арабов или папуасов, не шли, собственно, далее великолепных иллюстраций к научному тезису. Чаще всего поэмы давали лишь пейзаж, красивую легенду, профиль верующего да лиризм молитвы. Но вы напрасно стали бы искать за ними того исключительного и
своеобразного мира верований, где со страстной нелогичностью умозрение заключает пакт с фетишизмом, милосердие — с изуверством и мораль — с соблазном, — словом, того мира, который не покрывается ничем, кроме слова же “религия”.
Вот «Видения Брамы».
Чем не декорация, в сущности?
De son parasol rose, en guirlandes, flottaient
Des perles et des fleurs parmi ses tresses brunes,
Et deux cygnes, brillants comme deux pleines lunes,
Respectueusement de l’aile l’éventaient.
Sur sa lèvre écarlate, ainsi que des abeilles,
Bourdonnaient les Védas, ivres de son amour;
Sa gloire ornait son col et flamboyait autour;
Des blocs de diamant pendaient à ses oreilles.
À ses reins verdoyaient des forêts de bambous;
Des lacs étincelaient dans ses paumes fécondes;
Son souffle égal et pur faisait rouler les mondes
Qui jaillissaient de lui pour s’y replonger tous.
5
Вот Ганг.
Великий, сквозь леса с неисчислимой растительностью катит он к беспредельному озеру свои медленные воды, горделивый и страшно похожий на голубой лотос неба.
Вот старый Висвамитра в своей лощине стоит годы и, "сохраняя все ту же суровую позу, грезит наподобие бога, который сделан из одного куска, сухого и грубого". ‹...›
Глубже, кажется, проник в поэзию Леконта де Лиль другой его научный тезис —
единство видов. ‹...› Поэзия Леконта де Лиль полна этих странных существ, столь разнообразных по виду, — ворон и тигр, ягуар и кондор, слон и колибри, акула и ехидна, но которых, заменяя научный принцип
единства зоологических видов, объединяет одна
великая меланхолия бытия. ‹...› „Чего тут только не было? Змеи, кабаны, быки и тигры... словом, и стойло и зверинец“. Так писал огорченный буржуа 13 января 1873 года, напоминая при этом своим читателям об имени Леконта де Лиль ‹...›
6
Должны ли мы гадать, кто кого цитирует? Или утверждать, что Анненский развивает тезисы юного Хлебникова, получив их из рук Вяч. Иванова? И потом — важно ли это? Да наверное, не очень. Гораздо интереснее, что декоративное перечисление Анненским божеств получает через десятилетие развитие в “заумной” пьесе Хлебникова «Боги», где гротескность языковых подобий оборачивается пантеоном богов, проглядывающих из убогости их одеяний.
Проза Анненского, в оценке современников — субъективная, импрессионистическая, мудрено-закрытая и непонятная, оказалась чуть ли не требником для посвященного круга русских поэтов. «Книги отражений», и статейный Анненский обрел статус поставщика образов, цитат и крылатых выражений ко двору Ее Величества Русской Поэзии.
Когда в 1916 году Хлебников, обращаясь через весь азийский материк к молодым японцам, протягивает им руку дружбы, то подписи под общим письмом мира он предлагает ставить ручкой-деревом или высочайшей горной вершиной мира:
‹...› Азия есть не только северная земля, населенная многочленом народов, но и какой-то клочок письмен, на котором должно возникнуть слово Я. Может быть, оно еще не поставлено, тогда не должны ли общие судьбы, некоторым пером, написать очередное слово? Пусть над ним задумалась рука мирового писателя! Итак, вырвем в лесу сосну, обмакнем в чернильницу моря и напишем знак-знамя “я Азии”. У Азии своя воля. Если сосна сломится, возьмем Гауризанкар. Итак, возьмемся за руки, возьмем двух-трех индусов, даяков и подымемся из 1916 года, как кольцо юношей, объединившихся не по соседству пространств, но в силу братства возрастов.
V, 155
Идет война с Германией, но величественный образ пера-сосны взят у Генриха Гейне. Символ, или знак-знамя, попал не напрямую, а в интерпретации Анненского — из его статьи «Генрих Гейне и мы»: „Если любовь Гейне нельзя испугать никаким ничтожеством символов и он хотел бы сделаться то скамейкой под ногами милой, то подушкой, куда она втыкает свои булавки, то, с другой стороны, он не боится и гипербол: если надо написать любовное признание, он пишет его по темному небу ночи самой высокой елью, которую, сорвав с корней, зажигает в огнедышащей пасти Этны“.7
И еще один пример анненского посредничества — стихотворение Хлебникова «Меня проносят на слоновых...» (1913). Анализ Вяч.Вс. Иванова выявил его прообраз — древнюю индийскую миниатюру, где изображение слона, его контуры образуются из сплетения девичьих фигур. Поэт мыслит себя божеством Вишну, восседающим на слоновьих носилках, распускающихся вешним цветеньем грациозных тел-веток.8 Поэтическая картина передает графику бумажного листа — черные, ночные зимние линии рождают белоснежное божество весны:
Поэтическая картина передает графику бумажного листа — черные, ночные зимние линии рождают белоснежное божество весны:
Меня проносят ‹
на› ‹
слоно›
выхНосилках — слон девицедымный.
Меня все любят — Вишну новый,
Сплетя носилок призрак зимний.
Вы, мышцы слона, не затем ли
Повиснули в сказочных ловах,
Чтобы ласково лилась на земли,
Та падала, ласковый хобот.
Вы белые призраки с черным,
Белее, белее вишенья,
Трепещ‹
е›
те станом упорным,
Гибки, как ночные растения.
А я, Бодисатва на белом слоне,
Как раньше, задумчив и гибок.
Увидев то, дева ответ‹
ила›
мне
Огнем благодарных улыбок.
Узнайте, что быть ‹
тяжелым›
слоном
Нигде, никогда не бесчестно.
И вы, зачарован‹
ы›
сном,
Сплетайтесь носилками тесно.
Волну клыка как трудно повторить,
Как трудно стать ногой широкой.
Песен с венками, свирелей завет,
Он с нами, на нас, синеокий.9
Но между индийской картинкой и ее поэтической интерпретацией есть одно опущенное звено — как бы мимоходом брошенное указание Анненского о том, „какое значение имеет для поэзии местный колорит метафор и сравнений“. И далее он пишет: „‹...› Причем выясняется, что критерием для подбора должна служить прежде всего привычная нам красота образов. Сравнение, которое не понятно нам или идет вразрез с нашим представлением о красоте, покажется нам занимательным, но оно не будет эстетично: таковы древнеиндийские сравнения девичьей грации с походкой молодого слона“.10 Авангардист Хлебников реставрирует и перепевает старые образы на новый эстетический лад. Статья Анненского была напечатана в журнале «Русская школа». Хлебников был прилежным учащимся этой школы, его опусы вобрали местные колориты всех уголков земного шара. Не менее истово он исполнял следующий завет классического учителя. В той же статье Анненский далее предлагал: „Полезно сравнивать с точки зрения искусства два поэтических перевода одной и той же пьесы...“.11
Авангардист Хлебников реставрирует и перепевает старые образы на новый эстетический лад. Статья Анненского была напечатана в журнале «Русская школа». Хлебников был прилежным учащимся этой школы, его опусы вобрали местные колориты всех уголков земного шара. Не менее истово он исполнял следующий завет классического учителя. В той же статье Анненский далее предлагал: „Полезно сравнивать с точки зрения искусства два поэтических перевода одной и той же пьесы...“.11 Хлебников рьяно следует этому завету. Его стихотворный набросок «За дорогой...» — вольный перевод начала поэмы Э. Верхарна «Кузнец», причем в качестве своеобразного “подстрочника” он использует перевод Валерия Брюсова. Но Хлебников берет за основу не весь брюсовский перевод, а ту часть, что попадает в разбор Максимилиана Волошина. Приведя в оригинале начальную строфу Верхарна, Волошин дает брюсовский перевод:
Хлебников рьяно следует этому завету. Его стихотворный набросок «За дорогой...» — вольный перевод начала поэмы Э. Верхарна «Кузнец», причем в качестве своеобразного “подстрочника” он использует перевод Валерия Брюсова. Но Хлебников берет за основу не весь брюсовский перевод, а ту часть, что попадает в разбор Максимилиана Волошина. Приведя в оригинале начальную строфу Верхарна, Волошин дает брюсовский перевод:
Где выезд в поле, где конец
Жилых домов, седой кузнец,
Старик угрюмый и громадный,
С тех пор, как, ярость затая,
Легла руда под молот жадный,
С тех пор, как дым взошел над горном,
Куёт и правит лезвия,
Взнося удары над огнем упорным...
Седой кузнец, немой старик
Своим терпением велик.
12
Брюсовский текст у Хлебникова почти неузнаваем, а о сравнении с самим Верхарном можно и не помышлять:
За дорогой, где...
Седой коваль с работой
В громадном росте осовел‹
ый›
С времен, вонзивших взоры в де‹
ло›
Руды женой под молот легшей пленно,
С тех пор, как взвился морок мленно,
Пьянимый кубком полной силы,
Когда удары медь разили,
Замашисто и полно,
У самого полымя,
Весь мести мыслью полный,
Кует в блестящие ножи и звон лезвейный
Людской закал и меру неизмерного терпения.13
Таким же вольным переложением с русского на совсем иной русский, сдобренный архаизмами и архаизированными неологизмами, является стихотворение Хлебникова «Немь лукает...»14 В качестве подопытного организма, который препарирует упорный вивисектор, избрано стихотворение Брюсова «Охотник». Замечательно, что темой-оригиналом для брюсовской вариации служило стихотворение Ш. Леконта де Лиля «Un coucher de soleil» («Закат солнца»):
В качестве подопытного организма, который препарирует упорный вивисектор, избрано стихотворение Брюсова «Охотник». Замечательно, что темой-оригиналом для брюсовской вариации служило стихотворение Ш. Леконта де Лиля «Un coucher de soleil» («Закат солнца»):
Над бредом предзакатных марев,
Над трауром вечерних туч,
По их краям огнем ударив,
Возносится последний луч.
И, глуби черные покинув,
В лазурный день из темноты
Взлетает яркий рой павлинов,
Раскрыв стоцветные хвосты.
А Ночь, охотник с верным луком,
Кладет на тетиву стрелу.
Она взвилась с протяжным звуком,
И птица падает во мглу.
Весь выводок сразили стрелы...
От пестрой стаи нет следа...
На Запад, слепо потемнелый,
Глядит Восточная Звезда.
(I, 374)
В хлебниковской рукописи над его текстом стоит помета: Вечер. Утро. Используя образность предшественников, Хлебников привносит то, чего не могло быть и в помине у Леконта де Лиля и лишь легким контуром намечено у Брюсова, — панславистскую идею:
Немь лукает луком немным
В закричальности зари.
Ночь роняет душам темным
Кличи старые: гори!
Закричальность задрожала,
В щит молчание взяла
И, столика и стожала,
Боем в темное пошла.
Лук упал из рук упавном,
Прорицает тишина,
И в смятении державном
Улетает прочь она.
У Брюсова охотник-лучник — это Ночь. Последние лучи солнца побеждены слепотой тьмы и молчания. Прощальный звук — протяжное пение стрелы. Хлебниковская охота — борьба не цветов, но звуков, потому и сталкиваются в сражении с ночью две зари — вечерняя и утренняя. Как только немоте ночи удается победить закричальность вечера, на смену спешит заря другая, берущая в свой щит молчание. Утренняя закричальность — столикая, стожалая, стоцветная — дает бой и выигрывает. Тишина в смятении бежит, улетает. Победитель — слава слова. Немь немецкого изгнана, славяне торжествуют. На побежденный запад торжествующе глядит Восточная звезда — вечéрница, зóрница, Вечорка (она же является и звездой утренней, ибо это планета Венера).
В 1912 году Хлебников пишет небольшую поэму «Мария Вечора» — о трагедии в замке Майерлинг. Действительный исторический факт — двойное самоубийство в 1889 году австрийского эрцгерцога Рудольфа и его возлюбленной баронессы Марии Вéцеры — Хлебников своим сюжетом меняет произвольно и решительно. Сперва переделывается имя героини, она уже славянка Вечóра, которая проявляет вольнолюбие и гордость, убивая насильника и захватчика, высокородного германца. Восточная звезда побеждает. В 1922 году в поэме «Синие оковы» эта же звезда призвана в свидетельницы сражения на Дальнем Востоке: Марии Вечоры око / у Владивостока. Поэт счастливо слил в едином имени свое представление о Прекрасной Даме — Верховной Заступнице, дарующей нечаянную радость мира и поэтического слова. Беззастенчиво и не без лукавства покорный студент в письме Вяч. Иванову среди прочих шлет и такие свои строки:
Там, где жили свирестели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времерей.
Стая легких времерей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!15
Брюсов, из стихотворного послания «К.Д. Бальмонту» (1902) сборника «Urbi et Orbi»:
Вечно вольный, вечно юный,
Ты как ветер, как волна,
Речь твоя поет, как струны,
Входит в души, как весна.
(I, 348)
Цитата из Брюсова подается у Хлебникова как авторский определитель вневременной сущности и живучести Поэзии. Руки Хлебникову развязывает именно беспорядок диких теней — свободное курсирование певческой стихии волны, опознаваемость пушкинской сказочной цитации:
Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна…
(IV, 423–424)
Каждый волен перепевать морок старых дней. Насколько по-новому будет звучать напев в устах нового певца, определит способность и даровитость голосовых связок к самоценному и ни на что непохожему отклику: Мы вправе брать и врать взаймы у пустяка.16
Библиотечный леший Анненского “зазеленел” у Хлебникова стараниями Федора Сологуба, который перевел верленовского «Фавна». Волошин приводит этот перевод как образец безукоризненного перевоплощения Сологуба, сохранившего голос оригинала:
Кажется, сам Вэрлен заговорил русским стихом, так непринужденно, просто и капризно звучит он. Стихи приведенные повторяют подлинник с точностью буквальной. Но даже там, где нет ее и не переданы все оттенки подлинника, там нет желания останавливаться и придираться: так это хорошо само по себе, так похоже на Вэрлена.
Плешивый фавн из темной глины,
Плохой конец благих минут
Вещая нам, среди куртины
Смеешься дерзко, старый плут,
Над тем, что быстрые годины
Нас к этим праздникам ведут,
Где так грохочут тамбурины
И где кручины стерегут.
И не странно ли, что в этом новом голосе иноземного поэта, присоединившегося теперь к хорам голосов русской лирики, звучит нечто бесконечно знакомое, близкое, как будто этот голос уже звучал в русском стихе пушкинской школы?
17
Сохраняя для своего лешего стихотворный размер и портретное сходство с фавном сологубовского перевода, Хлебников полностью меняет смысловой акцент. Плохой конец, о котором вещает, смеясь, верленовский старый лесной дух, — это, конечно, смерть, извечные сологубовские праздники мертвецов, „навьи чары“. Конец дня, смазанный пахучим медом, тающая сосулька, протянутая жуликоватой рукой хлебниковского персонажа, — это сладость и таинственные загадки жизни.
За такие обстоятельные и углубленные штудии ученик обязан платить. И, как правило, расплатой является черная неблагодарность. Она — оборотная сторона успешности обучения, свидетельство обретения самостоятельности и независимой позитуры голоса. Отвергнутый журналом «Аполлон» поэт Хлебников тут же пишет на него “сатиру”, которая так и называется «Петербургский “Аполлон”» (или «Карамора» № 2-ой).18 Действующие лица — вся редакция журнала. Но нас интересуют сейчас только трое. С Волошиным автор расправляется быстро и достаточно внятно, его скульптурный бюст не то что мрамора не удостаивается, на него и „темной глины“ жалко:
Действующие лица — вся редакция журнала. Но нас интересуют сейчас только трое. С Волошиным автор расправляется быстро и достаточно внятно, его скульптурный бюст не то что мрамора не удостаивается, на него и „темной глины“ жалко:
Но се! Из теста помещичьего изваянный Зевес
Не хочет свой “венок” вытаскивать из-за молчания завес.
(II, 80)
Портрет Федора Сологуба, чьи стихи по свидетельству хлебниковских современников, он знал досконально и декламировал наизусть, не блещет изобретательностью и попросту груб. Сатира есть сатира. На первое место выдвинута общая черта Верлена, Сологуба и их стихотворного двойника-фавна — плешивость:
Волосатое темя подобно колену.
Смотрите! приподнялись длинные губы
Слабо улыбаются желтые зубы.
И похотливо тянут гроб Верлена.
Мертвец кричит: „Ай-ай!
Я принимаю господ воров лишь в часы от первого письма до срока смерти.
Я занят смертью господа. И мой окончен прием.
Но вы идете к соседу. Мы гостей передаем!“19
Сологуб, и не только он, а вся редакция «Аполлона» обвиняется в западничестве и слепом следовании французской моде:
Верлен упорствует. Можно еще следовать
В очертании обуви и ее носка,
Или в искусстве обернуть шею упорством белого, как мука, куска,
Или в способе, как должна подаваться рука,
Но если кто в области, свободной исконно,
Следует, вяло и сонно, закройщика законам, —
Пусть этот закройщик и из Парижа —
В том неизменно воскресает рыжий.
Или мы нуждаемся в искусственных — веке, носе и глазе?
(II, 81)
Сам Хлебников, надо понимать, такой искусный русак, что черпает вдохновение исключительно в народной психее и учится только у русского Баяна. Через несколько лет, в 1913 году, борясь с „парфюмерным блудом“, на этот раз не Бальмонта, а „освирепевшего“ Игоря Северянина, Хлебников пишет еще одну сатиру — «Отчет о заседании Кикапу-р-но – Художественного кружка». Заемный дух поэзии Северянина опять высмеивается искусственными частями лица поэта. В его облике снова подчеркнуты поддельные черты, портрет словно состоит из протезов:
Лицо с печальной запятой
Серó, острó и испитое,
Щеки тоще-деревянные,
В бровях плошки оловянные...20
К комментаторскому толкованию кикапу как “модного эстрадного танца”, вероятно, подталкивает сам Хлебников, который объясняет свою непочтительность танцевальным ритмом:
Так и речь моя, плясавица
По чужим ушесам
Слов заморских грубым молотом.21
Нет, “кикапу” — из названия гротескного рассказа Э.А. По — «Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней бугабуско-кикапуской кампании». Герой По — бравый генерал, изрубленный индейцами и весь составленный затем из замечательных протезов. У него не только искусственные руки, ноги, плечи, грудь, челюсти и глаза. У него вставной и ненастоящий язык. Кикапу — не просто синоним поражения, а символ фальшивой убогости поэтического голоса. Само это царапающее, глупое диковинное словечко кажется составленным из несвязанных, бессмысленных слогов. «Ки-ка-пу»!
Во втором сборнике «Садок судей», вслед за небольшой поэмой «Мария Вечора», был напечатан пространный текст Хлебникова «Шаман и Венера». По жанру это ирои-комическое повествование (в духе «Энеиды» Котляревского) о капризах и прихотях красавицы, пожелавшей поселиться в Сибири, в уединенном жилище отшельника-шамана. Идеологически оба текста продолжают извечный лозунг Хлебникова-националиста, яростно вопящего о борьбе с волной неми, с запада яростно бьющей:
Протянул бы на запад клянущую руку ‹...›
Свой гневный, победный, воинственный клич:
„Напор слави единой и цельной на немь!“
Посолонь, слава! За солнцем друзья, — на запад за солнечным ходом, ‹...›
— Победная славь да идет,
Да шествует!
Пусть в веках и реках раздается тот пев:
„Славь идет! Славь идет! Славь восстала...“22
Небесный светоносный Ярило-солнце — вождь этого вполне черносотенного воинства. События «Марии Вечоры» и «Шамана и Венеры» освещены другим астрономическим светилом — Восточной звездой, Вечерницей, то есть Венерой. Под ее знаком проходит “прощание славянки”, мстящей насильнику:
На полу, как уснувший, лежит общий друг
И на пол стекают из крови озера.
А в углу, близ стены вся упрек и испуг —
Мария Вечора.
(I, 70)
Так звучат финальные строки поэмы, где имя, давшее название поэме поясняет и символику зачина, где восток приветствует не Аврору, а другую богиню:
Выступы замок простер
В синюю неба пустыню.
Холодный востока костер
Утра встречает богиню.
(I, 67)
В «Шамане и Венере» обходится без кровопролития, но не без зубоскальства. Глупенькая и пустая красотка, припрятавшая (вероятно, в волосах?) парижский журнал мод, нагишом является к молчаливому охотнику-шаману. Мудрый Восток наставляет на путь истинный потерявший жизненные ориентиры Запад, и умиротворенная всеведением шамана богиня любви водворяется на небосклоне. Двойничество планеты Венера, которая видна на небе как самая яркая желтоватая звезда вечером на западе (Вечерняя, Веспер), а утром на востоке (Утренняя, Восточная) — постоянный предмет символистской поэзии, что и послужило поводом для хлебниковского комикованья, высмеивающего восковую белизну мрамора Венеры, стремящегося к встрече с желтоликим Монголом-Шаманом. Константин Бальмонт, «Пчела»:
Пчела летит на красные цветы,
Отсюда мед и воск и свечи.
Пчела летит на желтые цветы,
На темносиние. А ты мечта, а ты,
Какой желаешь с миром встречи?
Пчела звенит и строит улей свой,
Пчела принесена с Венеры.
Свет Солнца в ней с Вечернею Звездой.
Мечта, отяжелей, но пылью цветовой,
Ты свет зажжешь нам, свечи веры.
(II, 456)
Стихотворение Бальмонта — индивидуальное и произвольно-мифологическое символистское мечтание. Поэт неоднократно указывает на венерианское происхождение пчелы, скорее всего вполне точно осуществляя словарное сближение, предопределившее и поэтическую этимологию и сюжет. Венера (неназванный Vesper в латыни — “Вечерняя звезда”)23 посылает на Землю свое порождение — пчелу, а если учесть, что латинская vespa24
посылает на Землю свое порождение — пчелу, а если учесть, что латинская vespa24 — это оса, то Бальмонт свое поэтическое переложение исполнил с достоинством. Так как Vesper — обозначение не только планеты, но и вечерней молитвы, то эта литургия устанавливает последовательную христианскую связь Солнца, Венеры, воска пчелы — со светом свечей веры. Кстати, Мандельштаму позже только и оставалось, что неузнаваемо переиначить Бальмонта,25
— это оса, то Бальмонт свое поэтическое переложение исполнил с достоинством. Так как Vesper — обозначение не только планеты, но и вечерней молитвы, то эта литургия устанавливает последовательную христианскую связь Солнца, Венеры, воска пчелы — со светом свечей веры. Кстати, Мандельштаму позже только и оставалось, что неузнаваемо переиначить Бальмонта,25 перенеся пчел, посланниц любви-Венеры в более соответствующее эллинскому мифу место, а затем превратить их в знаки любви — поцелуи: „Нам остаются только поцелуи, / Мохнатые, как маленькие пчелы ‹...› Невзрачное сухое ожерелье / Из мертвых пчел, мед превративших в солнце“ (I, 147).
перенеся пчел, посланниц любви-Венеры в более соответствующее эллинскому мифу место, а затем превратить их в знаки любви — поцелуи: „Нам остаются только поцелуи, / Мохнатые, как маленькие пчелы ‹...› Невзрачное сухое ожерелье / Из мертвых пчел, мед превративших в солнце“ (I, 147).
Разумеется, без пчел не обходится и хлебниковская красотка, Венера-Веспер. Перед тем как исчезнуть из шамановой пещеры ласковой ошибкой и возвратиться на Запад, она признается в любви:
„Шаман, ты всех земных мудрей!
Как мной любима смоль кудрей,
И хлад высокого чела,
И взгляда острая пчела…“
(I, 113)
Несмотря на издевки и порицания, в хлебниковской практике довольно высока частотность цитирования Бальмонта. Только два примера. Знаменитый зачин стихотворения Хлебникова о Лермонтове «На родине красивой смерти — Машуке» не скрывает своего бальмонтовского происхождения:
Где мог он так красиво умереть,
Как не в горах, где небо в час заката —
Расплавленное золото и медь.26
Точно так же хлебниковское стихотворение «Зверь + Число» с его строками о стрекозе-коромысле („Когда мерцает в дыме сел / Сверкнувший синим коромысел, / Проходит Та, как новый вымысел, / И бросит ум на берег чисел“) отсылает к «Коромыслу» старшего поэта:
Коромысло, коромысло,
С нежными крылами,
Как оно легко повисло
В воздухе над нами. ‹...›
Коромысло, коромысло,
Почему мы пленны?
Если б знать, какие числа
Для тебя священны.
(I, 581)
Завзятый славянофил Хлебников, категорически отрицавший иноязычные заимствования, неплохо разбирался не только в славянском корнесловии, но и отлично ведал из каких всеобщих закромов Запада и Востока его муза-пчела приносит взятки к его поэтическому застолью. Раннее вопрошание Лешего „Туда?“, подразумевавшее библиотеку, завершилось поздним хлебниковским призывом к всеобщему чтению «Единой Книги» на великом совете богов: Туда, туда, где Изанаги / Читала «Моногатори» Перуну… — туда, туда. Но к этому времени уже не стало ни хлеба, ни меда…
————————
Примечания 1 Велимир Хлебников
1 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М., 1940. С. 151.
 2 Иннокентий Анненский
2 Иннокентий Анненский. Стихотворения и трагедии.
Л., 1990. С. 275.
 3
3 Одна из основных тем новой русской поэзии — колыбель, ею вводится первоначальное значение в латыни слова “инкунабула”, ставшего обозначением книги, напечатанной в начальную эпоху книгопечатания и сходной по оформлению с рукописными книгами. Incunabula (лат.) — колыбель, младенчество, начало, место рождения, первоначальное место жительства, пребывания. Таков и колебательно-книжный финал раннего стихотворения Мандельштама «Только детские книги читать…»:
Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.
(I, 35)
Эта рано и тайно заявленная тема книги-колыбели вырастает у Мандельштама в стройно обоснованную систему стихов-двойчаток, когда смыслы раздваиваются: один текст условно означает “да!”, другой — раскачиваясь, по дуге отталкивается к противоположному утверждению “нет!”.
Впрочем, тот же Мандельштам выявляет и крайние пределы человеческого бытия как колебания и переливания жизни как вальса — “из гроба в колыбель”. Что и происходит в лукавом «переводе» Анненского: библиотека, содержащая инкунабулы-колыбели, превращена в погребальный, мерцающий, колеблющийся сон — царство смерти. Над библиотекой-лесом висит проклятие числа 13. Что способно вывести этот мир из колдовского и невротического сна, какой магический поцелуй, какое заклинание? С небывалым тринадцатым ударом железных часов, после лишнего колебания маятника смерть отступает, так как рождается стих — четырнадцать строк сонета «Библиотека». Заколдованный круг сна разомкнут поэзией.
 4 Велимир Хлебников
4 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М., 1940. С. 356.
 5
5 С его розового зонтика гирляндами колыхались перлы и цветы среди его темных кос. И два лебедя, блистая, как две полные луны, почтительно овевали его крылом. На пурпурных губах, подобно пчелам, гудели Веды, опьяненные его Любовью. Слава украшала его шею сиянием, и в ушах висели алмазы. Лесами бамбуков зеленели его бедра, и в пригоршнях искрились озера. От его дыхания, ровного и чистого, поднимались из Него целые миры, чтобы всем снова в Него же погрузиться.
 6 Иннокентий Анненский
6 Иннокентий Анненский. Книги отражений.
М., 1979. С. 411–417.
 7
7 Там же. С. 403. Речь идет о стихотворении Гейне «Признание» («Северное море»).
 8
8 Ирина Конева отметила этот, еще один основополагающий для русской поэзии латинский каламбур: virga — “зеленая ветвь” и virgo — “девушка”. Это отдельная тема, включающая разветвленную систему текстов Анненского, Хлебникова, Олеши, Пастернака, Мандельштама, Набокова и др.
 9 Велимир Хлебников
9 Велимир Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940. С. 259.
 10 Иннокентий Анненский
10 Иннокентий Анненский. Книги отражений.
М., 1979. С. 298–299.
 11
11 Там же. С. 299.
 12 Максимилиан Волошин
12 Максимилиан Волошин. Лики творчества.
Л., 1988. С. 430.
 13 Велимир Хлебников
13 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М., 1940. С. 247.
 14
14 Анализы стихотворения см.:
Б.А. Ларин. Эстетика слова и язык писателя. Избранные статьи.
Л., 1974. С. 54–72;
М. Грыгар. Стихи и Контекст. Заметки о поэзии Хлебникова. — В сб.: Возьми на радость. To Honour Jeanne van der Eng-Liedmeier.
Amsterdam, 1980. С. 111–124.
 15
15 Там же. С. 118.
 16
16 Там же. С. 202.
 17 Максимилиан Волошин
17 Максимилиан Волошин. Лики творчества.
Л., 1988. С. 442.
 18
18 Начало опубликовано:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М., 1940. С. 202–204; конец — II, 80–82.
 19
19 Почему-то эту аттестацию привычно относят на счет Петра Потемкина, который Верлена не переводил, но о котором идет речь в предшествующих строках.
 20 Велимир Хлебников
20 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах.
М., 2000, т. I. С. 279.
 21
21 Там же. С. 279.
 22
22 Там же. С. 192.
 23
23 Позже Бальмонт написал стихотворение, в котором Веспер выступает символом категорически-полярной двойственности:
В мое окно глядит Вечерняя Звезда.
(Она же Утренняя.)
Вокруг меня шумят ночные города.
(Они же утренние.)
В моей душе навек слились и Нет и Да.
(И Да и Нет — их нет.)
В моей груди дрожит благоговейный вздох.
(В нем и проклятье.)
Вокруг моих гробниц седой и цепкий мох.
(Он и с расцветами.)
Со мною говорят и Сатана и Бог.
(Их двое, я один.)
(II, 676)
 24
24 ‘Веспой’ оса остается и во многих европейских языках: wasp (англ.), Wespe (нем.), vespa (итал.), avispa (исп.).
 25
25 Не менее продуктивным оказалось и стихотворение «Утренняя звезда» Вячеслава Иванова из сб. «Кормчие звезды», его образы откликнулись в «сновидениях» «Веницейской жизни» Мандельштама.
 26 К. Бальмонт
26 К. Бальмонт. Стихотворения.
Л., 1969. С. 422.
Воспроизведено по:
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/filos/pisma/pism_1.html
Изображение заимствовано:
Mike Kelley (b. 1954 in Detroit, Michigan, US; d. 2012 in Los Angeles).
Eviscerated Corpse. 1989.
Found stuffed cloth toys.
167.64×198.12×292.10 cm. Dimensions vary with installation.
Art Institute Of Chicago.
www.flickr.com/photos/krigud/5060217860/


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()