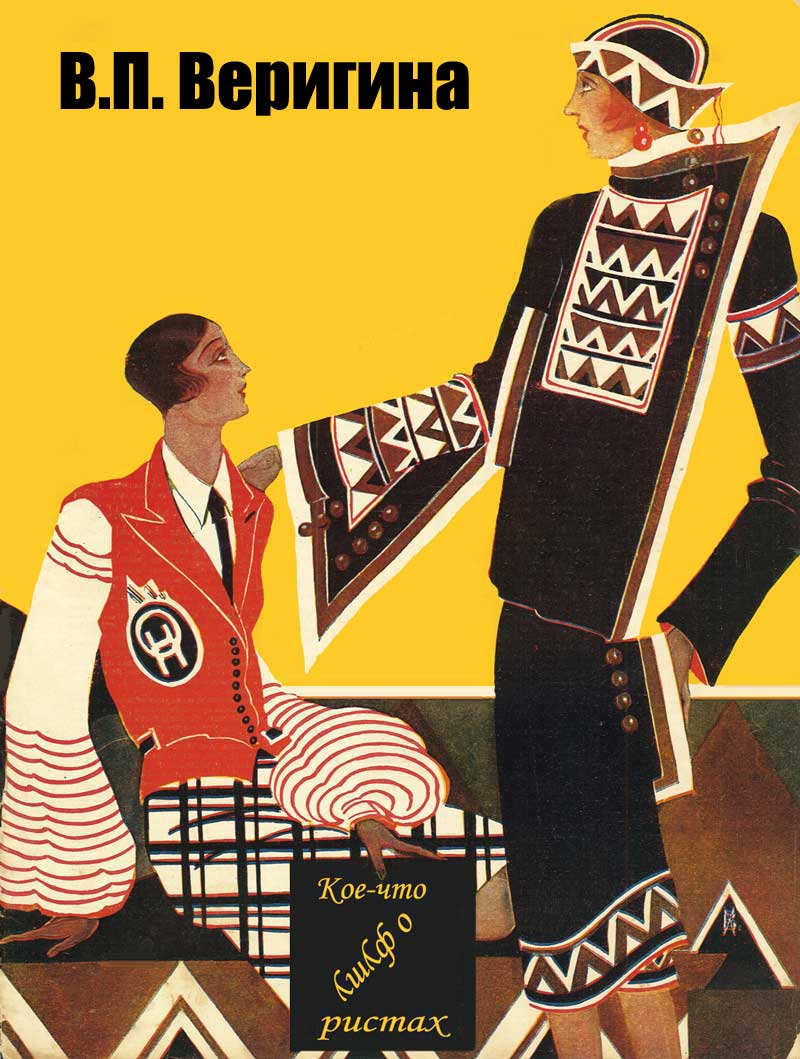
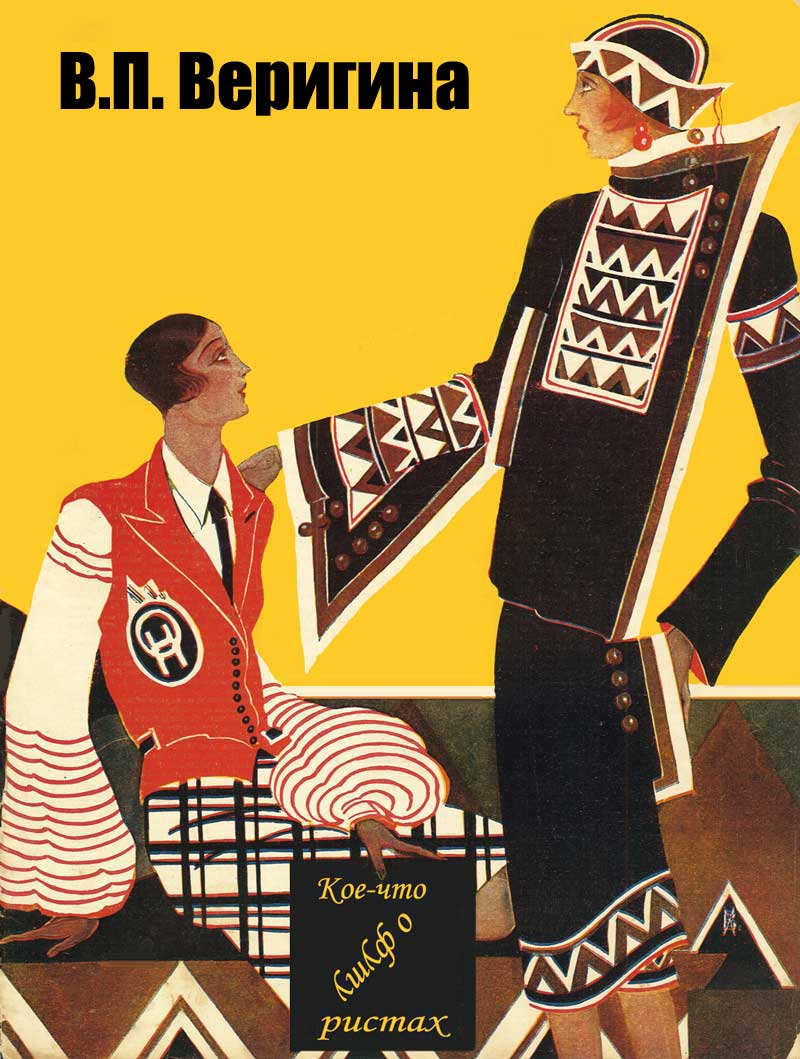
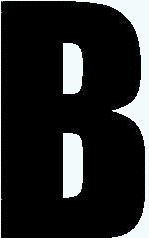 конце ноября в Калашниковской бирже под председательством Ф. Сологуба состоялся диспут. С докладом «О современном репертуаре» выступил Аничков. В сущности, из этого ничего не получилось, диспута не было, а вышло — “у кого что болит, тот о том и говорит”. Каждый из оппонентов высказывал о театре свое наболевшее, независимо от темы. Особенно характерным в этом смысле было выступление маститого режиссёра Е. Карпова, который горько жаловался на все новшества в театре и на то, что теперь игнорируется актёр. Так как Карпов главным образом нападал на Мейерхольда, последнему пришлось возражать ему и тоже уйти таким образом от темы. К ней вернул собрание молодой футурист Игнатьев. Он, между прочим, сказал, что из всех постановок прошедшего сезона ему больше всего понравилась пьеса «Двенадцатый год», но не потому, что это переделка «Войны и мира». „Толстого я терпеть не могу”, — заметил он неожиданно вскользь. Дальше ему говорить не дали. В зале поднялся невообразимый шум, раздались возгласы негодования. Вся наша компания сидела на эстраде, и нам прекрасно было видно публику. Я заметила старика с длинной седой бородой. У него был вид почтенного профессора, но в этот момент он неистово кричал: „Долой!” — и рот его был похож на волчью пасть. Нас возмутили нелепые протесты публики, и мы зааплодировали с возгласами „Просим!” А.Н. Чеботаревской кое-как удалось водворить спокойствие, и она тихо сказала Игнатьеву: „Продолжайте дальше, но не повторяйте этой фразы”. Однако, начав, он опять сказал: „Толстого я терпеть не могу”. Зал снова бурно запротестовал. Вдруг на эстраде появился Василиск Гнедов. С гордо поднятой головой он бросил в публику: „Идиоты!” К нашему удивлению, ему дружно зааплодировали и засмеялись. Затем в зале послышался мягкий звон шпор, и представитель порядка очутился на эстраде. Он деликатно взял за локоть Гнедова и вывел его через публику, причём поэт сохранял вид, полный достоинства. Я никогда не бывала на выступлениях футуристов. Мне казалось, что они главным образом ищут скандала. Теперь мне прежде всего не понравилась публика и захотелось пойти на лекцию футуристов. Вскоре мне предложили отправиться на лекцию-доклад Давида Бурлюка «Пушкин и Хлебников».
конце ноября в Калашниковской бирже под председательством Ф. Сологуба состоялся диспут. С докладом «О современном репертуаре» выступил Аничков. В сущности, из этого ничего не получилось, диспута не было, а вышло — “у кого что болит, тот о том и говорит”. Каждый из оппонентов высказывал о театре свое наболевшее, независимо от темы. Особенно характерным в этом смысле было выступление маститого режиссёра Е. Карпова, который горько жаловался на все новшества в театре и на то, что теперь игнорируется актёр. Так как Карпов главным образом нападал на Мейерхольда, последнему пришлось возражать ему и тоже уйти таким образом от темы. К ней вернул собрание молодой футурист Игнатьев. Он, между прочим, сказал, что из всех постановок прошедшего сезона ему больше всего понравилась пьеса «Двенадцатый год», но не потому, что это переделка «Войны и мира». „Толстого я терпеть не могу”, — заметил он неожиданно вскользь. Дальше ему говорить не дали. В зале поднялся невообразимый шум, раздались возгласы негодования. Вся наша компания сидела на эстраде, и нам прекрасно было видно публику. Я заметила старика с длинной седой бородой. У него был вид почтенного профессора, но в этот момент он неистово кричал: „Долой!” — и рот его был похож на волчью пасть. Нас возмутили нелепые протесты публики, и мы зааплодировали с возгласами „Просим!” А.Н. Чеботаревской кое-как удалось водворить спокойствие, и она тихо сказала Игнатьеву: „Продолжайте дальше, но не повторяйте этой фразы”. Однако, начав, он опять сказал: „Толстого я терпеть не могу”. Зал снова бурно запротестовал. Вдруг на эстраде появился Василиск Гнедов. С гордо поднятой головой он бросил в публику: „Идиоты!” К нашему удивлению, ему дружно зааплодировали и засмеялись. Затем в зале послышался мягкий звон шпор, и представитель порядка очутился на эстраде. Он деликатно взял за локоть Гнедова и вывел его через публику, причём поэт сохранял вид, полный достоинства. Я никогда не бывала на выступлениях футуристов. Мне казалось, что они главным образом ищут скандала. Теперь мне прежде всего не понравилась публика и захотелось пойти на лекцию футуристов. Вскоре мне предложили отправиться на лекцию-доклад Давида Бурлюка «Пушкин и Хлебников».Когда мы с Сергеем Михайловичем Бонди пришли в Тенишевскую аудиторию, у кассы стояла кучка студентов и уговаривала всех подходивших не брать билетов: „Футуристы осмеливаются порицать Пушкина”. Публика решила обидеться за Пушкина заранее, и настроение зала сразу было враждебное. Нас удивило больше всего поведение одного серьёзного критика, который сидел в первом ряду и, совершенно не стесняясь, делал замечания докладчику по поводу неверных ударений и некоторых провинциализмов, свойственных южанам. Между тем доклад был интересный. У Бурлюка чувствовались эрудиция и ум, а публику возмущало уже одно то, что рядом с именем Пушкина он осмелился ставить имя какого-то Хлебникова. Когда Бурлюк цитировал его, в зале хохотали и шикали. Как это ни странно, таким же хохотом одна группа встретила цитату из «Медного всадника» — публика, обожавшая Пушкина, не узнала его стихов. Докладчик сделал паузу и добавил: „Так писал поэт начала девятнадцатого века”. После этого публика почувствовала себя немного сконфуженной и стала вести себя тише, так что удалось всё-таки прослушать доклад до конца.
Я спрашивала мнение А. Блока о стихах Хлебникова и Маяковского. Александр Александрович находил их талантливыми.
Познакомилась я с обоими поэтами в «Привале комедиантов», ещё задолго до его открытия. Приходила я туда к своим близким знакомым — Борису Пронину и Вере Александровне Лишневской. Поэты тоже, вероятно, посещали ещё неотделанные помещения ради Пронина, который привлекал всех людей художественного мира своим обаянием, оригинальностью и влюблённостью в искусство. У большого камина архитектора И. Фомина сидели мы часто по вечерам втроем — Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и актриса Веригина.
Хлебников был красивым юношей с ясным лбом, с тщательно вычерченными бровями. Он почти не улыбался и мало говорил. Рассказывали, что он очень беден и спит на голой скамье, прикрываясь газетой. На вид это был воспитанный молодой человек, прилично одетый, умеющий носить костюм. Помню, что Хлебников очень нравился Мейерхольду. Мне они казались даже немного похожими.
Внешность Маяковского носила черты какой-то небрежности. При хорошем росте и статности — неловкие манеры, может быть, от застенчивости. Черты лица грубоватые. Некоторые считали его красивым. Несмотря на репутацию предельно дерзкого юноши, Маяковский, в сущности, был застенчив. Я в этом убедилась во время наших бесед у камина.
Мне очень нравилось поддразнивать обоих моих собеседников, особенно Маяковского. Как-то я ему сказала: „А ведь вы нисколько не футурист — говорите всегда о настоящем. Вы скорее презантист — Indicatif present. Впрочем, нет, у вас собственный оригинальный строй стиха. Вы все-таки футурист, но futur simple, а вот Хлебников futur absolut”. Во время таких разговоров милые талантливые глаза Хлебникова улыбались вместо губ, он обычно не сердился. Но однажды я пошутила, сказав: „Уж не являетесь ли вы Тредиаковским для будущей формы поэтической мысли?” Хлебников вдруг вскочил и убежал. Я была озадачена. Маяковский тихо сказал с упрёком: „Ай, как вы обидели моего друга!” И в этот момент у него было огорчённое и славное лицо. Мне стало ещё больше неприятно, и я с досадой сказала: „А что же вы молчали? Не могли защитить его? Ведь перед публикой вы смелы, и даже чрезмерно!” На это Маяковский что-то смущённо проговорил, очевидно, не желая быть резким. Эта беседа троих у недостроенного камина в «Привале комедиантов» была последней.
С В.В. Маяковским я продолжала видеться в том же артистическом подвале и в присутствии Пронина и Лишневской. Разговоры были общие, причём поэт никогда не бывал оживлённым, но однажды я его встретила таким у Ф.И. Шаляпина. Вторая жена Фёдора Ивановича — Мария Валентиновна была моей подругой детства, и я заходила к ней иногда днём, чтобы повидаться. В этот раз я застала гостей — поэтов Клюева и Маяковского. Было два часа дня. Шаляпин уже встал и завтракал. Я села на софу возле Клюева. Маяковский сидел близ Федора Ивановича. Их разделял угол стола. Поэт как-то нелепо, по-детски придвинулся слишком близко, загнав себя спинкой стула как бы в щель. Руки оказались под столом. Хозяин больше молчал, а гость говорил не смолкая. „Я… я…” — звучало назойливо и неприятно, самоуверенный тон резал слух. Клюев, которому, как и мне, Маяковский был виден в профиль, тихо сказал: „Идё-ёт железо на белую русскую берёзку”. Я была изумлена. Что случилось с поэтом? Может быть, он в присутствии знаменитости почувствовал себя “в ударе”, как на эстраде. Или смутился до крайности, сделался дерзким от отчаянного конфуза? Вернее последнее. Встретив Маяковского через несколько лет у Бориса Пронина в Москве, я снова удивилась. Он опять произвёл на меня впечатление скромного, смущающегося человека. Точно таким же показался он Ольге Михайловне Мейерхольд во время постановки «Мистерии-буфф». „Ужасно милый, застенчивый…” — сказала она.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 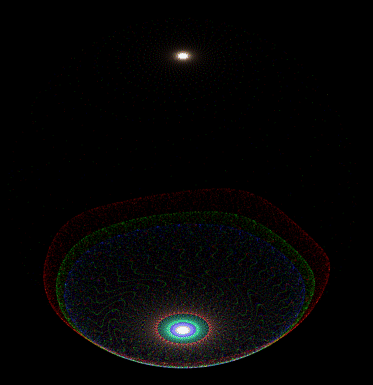 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||