



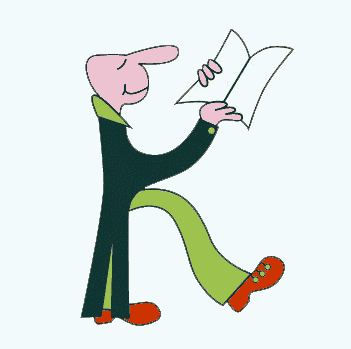 нигу воспоминаний Валентины Михайловны Ходасевич (1894–1970) я приобрёл, прочёл и задвинул в дальний угол: ни гу-гу о Хлебникове. Но бешеная трость В.В. Маяковского и передвижная выставка В.В. Каменского в памяти застряли. Подробностей о Маяковском на «Хлебникова поле» не густо, дай-ка перечту и переиздам. Эге, да тут рабы на дягилевских галерах Гончарова и Ларионов. И Татлин, тайновидец лопастей. И богохранимый самоподрывник Шкловский. Валентина Михайловна излагает летописно, внавал. А скучковать? Маяковского первым, Ларионова-Гончарову вторыми, далее по списку. — В.М.
нигу воспоминаний Валентины Михайловны Ходасевич (1894–1970) я приобрёл, прочёл и задвинул в дальний угол: ни гу-гу о Хлебникове. Но бешеная трость В.В. Маяковского и передвижная выставка В.В. Каменского в памяти застряли. Подробностей о Маяковском на «Хлебникова поле» не густо, дай-ка перечту и переиздам. Эге, да тут рабы на дягилевских галерах Гончарова и Ларионов. И Татлин, тайновидец лопастей. И богохранимый самоподрывник Шкловский. Валентина Михайловна излагает летописно, внавал. А скучковать? Маяковского первым, Ларионова-Гончарову вторыми, далее по списку. — В.М.Я была взбудоражена, увлечена и с ним согласна. Это был Маяковский. ‹...›
4 декабря 1913 года мы были с мужем на первом представлении трагедии «Владимир Маяковский» в театре «Луна-парк».
Убедительно трагически выглядел и произносил слова Маяковский, стоя на трибуне-постаменте. Он почти без грима и одет как в жизни. На нём чёрное пальто и чёрная шляпа. Фон — город, увиденный сверху и изображённый условно, отчего Маяковский на трибуне кажется стоящим высоко над городом, над плоской и уродливой толпой. Художниками спектакля были Филонов и Школьник. До нас “дошло”, как зашифрованный подтекст, что Маяковский на сцене был единственным объёмным персонажем-человеком. Остальные действующие лица, одетые в балахоны, закрывающие лица и фигуры, носили на палках нарисованные на картоне плоскостные изображения персонажей трагедии.
Ошеломило. Очень понравилось. Поразило всё. Поняли — не всё. Форма стиха, оформление спектакля отчасти затмили содержание. Но почувствовали, что пришел в жизнь свежий, свободомыслящий человек — поэт и увидел всё по-новому.
Нужны были годы, чтобы дополнять. И сейчас ещё жизнь досмысливает и углубляет сказанное Маяковским.
 В 1914 году в Петербурге наладилась наша дружба с поэтом-авиатором Василием Каменским. В том же году — знакомство с Маяковским. Потом я бывала на многих диспутах с его участием — в Москве и в Петербурге. Встречала его на выставках — как художника, экспонирующего свои работы, и как зрителя.‹...›
В 1914 году в Петербурге наладилась наша дружба с поэтом-авиатором Василием Каменским. В том же году — знакомство с Маяковским. Потом я бывала на многих диспутах с его участием — в Москве и в Петербурге. Встречала его на выставках — как художника, экспонирующего свои работы, и как зрителя.‹...›
Осенью 1917 года, возвращаясь из Коктебеля, я остановилась у родителей в Москве. Утром звонок — иду открывать. С удивлением вижу Маяковского. Он никогда ни у меня, ни у моих родителей не бывал. В руках у него шляпа и стек. Пиджак чёрный, рубашка белая, брюки в мелкую клетку, чёрную с белым. Лицо — не понять, весёлое или насмешливое. Веду его в кабинет отца:
— Садитесь.
— Нет времени, не за тем пришёл... Было у меня два дела в этом доме: наверху (он с презрением показывает на потолок стеком) живёт богатый меценат — ни черта не вышло! Теперь вот к вам: в три часа дня вы должны прийти на Тверскую, угол Настасьинского переулка, там на днях открываем «Кафе поэтов» в полуподвальном этаже дома, принадлежащего булочнику Филиппову. Мы уговорили его дать это помещение нам. Так вот: вам предстоит расписать один зал. Помещение сводчатое — имейте в виду. Клеевые краски, кисти, вёдра, стремянка — всё имеется. Не опаздывайте! Дело срочное, серьёзное, а Филиппов будет хорошо платить.
Во время этой словесной пулемётной очереди я не могла вставить ни слова. Интонация была повелительной — я рассердилась и обиделась. Очевидно, Маяковский заметил это и сказал:
— Мы с Васей Каменским были уверены, что вы вполне надёжный товарищ и не подвёдете. Ждём вас в «Кафе поэтов» в три часа! — кричал он уже с лестницы.
В три часа я была в указанном месте. Несколько ступеней вниз с тротуара вели к небольшой входной двери. Вхожу... Точно попала на сеанс факиров — черным-черно. Сводчатые стены выкрашены чёрной клеевой краской, и трудно даже разобрать, где кончается одно помещение и начинается следующее. Их там, кажется, три. Дверей не было — отделяли арки. В третьем помещении сооружали маленькую эстраду — настил из досок и портал. Застала там Маяковского, Каменского и “футуриста жизни” Владимира Гольдшмидта.
Мне было предоставлено под роспись по чёрному фону второе от входа помещение.
— Великолепный зал! — сказал Вася Каменский, делая мне галантный поклон мольеровских времён.
Я никогда клеевой краской и малярной кистью не работала, а главное, не знала, что я буду изображать. Маяковский, заметив грусть на моём лице, сказал:
— Основное — валяйте поярче и чтобы самой весело стало! А за то, что пришли, спасибо! Ну, у меня дела поважнее, ухожу. К вечеру вернусь, всё должно быть готово.
В полной растерянности и ужасе я пошла искать ушедшего в черноту Каменского, которого больше знала, чем Маяковского,— он мне казался “проще”. Нашла его в одном из помещений на стремянке под сводом, на который он крепил яркие, вырезанные из бумаги буквы, бусы и куски цветных тряпок; композиция завершалась на стене внизу распластанными старыми брюками. Он сказал мне:
— Валечка, я тут очень занят, сочиняю стихи, украшаю ими своды. Окончив, зайду к вам. Вы торопитесь — времени мало, но всё будет изумительно, восхитительно, песниянно и весниянно!
Выхода не было — или с позором бежать, или сделать роспись. Откуда-то появилась храбрость. Я молниеносно придумала композицию из трёх ковбоев в гигантских сомбреро, трёх лошадей, невероятных пальм и кактусов на песчаных холмах. Это располагалось на трёх стенах и сводах. В то время я читала Брет-Гарта и увлечена была ковбоями. „Была не была”, — я приступила к росписи, и неожиданно у меня получилось довольно забавно и быстро. Были кое-где подтёки красок, но я их замазала чёрным фоном. Ушла еле живая от усталости, забрызганная красками.
Потом я ходила в «Кафе поэтов» как к себе домой, чувствуя, что я там — “пайщик в деле”, тем более что денег я не получила. Там бывало интересно, но бывало и много скандалов. Кафе это было буквально “логовом” футуристов. Давид Бурлюк и Каменский там выступали и часто ночевали. Маяковский ежедневно бывал там, был главным поэтом-чтецом и воином за новое в искусстве. Публика состояла из остатков буржуазии и интеллигенции, бывали и рабочие, и моряки. Страсти так разгорались, что вечера поэзии начали вырождаться в “развлекательное место со скандалами”. Публики много, тесно. Маяковский брезглив чрезвычайно и всегда на страже серьёзной пропаганды искусства, а потому решено было «Кафе поэтов» закрыть. Просуществовало оно недолго — открылось осенью 1917 года, а закрылось 14 апреля 1918 года. ‹...›
Я разыскала и Эльзу Триоле. Она жила в отеле «Istria». Это маленькая гостиница на улице Campagne première, выходящей на бульвар Монпарнас. Мы обрадовались друг другу. Она сказала, что вскоре приедет из Москвы Маяковский. Жить будет тоже в «Istria». Он уже был в Париже в 1922 году, многое видел, общался с людьми искусства, и по возвращении в Москву результатом его наблюдений и размышлений были стихи, статьи и доклады. Он умел “вгрызаться” целеустремлённо и глубоко во всё, что видел и слышал. И на этот раз, конечно, он ехал не для туристических развлечений. Из Парижа он собирался в Мексику и Нью-Йорк. Второго ноября Маяковский приехал и был удивлен, увидев меня у Эльзы.
Маяковский и Эльза мрачные. Мрак оттого, что сразу по приезде Маяковский получил из главной префектуры (полиции) предложение покинуть Францию в двадцать четыре часа, несмотря на то что у него была виза на месяц. Они с Эльзой отправились в префектуру узнать, в чем дело. Попали в кабинет к важному чиновнику. Маяковский не говорит по-французски, и Эльза выясняет обстоятельства дела. Чиновник заявляет:
— Мы не хотим, чтобы к нам приезжали люди, которые, покинув Францию, грубо нас критикуют, издеваются над избранниками народа и всё это публикуют у себя на родине.
Эльза переводит сказанное Маяковскому — он утверждает, что это недоразумение.
— Значит, вы не писали?
— Нет.
Чиновник нажимает кнопку на столе, и в комнате возникает молодой человек, которому он что-то тихо говорит. Молодой человек удаляется и вскоре возвращается — в руках у него газета «Известия».
— Вы, вероятно, узнаёте это? — спрашивает чиновник.
Не узнать напечатанного в «Известиях» стихотворения «Телеграмма мусье Пуанкаре и Мильерану» было невозможно.
Деваться некуда. Маяковский говорит, что ведь французы, очевидно, согласились с его мнением: сняли Пуанкаре с его высокого поста и заменили другим. Эльза пытается убедить чиновника, что Маяковский не представляет опасности для Франции — он не говорит ни слова по-французски. Вдруг Маяковский, узнав, что она сказала, произносит: „Jambon”. Чиновник мрачно повторяет, что Маяковский должен быть через двадцать четыре часа за пределами Франции.
Но литературная общественность Парижа, особенно молодые поэты, узнав, что Маяковского лишили визы, стали срочно собирать подписи протеста. На следующий день я с утра примчалась к Эльзе узнать, как дела Маяковского. Угроза выселения ещё оставалась в силе. Кто-то из поэтов по телефону просил Эльзу и Маяковского быть в двенадцать часов дня в кафе — там должны собраться поэты и привезти петицию с подписями, которых было уже более трёхсот. За Маяковским должен заехать один из поэтов. Владимир Владимирович сказал мне: „Едем с нашими — может, будет интересно”. Мы подъехали на такси и вошли. Это кафе, где часто собирались рабочие. Внутри стояли большие столы из толстых досок, скамьи и табуреты. В одном из отсеков помещения, у окна на улицу, за столом и вокруг собрались желавшие помочь Маяковскому — их было много. Раздались аплодисменты, кричали: „Маяковский!” Он приветствовал всех поднятой рукой. Сел. Все шумели и толпились вокруг. Эльза была переводческой инстанцией между Маяковским и собравшимися. Продолжали входить опоздавшие. Кто-то сказал: „Может, лучше не делать много шума?..” — „Нет, наоборот!”. Выяснилось, что собрались для демонстрации преданности Маяковскому и возмущения префектурой. Кто-то подошёл и показал большие листы с подписями. „Мы добьёмся, вы останетесь в Париже! Выбраны делегаты, поедут разговаривать с полицией...” Маяковский был растроган, нежно улыбался и вдруг опять мрачнел. Его очень раздражало незнание языка. Кто-то предложил читать стихи. Желторотый поэт влез на стол и читал с руладами очень благозвучные стихи. Маяковский достал из кармана монетку — вопрошал и проверял судьбу: выходило “решка”. Он покривился, встал, оперся на палку, поднял руку — все затихли, и он, прочитав стихи, быстро направился на улицу.
Поэтам удалось получить небольшую отсрочку отъезда Маяковского из Франции.
В ближайшие дни, придя к Эльзе, я застала у неё Андрея Петровича Триоле. Он пригласил меня с мужем назавтра провести с ним, Эльзой и Маяковским вечер. „Вечер этот мы проведём, где захочется”,— сказал он. Я приняла приглашение. Назавтра в десять вечера мы с мужем были у Эльзы. Андрей Петрович показался мне человеком лёгким и симпатичным. Он возил и водил нас по разным улицам и площадям, кафе и мюзик-холлам. Наконец, проголодавшись, мы осели в каком-то ресторане. Во время ужина Эльза танцевала, я преимущественно смеялась, рисковала даже острить. Эта моя весёлость удивила и прельстила Владимира Владимировича. Он стал переделывать моё имя — Валентина, Валя, Балетка, Валеточка, Вуалеточка — и, остановившись на Вуалеточке, сказал, что он подозревал во мне „приличного товарища”, но не знал, что я такая весёлая (я думаю, что тут действовала эльзина агитация в мою пользу). „Ну, давайте дружить”, — сказал Маяковский. Мне это предложение, конечно, очень понравилось. Так и началась наша “парижская дружба”. Владимир Владимирович маялся, не находил себе места, был мрачен, зол. Вопрос о визе всё ещё не был улажен окончательно. Визы в Мексику и в США тоже задерживались. Он не мог ничего планировать даже на ближайшие дни. Девятого ноября в письме из Парижа к Л.Ю. Брик он писал:
Когда мы ходим с Владимиром Владимировичем по Парижу, я замечаю, что многие останавливаются и смотрят ему вслед. Весь он сразу вызывал интерес. И лицо, и манера носить одежду (экстравагантностей в форме и цвете одежды ему уже тогда было не нужно), и размашистый, уверенный шаг, и вызывающая манера держаться вольным “гражданином мира” — всё останавливало на нём внимание. На улице у него в руках всегда трость.
Сидим в комнате Маяковского. Он хандрит. Наконец говорит:
— Эльза, сведи нас к «Максиму» сегодня вечером. Надо же мне знать, что это такое. Может, „пойду к «Максиму» я, там ждут меня друзья”, как поётся в оперетте. Тебе наймём танцора, он тебя обтанцует, а мы с Вуалеточкой просветимся.
Я поехала домой одеться по-вечернему. В одиннадцатом часу вечера Маяковский и Эльза заехали за мной.  Эльза хорошенькая, с светло-рыжеватыми волосами, огромными строгими серо-голубыми глазами и удивительно красивыми и лёгкими ножками. Танцевать она очень любила и танцевала все новые танцы с упоением. Я совсем не танцевала, так же как и Маяковский. Итак, мы едем “просвещаться”. По дороге молчим.
Эльза хорошенькая, с светло-рыжеватыми волосами, огромными строгими серо-голубыми глазами и удивительно красивыми и лёгкими ножками. Танцевать она очень любила и танцевала все новые танцы с упоением. Я совсем не танцевала, так же как и Маяковский. Итак, мы едем “просвещаться”. По дороге молчим.
На площади Concorde (Согласия) Владимир Владимирович остановил такси и сказал:
— Я влюблён в эту площадь и хотел бы на ней жениться. Пока хоть постоим и полюбуемся. Оглядев площадь, рассказал, что приходил сюда один, но его немедленно осаждали какие-то мелкие французики и предлагали открытки с изображением площади. В первый раз он наивно протянул руку, чтобы выбрать фото. Сразу же французик, как фокусник, развернул веером пачку открыток, и... там оказалась такая коллекция похабщины, что сразу стало противно.
— Может, сейчас постесняются?
Мы постояли без помех, спокойно любуясь фонтанами и всей композицией площади, действительно чрезвычайно красивой.
Наконец Владимир Владимирович начал бормотать: „Пойду к «Максиму» я...”, и мы пошли на улицу Руаяль, втекающую на площадь Согласия, где находится знаменитый ресторан «У Максима». Когда мы сняли пальто и проходили мимо столиков зала-кафе, гарсон шикарно маневрировал между столиками подносом с фарфоровыми чашками и двумя чайниками, из носиков которых свисали металлические ситечки. Маяковский спросил гарсона:
— Кэс ке сэ?
Тот ответил:
— Tilleul et comomille.
Эльза перевела:
— Это настои из липы и из ромашки, их многие французы пьют перед сном.
Маяковский как-то огрызнулся:
— Вот это мы и будем пить! Всю жизнь мечтал попасть к «Максиму» и пить отвар из липы и ромашек!.. — И он несколько раз повторил слова: — Тийёль э камомий...
Мы проходим в следующий зал — ресторан. Маяковский нарочито долго водит нас выбирать столик. На нас уже обращают внимание ужинающие. Наконец столик выбран так, чтобы видеть небольшую площадку для танцев с безукоризненно натёртым паркетом. Фоном для танцующих служит многолюдный джаз-оркестр. Мы садимся. Официанты ловко подпихнули под меня и Эльзу стулья, а Владимир Владимирович стоит, парадный и красивый, опершись на спинку стула, озирая окрестности... Мы с Эльзой чувствуем, что что-то должно произойти — добром это не кончится.
Когда один из лакеев преподнес Маяковскому карточку еды и вин, он небрежно отстранил чёрный с золотом прейскурант и сказал чётко, но довольно громко:
— Тийёль э камомий, силь ву плэ.
Лакей, не веря своим ушам, отшатнулся и, наведя на всего себя улыбку, изогнулся к Маяковскому и прошептал:
— Pardon, monsieur.
Мы с Эльзой онемели.
— Ну помогите же мне сделать заказ! Этот идиот чего-то не понимает? — И злые чёртики запрыгали у Маяковского в глазах.
Официант опрометью бросился в складки плюшевой портьеры и вновь возник в сопровождении солидного мужчины, имевшего вид, по крайней мере, министра. Он подошёл неторопливо, с достоинством и сказал:
— Отвары подают в зале-кафе. Вероятно, месье не знал этого? А здесь минимум, что можно заказать, — это две бутылки шампанского любой марки на столик.
Эльза перевела.
Маяковский небрежно, с видом лорда бросил через плечо взгляд на метрдотеля и сказал нам:
— Деточки, ну закажите две бутылки шампанского и шесть отваров для начала.
Эльза, более привыкшая к Владимиру Владимировичу, спокойно сказала:
— Ну конечно, Володя, — и с полной выдержкой заказала метрдотелю то, что просил Маяковский. Музыка, как на грех, не играла. К нам прислушивались, на нас с любопытством и удивлением смотрела вокруг сидящая публика. Мне как-то было жаль Владимира Владимировича, но это была необходимая для него разрядка. Окончательно он успокоился только после того, как вслед за шампанским нам принесли два подноса с чайниками ромашкового и липового отвара. Он попробовал очень методично то и другое, скорчил ужасную гримасу и подал знак рукой, чтобы очистили стол от этой “дряни”. Дальше все было хорошо — Маяковский добрел с каждой минутой.
— Ну, а теперь будем ужинать! — сказал он весело и попросил выбрать по карточке что-нибудь очень вкусное.
Пока мы выбирали, он стал окончательно милым. Вскоре официант был послан за танцором для Эльзы. Появился роскошный молодой человек во фраке, и мы любовались, как Эльза хорошо танцует. Еда была вкусная. Маяковский много острил.
Оплату танцора приписывали к счёту. Почти во всех больших ресторанах Парижа имеется штат платных танцоров — мужчин и женщин — главным образом для туристов, у которых нет танцующих спутников. В Париже таких танцоров было много из русских молодых эмигрантов. Они обладали приличными манерами, не позволяли себе никаких вольностей во время танцев и умели хорошо носить фрак или смокинг. Танцевали прекрасно все модные салонные танцы. Эльза танцевала с ресторанным танцором несколько танцев, разговорились, выяснилось, что он русский эмигрант, попавший в Париж и вскоре женившийся на русской, тоже эмигрантке. Она работает в этом же ресторане — “обтанцовывает” “бездамных” мужчин.
Иногда Эльза перепоручала мне функции гида и переводчика при Владимире Владимировиче. Так вот и было, когда он вспомнил, что нужно получить раньше срока заказанные им рубашки на случай, если ему всё же придётся внезапно покидать Париж. Эльза протелефонировала в мастерскую рубашек, и ей сказали, что месье должен немедленно приехать на примерку.
— Что за чушь?— сказал Маяковский.— Я никогда ещё не был на примерке рубашек, но рубашки мне нужны, и я уже заплатил за них кучу денег. Вуалеточка, поедем!
Рубашечное учреждение помещалось в самом изысканном месте Парижа — на площади Вандом, в третьем этаже роскошного дома. Нас поднял туда лифт — ввёз прямо в холл мастерской. Ноги утонули в мягчайшем ковре. Пахло изысканными духами. Нас встретили двое покачивающих бедрами молодых людей — красавцев. Они делали какие-то рыбьи улыбки и движения. Глаза были до того нагримированы, что казались сделанными из эмали, как у египетских мумий. Они провели нас через две комнаты в третью, где, как и в пройденных, были небрежно расставлены круглые столики и очень удобные кресла. Ковры, стены, обивка кресел были мягких тонов — серовато-бежевые. Каждая комната имела свой запах, и в каждой на столиках стояли эротическо-экзотические цветы. В третьей комнате один из молодых людей сказал:
— Здесь мы будем делать примерку, месье. Вот тройное зеркало, в котором месье сможет осмотреть себя со всех сторон. Мадам прошу расположиться в кресле у столика.
Около зеркала стояла сложенная ширма из китайского лака. Её растянули, и Маяковский оказался отгороженным от меня. И все наши разговоры шли уже через эту преграду.
Отделённый от меня Маяковский проверял:
— Вуалеточка, вы ещё здесь? Не оставляйте меня в руках этих идиотов!
Дальше заговорил один из красавцев:
— Может, месье соблаговолит раздеться?
Маяковский:
— Догола?
Красавец:
— Что месье говорит?
— Месье спрашивает, что нужно снять, — перевожу я.
— Ну, если месье будет так любезен... пиджак...
Маяковский (резким тоном):
— Спросите, почему он не хочет видеть меня голым? Красивое зрелище!
Я молчу. Маяковский:
— Почему вы его не спрашиваете?
Я давлюсь от хохота. Удалившийся куда-то незаметно второй красавец вдруг появляется из портьеры и на вытянутых руках изящно наманикюренными пальцами несёт два прямоугольных куска светлого шёлка и говорит:
— Ну вот — всё к примерке подготовлено.
Маяковский ещё более злым тоном говорит:
— Пусть уберут эту дурацкую ширму, идиоты, я же снял только пиджак, а в таком виде вы меня уже видели.
Слыша длинную фразу, красавцы спрашивают:
— Месье желает что-нибудь?
Я перевожу о ширме. Они её складывают к стенке, и я вижу Маяковского. Он уже почти кричит:
— Скажите им, что месье желает визу, и бес-сроч-ную!
Говорю, что я не могу переводить все изрекаемые им глупости, да и красавцы не оценят их. Я советую Маяковскому успокоиться и посмотреть, что будет дальше. А дальше... оба красавца вертятся вокруг Маяковского — один спереди, другой сзади. На запястье одного из них на ремешке подушечка с булавками. Он скалывает на плечах Маяковского два полотнища шёлка, доходящие Маяковскому до колен. Я с радостью вижу в зеркале, что у Маяковского подёргиваются губы и наконец-то он улыбается. Красавцы просят поднять руки, скалывают булавками бока будущей рубашки и подобострастно, с утомлённым видом спрашивают:
— Как месье себя чувствует? Месье все удобно?
Я перевожу. Маяковский:
— Я прошу вас перевести точно: рубашка мне жмёт в шагу, и нечего смеяться, переводите! Сейчас я пошлю ко всем чертям всю эту ерунду!
Я уже смеюсь до слёз. Маяковский срывает рубашку прямо с булавками, бросает в руки растерянных красавцев и просит сказать, чтобы к завтрашнему утру все шесть рубашек были готовы — позднее они ему не нужны. Маяковский быстро надевает пиджак, и мы уходим.
Оказалось, что бывший муж Эльзы, Андрей Петрович Триоле, изысканный парижанин, из уважения к Маяковскому рекомендовал ему это роскошное учреждение. Уходя, Владимир Владимирович сказал:
— Вуалеточка, заключим мир, не сердитесь — ну где бы вы ещё такое увидели?
Дягилев (не имевший уже балета, но не растерявший влиятельных знакомств) может, вероятно, уладить дело с визой. Отказ в визе Маяковскому был сенсацией в художественных кругах Парижа, а Дягилев был любителем сенсаций. Советовали Маяковскому повидаться с Дягилевым, пригласив его пообедать в каком-нибудь очень хорошем ресторане. Владимиру Владимировичу это показалось забавным, да и зол он был на префектуру.
Организовать обед надо было быстро. Выбрано для этой цели знаменитое «Cafe des Anglais», около «Opera» где были отдельные залы для банкетов. Обед заказан. Мы с Эльзой распределили между собой роли: Эльза, знавшая приглашённых французов (всего было человек двадцать пять) и в совершенстве владевшая французским языком, играла роль хозяйки вечера, а моей обязанностью было, сидя рядом с Владимиром Владимировичем, следить за происходящим и переводить ему разговоры. Маяковский блистал красотой, смокингом и накрахмаленной рубашкой. Он тихо сказал мне:
— А все же здорово в меру накрахмалена рубашка — ничуть не мешает и в шагу не жмёт... не зря деньги брали!
Из гостей я знала Андрея Петровича Триоле, чету художников Делоне и Ивана Голля с женой, он — немецкий поэт-коммунист, жена — поэтесса. Все уже были в сборе. Эльза удачно обихаживала всех, любезно переходя от одних к другим. Стол удивлял роскошью сервировки. Несколько фрачных лакеев с салфетками, переброшенными через руку, стоя вдоль стен, перебирали нетерпеливо ногами на месте, как в цирке лошади, готовые в любую минуту приступить к исполнению своих “номеров”, но для этого время не настало: Дягилев ещё не прибыл. Маяковский уже начал раздражаться и процедил басовым шепотом: „Пусть вообще не приходит...” Ждать Дягилева долго — значило обижать остальных. Эльза предложила всем садиться за стол. Места, кроме наших трёх и дягилевского (напротив Маяковского в середине длинной части стола), не были персонально отмечены. Все распределились, как хотели. Вскоре неслышными шагами около стола возник Дягилев.
Я наблюдала и думала: хорошо изучивший эффекты, Дягилев, вероятно, опоздал нарочно, чтобы произвести большее впечатление величественным спокойствием движений, чуть откинутой назад красивой, с серебряными волосами головой, слегка прищуренными, рассеянно смотрящими из-под тёмных утомлённых век, неизвестно на кого и куда, глазами. Он как бы говорил: „То ли я видел в жизни... Ну, посмотрим ещё!..” Маяковский подошёл к нему размашистым шагом, пожал ему руку, довёл до предназначенного ему места и вернулся на своё. Стол был нешикарный, и ему легко было переговариваться с Дягилевым. Французы пили за Маяковского и произносили всяческие восторженные слова, читали стихи. Владимир Владимирович повеселел, и время от времени тихо бросал мне какие-то невероятно смешные замечания, каламбуры и остроты.
Я рассматривала Дягилева, который мне был известен как знаток искусства и организатор русского балета за границей. Когда в 1912 году я училась в Париже живописи, то дважды была в Гранд Опера на спектаклях Русского балета Дягилева и видела великолепие Карсавиной, Павловой, Нижинского, Фокина и других. Поэтому любопытство моё к Дягилеву было понятным и законным. Он не был ещё “всё в прошлом”, но видно было, что жизнь его всё-таки барственно утомила. Меня поразили кисти его рук, какие-то бескровные, кончавшиеся почти голубыми ногтями, руки небольшие и вялые, как бы бескостные. С Владимиром Владимировичем Дягилев обменивался незначительными фразами. Вскоре к нему подошёл метрдотель и, изогнувшись, припал к его уху. Дягилев мягкой рукой отстранил его, встал, вынул на ходу засунутую за жилет салфетку и величественно медленно вышел из зала. Когда Дягилев вышел, Владимир Владимирович сказал мне:
— Ну, Вуалеточка, сейчас решается моя парижская судьба, — и я услышала, как он забренчал монетами в кармане (опять — “орёл” или “решка”).
Я схватила его за руку и сказала:
— Не надо — всё будет хорошо!
— Вы думаете?— по-детски наивно и доверчиво сказал он.
Прошло минут десять, пока вернулся Дягилев. Все взоры были устремлены на него. Маяковский выжидательно замер, следя за тем, как, не торопясь, Дягилев возвращался на место. Он, прежде всего, дал знак лакею, чтобы долили ему вина, а потом с великолепной светской улыбкой, как ни в чем не бывало, обратился к Маяковскому и стал рассказывать о своих планах вновь организовать балетную труппу. Говорил он долго и обстоятельно, но неубедительно, как бы сам не доверяя себе. Нам было известно, что никто из финансировавших его раньше людей уже не верит в его новые антрепризы. Весь этот разговор был зряшным. О деле Маяковского он ни словом не обмолвился. Уже подавали дичь с разными приправами и салатами, когда метрдотель вторично подошёл к Дягилеву, и всё было, как и в первый раз... только он вернулся быстрее и, усевшись на свое место, сразу нагнулся через стол к Маяковскому и оживлённо сказал:
— Мне звонили. Есть шансы, что ваше дело уладится. Немного погодя обещали позвонить ещё раз, и я думаю, что всё будет в порядке. А вот и у меня к вам есть дело: я обдумываю ещё одно предприятие, кроме балета, — «Обозрение», автором которого вижу только вас!
И тут он оживился необычайно, рассказывая, что это «Обозрение» должно быть таким, что его можно будет возить по всем странам мира и везде оно должно иметь ошеломляющий успех:
— Лучшие артисты всех специальностей будут участниками этого грандиозного спектакля. Всё должно быть первоклассным. Основа — музыка, стихи, зрелище. Это не должно быть искусством только ради красоты — те времена уже прошли. Надо найти что-то совсем, совсем новое, и я верю, что только вы, Маяковский, это найдёте! А деньги под это дело найду я!
Конечно, идея такого всемирного «Обозрения», как бы она ни была неправдоподобна, очень захватила Владимира Владимировича, и чувствовалось, как в его воображении уже зарождаются мысли-образы будущего «Обозрения». А Дягилев так увлёкся своей идеей, что появилось в нём даже что-то хлестаковское.
Обед заканчивался, пили уже кофе. Дягилева вызвали в третий раз. Вернулся он скоро, подошёл к Маяковскому и сказал, что, к сожалению, человека, от которого зависит всё, не удалось поймать, но, наверное, все будет сделано завтра утром.
— Вы меня простите, я немолод и устал, а потому — до завтра. Ваш телефон у меня есть.
Сделав общий поклон, он барственно вышел.
Визу Маяковскому продлили по распоряжению де Монзи (кажется, он министр иностранных дел), который сказал: „Il faut faire voir cette queule a Paris”. Маяковский уехал из Парижа только в конце декабря 1924 года.
Маяковский и Эльза были знакомы с художниками Делоне и пригласили меня поехать к ним вместе посмотреть работы. Они в то время были в зените славы. Мы очутились перед солидным домом близ церкви Мадлен. У подъезда висела скромная, загадочная вывеска: «Делоне ателье». Мы поднялись в бельэтаж. Маяковский энергично нажал кнопку звонка, нам открыл и шумно весело встретил нас сам Делоне. За ним стояла интересная молодая женщина, одетая в “живопись”, — его жена. Познакомились. Нас повели через несколько гостиных комнат в меньшую, более уютную, обставленную разнообразно, но удобно. Было много цветов в разных вазах, в плоских чашках, стоявших на столах, столиках, тумбах и на полу. Нам предложили выбрать себе места поудобнее. В этой комнате была высокая ажурная арабская курильница, и из неё медленно вытекал, вился голубоватый дымок. Запах был душный и сладостный. Всё вместе — театр для себя. Началась долгая демонстрация совместных произведений семейства Делоне. Из внутренних помещений выходили две девушки и выносили новые и новые, большие и поменьше, прямоугольные белые картонки. Внутри всё было упаковано в шуршащую папиросную бумагу, из которой мадам Делоне извлекала неправдоподобно красивые мягкие куски “живописи”. Это были разные ткани, расшитые то шерстью, то безумно блестящими шелками, иногда смесь гладких стежков перемежалась с шероховатыми поверхностями, то появлялась живопись красками на материалах разных фактур. Всё переливалось тончайшими оттенками, переходя иногда в растушёвку, напоминавшую растушёвку небес на японских гравюрах. Каждый кусок, включая в себя бесчисленные оттенки, имел свой индивидуальный общий цвет и замысел или был основан на дерзких контрастах. Мы пили коктейли, дышали благовониями из курильницы, папиросная бумага таинственно шуршала, включался разных оттенков и силы свет — то рассеянный, то центрирующий внимание на демонстрируемые вещи. От всего этого кружилась голова, а мне казалось, что я “объелась” этой прикладной живописью. Маяковский сначала оживлённо и метко реагировал на отдельные вещи, но постепенно стал отвлекаться, уходить в собственные мысли и бормотал стихи.
Иногда мадам Делоне набрасывала на себя готовые вещи — то шарф, то пальто, то надевала перчатки и брала в руку сумочку из демонстрируемых красот, а девушки приносили всё новые коробки. Делоне рассказывал, что главные заказчицы — американки. Вещи обходятся очень дорого, так как мастерицы-исполнительницы — художники-прикладники, а мадам Делоне — художественный руководитель и глава фирмы. „Я уже много лет связан с этой фирмой, мной довольны, и я не жалуюсь. Нам нравится, что наши живописные упражнения и поиски входят в быт, то есть находят жизнь в жизни”. Он просил главу фирмы Соню Делоне показать нам фото, иллюстрирующие эти слова. Мы увидели, что и гаражи, и автомобили, и женщины, стоящие около них или сидящие за рулём, и чемоданы, и всякие мелочи — всё едино, и не очень понятно, где кончается одно и начинается другое. Это похоже на городские пейзажи — дневные или ночные; или виделись куски природы в разные времена года, как видишь их, когда при большой скорости движения всё стушёвывается и смешивается, переходит одно в другое и остается абстрактное ощущение видимого глазами и почувствованного эмоционально. Это было похоже и на музыку.
Маяковский довольно быстро окончательно охладел к показу и задумывался о чём-то, что вызвало настороженность Делоне, и демонстрация закончилась. К сожалению, все эти выдумки быстро были вульгаризованы — они прошли в быт в таком упрощённом виде и в таком количестве, что я уже к концу 1925 года в Париже и в Берлине покупала трусики, шарфики и прочее этого рода для подарков по дешёвке в универмагах. Когда мы уходили от Делоне, он предложил показать нам особый, ночной Париж, который он обожает, а туристы не знают. Назначили эту экскурсию через несколько дней — встреча в отеле «Истриа» у Маяковского, в одиннадцать вечера.
Не так давно я узнала, что живописные произведения Делоне и его жены пополнили отдел живописи XX века в Лувре. Это приятно было узнать — семейство очень талантливое.
Несмотря на декабрь, не холодно. Тихая лунная ночь. Идём пешком по бульвару Монпарнас, потом по бульвару Сен-Мишель (или Бульмиш, как его сокращённо называют), по направлению к Сене. Пройдя музей Клюни, сворачиваем направо и попадаем в путаницу узких, как щели, улочек и маленьких площадей. Узкие, высокие трёх-четырёхэтажные домики XV–XVII веков. Закрытые деревянными наружными ставнями окна. В первых этажах кое-где магазинчики. Всё миниатюрное и старопровинциальное. Людей почти не встречаем — очевидно, они уже спят, напившись липового чая. Кое-где видим бедно одетых парней с подругами. Свет луны попадает только на крыши и на целый лес труб — так узки улицы. Когда мы увидали по пути оранжевый фонарь, висящий над дверью, Делоне говорит:
— Сюда рекомендую зайти — очень милый «Баль-Мюзетт» (танцулька).
Входим. Помещение без окон, оно, как тоннель, идёт вглубь дома и разделено толстыми стенами-арками на три помещения. В первом — деревянный глухой прилавок, обитый сверху оцинкованными листами. За прилавком — хозяин, без пиджака, в клетчатой рубашке с засученными рукавами, в жилетке и клеенчатом фартуке. Выйдя из-за прилавка, он нацеживает из больших бочек, лежащих тут же на полу, в графины (пол-литровые и литровые) белое и красное вино. А какой-то мужчина помоложе разносит графины на подносах в следующие помещения, где за длинными деревянными столами на скамьях и табуретах сидят посетители, скорее всего — рабочие. Стены расписаны гирляндами виноградных листьев с гроздьями винограда. Самое дальнее помещение разгорожено деревянной балюстрадой, за которой танцплощадка — пол паркетный.
На стене, завершающей помещение, пристроен небольшой балкончик, очень узенький — для трёх музыкантов. С одной стороны на него ведёт с пола деревянная лесенка. Оркестр состоит из концертино, скрипки и гитары или банджо.

Маяковский очень всем заинтересован и замечает малейшие детали. Садимся за один из общих столов. Делоне заводит разговор с сидящими, и знакомит нас. Маяковский сразу приковывает их внимание, так как Делоне сказал, что это замечательный поэт. И опять Маяковский страдает: он связан незнанием языка. Но, в общем, завязывается взаимная симпатия, начинается взаимное угощение. Вокруг танцплощадки по стенам развешаны гирлянды зелёных листьев, цветов из бумаги и цветных электрических лампочек, зажигающихся только во время танцев и “со значением”: вальсы идут под голубые лампочки, а танго — под красные. Музыка очень типичная парижская (вроде как в фильме «Под крышами Парижа» или из репертуара Ива Монтана — в те годы ни того, ни другого ещё не было) — народные парижские напевы, задорные, лирические, душераздирающие... Мы заходили в несколько таких кабачков и танцулек.
На улицах Делоне обращал наше внимание на мостовые — не асфальтированные, а мощёные камнями. Некоторые улочки были сплошь мощёнными, другие — с тротуарами, выложенными крупными каменными плитами. Мы ходили долго. Около танцулек и в очень тёмных улицах тихо и бесстрастно, на всякий случай, ходили по двое, в пелеринах и каскетках, французские полицейские, такие знакомые нам по французским фильмам. Окончательно уставшие, мы стали просить Делоне вывести нас к такси.
Однажды Эльза куда-то должна была уйти по своим делам, а Владимир Владимирович предложил пойти побродить на Большие бульвары. Садимся в кафе за столик на улице. Подкрепляемся кофе и коньяком. Отдохнули. Повеселели. В Маяковском возродилась ненасытная жажда впечатлений и познаний. На стене огромная вывеска из электрических лампочек «Танцы живота!» то зажигается, то меркнет, хотя совсем ещё светло. Владимир Владимирович бодро предлагает зайти. Можно не раздеваться. Берём билеты. Тесный зал в первом этаже. Народу полно. Места не нумерованы — скамейки. Сеансов нет: показывают непрерывный танец живота — входи, когда хочешь. Пахнет потом. Маленькая сценка приподнята. На ней по бокам чудовищные золотые рога изобилия с пыльными, грязными розами, на сцене задник, изображающий всяческий Восток, от танцев он всё время колеблется волнами, помост поскрипывает и ходит ходуном.
Мы вошли, когда танцевали три “восточные” потрёпанные женщины явно европейского происхождения. На грудях — традиционные восточные золотые чаши на лямках-цепях, но груди или малы, или велики по чашам. Тела обвисшие и несвежие, но техника танца живота сильно развита, и иногда кажется, что животы носятся самостоятельно в воздухе в отрыве от тела. Лица, сильно загримированные под Восток, потеют сквозь краску и пудру, так же как вялые тела. Всё идёт под переменные ритмы барабанчиков. Трио сменилось одной “красавицей” с чудовищным полудохлым удавом, которого она с трудом обкручивала вокруг себя: удав хотел спать или умереть. Танцовщица тоже. Она без туфель, пальцы ног в сплошных мозолях и кольцах с цветными каменьями. Нам стало противно и плохо. Расталкивая “ценителей прекрасного”, мы выбрались на свежий воздух из этой порнографической грязной забегаловки. Маяковский сказал: „Так нам и надо!” Трудно было прийти в себя, и было совсем не смешно, до того нас доконала “восточная нега”.
Мы часто втроём, а иногда к нам присоединялся мой муж, очень занятый своими командировочными делами, бывали на Монпарнасе, в очень посещаемом тогда кафе «Ротонда». Сидели мы независимо от погоды обычно на улице под тентом. Внутри кто-то или что-то играло модные песенки: фокстроты, слоутроты, уанстепы, и Эльза, сидя за столиком, перебирала ножками под музыку. Маяковский играл сам с собой в “орёл” или “решка” или бубнил какие-то слова в поисках рифмы или словосочетаний; остроты, афоризмы, меткие замечания так и сыпались из него. Жалко, что никто из нас не “подбирал” их. Вот только помню, как однажды, когда заиграли очень модный уанстеп с пением, он насторожился и спросил:
— Это про что?
— Про любовь, конечно, — сказала Эльза.
И он, мгновенно вступив в музыку, почти пропел:
— Люблю я вас ночью, люблю я вас днём, люблю я вас до, между тем и потом.
И весь вечер каждый из нас мурлыкал себе под нос эту неожиданную, но очень отвечающую музыке импровизацию.
Иногда Владимир Владимирович говорил: „Идёмте есть макароны”,— и мы шли в маленький итальянский ресторанчик около Пантеона — там были очень низкие цены, по карману студентам, их и бывало там полно. Они ели, пили, вели горячие политические споры, высмеивали и изображали в лицах отдельных профессоров Сорбонны. Маяковский просил нас с Эльзой слушать и переводить ему, что они говорят. Студенты приводили с собой весёлых подружек, с которыми танцевали на улице, так как в ресторанчике было слишком тесно. Маяковский говорил, что ему нравится этот ресторанчик — в нём вкусные макароны и симпатичные парни.
Четвёртого декабря приехал в Париж первый посол СССР во Франции — Леонид Борисович Красин. На нашем посольстве подняли флаг. Маяковский ходил в посольство и общался с сотрудниками, приехавшими из СССР, среди которых у него были друзья. Тяжёлое изнывание его и бродяжничество по Парижу кончилось. Он начал работать и даже питаться стал часто дома, в отеле «Истриа». Но его тянуло в Москву.
Вскоре Маяковский покинул Париж и вернулся на родину. ‹...›
В 1926 году Маяковский, приехав в Ленинград, звонит по телефону и просит поехать с ним вечером в рабочий клуб на Васильевском острове — близ Гавани. Он будет там читать стихи. „Это ответственное для меня выступление, и мне нужна ваша помощь”. Я соглашаюсь, хотя удивлена — какую помощь? Мы не виделись с Парижа. Вечером он заехал. По дороге говорит, что ему важно знать, на что и как будут реагировать рабочие. Он просит меня всё запоминать и ему рассказать — „кроме того, и сами послушаете — это мне тоже интересно”.
Смутно помню — вошли в подъезд старого кирпичного здания. Нас встретили несколько рабочих. Повели по мрачным проходным помещениям. Накурено. Свет в половину накала — потолки тонут в мраке. Когда проходили в зал (большой и неуютный, как сарай), на Маяковского оглядывались и говорили: „Пришёл!”, „Айда!”, „Пошли!” Мне предложили место в первом ряду, но я села подальше, чтобы менее заметно наблюдать вокруг.
Бледный, сосредоточенный, даже смущённый (глаза спрятались), Маяковский на ходу бросил: „Значит, условились?” — „Счастливо!” — сказала я. Он быстро прошёл по среднему проходу. Взбежал по приставленной лесенке и оказался на пустынной сцене. Посредине маленький стол, на нём — графин с водой, стакан. Сцена освещена тускло. В зале свет не гасят. Ряды заполнились рабочими и работницами — кто в куртке, кто в ватнике. Похоже на митинг, а не на вечер поэзии.
Маяковский начал читать. Постепенно всех “забирало”, и настала полная тишина. Вокруг меня, особенно женщины, подталкивая соседей, шепотом спрашивали: „Это про что? Чего-чего?” Но когда дошло до стихов про Америку и Мексику, многие даже аплодировали, и у всех был довольный вид — освободились от „груза непонимания” и очень обрадовались. Вскоре уже кричали:
— Ещё, ещё!
Объявили перерыв. Маяковский бросился торопливо прямо ко мне. Вытащил меня за руки из моего ряда, как из воды, и быстро, лавируя по проходу, тащил меня за собой в вестибюль, где все курили. Мы встали в углу. Маяковский, нервно прикуривая папиросу, спрашивал:
— Что говорили? Как я читал? Понимали?— Он так был взволнован, точно разговор шёл о важном экзамене — сдал или провалился.
Я доложила все, что прослушала, увидела и даже записала. Он крепко и ласково пожал мне руку. К нему подошли устроители вечера — благодарили и восторгались. После перерыва народа прибавилось, все уже наперегонки занимали места. При появлении Маяковского бурно захлопали и сразу замерли. Маяковского как подменили — даже голос стал более звучным и мощным. Читал очень хорошо. Был внутренне весел и бодр, стал красивым. Очень понравились куски из поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Наш марш», «Хорошее отношение к лошадям» и многое из «Моего открытия Америки». К нему привыкли и даже просили повторить некоторые стихи из первого отделения.
— Ишь! Как ловко одно к другому прикладывает да тебе в голову вкладывает — замечаешь?— говорил сидящий передо мной старик молодому рабочему.
— Здорово он их! Хлестко! А как про сахар-то? „Белый, белый...” Правильно, всё правильно!
— Маяковский, спасибо! Уважил рабочий класс!
В тот приезд Маяковский подарил мне книжечку «Солнце в гостях у Маяковского», изданную в Нью-Йорке в 1925 году с иллюстрациями Давида Бурлюка. На книжечке он написал: „Вуалеточке В. Маяковский”. Она находится теперь в Музее Маяковского. ‹...›
13 апреля. Четыре часа дня. Кончилась актёрская репетиция. С арены все ушли. Теперь она в моём распоряжении до шести вечера, когда начнут готовить вечернее представление. Монтируем какие-то домики, впервые попадающие на арену, они ещё не окрашены. Добиваемся точного выноса вещей на арену и их уборки. Некоторые вещи вижу впервые и огорчаюсь: ошибки в размерах, форме, окраске... Хожу по арене раздражённая. Время идёт — толку мало.
Внезапно... в полном безмолвии пустого цирка раздается какой-то странный, резкий, неприятный, бьющий по взвинченным нервам сухой треск, быстро приближающийся к той стороне арены, где я переругиваюсь с главным плотником. Оборачиваюсь на звук... Вижу Маяковского, быстро идущего между первым рядом кресел и барьером арены с палкой в руке, вытянутой на высоту спинок кресел первого ряда. Палка дребезжит, перескакивая с одной деревянной спинки кресла на другую. Одет он в чёрное пальто, чёрная шляпа, лицо очень бледное и злое. Вижу, что направляется ко мне. Здороваюсь с арены. Издали, гулко и мрачно, говорит:
— Идите сюда!
Перелезаю через барьер, иду к нему навстречу. Здороваемся. На нём — ни тени улыбки. Мрак.
— Я заехал узнать, в котором часу завтра сводная репетиция, хочу быть, а в дирекции никого. Так и не узнал... Знаете что? Поедем покататься, я здесь с машиной, проедемся...
Я сразу же говорю:
— Нет, не могу — у меня монтировочная репетиция, и бросить её нельзя.
— Нет?! Не можете?! Отказываетесь?— гремит голос Маяковского.
У него совершенно белое, перекошенное лицо, глаза какие-то воспалённые, горящие, белки коричневатые, как у великомучеников на иконах... Он опять невыносимо выстукивает какой-то ритм палкой о кресло, около которого стоим, опять спрашивает:
— Нет?
Я говорю:
— Нет.
И вдруг какой-то почти визг или всхлип...
— Нет? Все мне говорят “нет”!.. Только нет! Везде нет...
Он кричит это уже на ходу, вернее, на бегу вокруг арены к выходу из цирка. Палка опять визжит и дребезжит ещё бешенее по спинкам кресел. Он выбегает. Его уже не видно...
Что-то почти сумасшедшее было во всём этом. Стою ошарашенная. Очень бьётся сердце, дрожу, ничего не понимаю — что, почему? Что это — каприз? Ведь я работаю над его рождающимся произведением... Он ведь человек “бывалый” и в театре, и в цирке! „Как же быть? Как же быть?..” — бубнит у меня в голове. Слышу голос с арены:
— Товарищ Ходасевич, так что же, будете работать дальше?
Говорю:
— Да, сейчас,— а сама бегу к выходу, куда исчез Маяковский.
Выскакиваю на улицу, настигаю его около автомобиля (он привёз из-за границы маленькую машину «Рено») и говорю неожиданно для себя:
— Владимир Владимирович, успокойтесь! Подождите несколько минут, я поговорю с рабочими, я поеду с вами, но дайте договориться — пусть без меня докончат монтировочную.
Бегу обратно на арену, быстро договариваюсь, направляюсь к выходу. Вижу: Маяковский стоит прекрасный, тихий, бледный, но не злой, скорее мученик. Думаю: „Пусть каприз, но это же Маяковский! Правильно, что я согласилась!” Владимир Владимирович, ни слова не говоря, подсаживает меня в машину, садится рядом со мной и говорит шоферу:
— Через Столешников.
Мы едем. Сначала тягостное молчание. Потом он поворачивается, смотрит на меня и ласково, с какой-то виноватой полуулыбкой говорит (а я вижу, что глаза его думают о другом):
— Я буду ночевать у себя в Лубянском проезде — боюсь проспать репетицию, прошу вас, позвоните мне туда по телефону часов в десять утра. — Говорит, а глаза отсутствуют.
Проехали Петровские линии, медленно сворачиваем в Столешников — народу в этот час много. Проехали не более трёх домов. Вдруг голос Маяковского шофёру:
— Остановитесь!
Небольшой поворот руля, и мы у тротуара. Владимир Владимирович уже на ходу открывает дверцу и, как пружина, выскакивает на тротуар, дико мельницей крутит палку в воздухе, отчего люди отскакивают в стороны, и он почти кричит мне:
— Шофёр довезёт вас куда хотите! А я пройдусь!..
И быстро, не поворачиваясь в мою сторону, тяжёлыми огромными шагами, как бы раздвигая переулок (люди расступаются, оглядываются, останавливаются) направляется к Дмитровке.
Не знаю, слышал ли он, как я, совершенно растерявшаяся, высунулась в окошко машины и крикнула ему вдогонку: „Какое хамство!” (Вероятно, не слышал — надеюсь!..)
Шофер спросил:
— Куда ехать?
— Обратно в цирк,— сказала я в каком-то полуобморочном состоянии.
Всё было противно, совершенно непонятно и поэтому — страшно. Мы обогнали Владимира Владимировича. Он шёл быстро, “сквозь людей”, с высоко поднятой головой — смотрел поверх всех и был выше всех. Очень белое лицо, всё остальное очень чёрное. Палка вертелась в воздухе, как хлыст, быстро-быстро, и казалось, что она мягкая, эластичная, вьётся и сгибается в воздухе. Кто-то заслонил его...
14 апреля уже с восьми утра я была в цирке и вела монтировочную репетицию, а в одиннадцать часов было начало первой сводной репетиции всей меломимы с артистами. Накануне я вернулась домой расстроенной и недоумевающей — почему меня обидел Владимир Владимирович? На сердце было растерянно и тревожно — за меломиму, за мою работу (многое, конечно, не получалось так, как задумано, и это всегда оскорбительно — поди разбирайся, кто виноват. Да обычно и времени и денег на переделки уже нет). Взяв себя в руки и вспомнив, что надо звонить Маяковскому, я с небольшим опозданием бегу к телефону в кабинет директора, находившийся на втором этаже, на лестнице встречаюсь с директором.
— Как монтировочная? Куда вы так торопитесь? — спрашивает он, бренча связкой ключей в кармане.
Отвечаю:
— К телефону. Дайте, пожалуйста, скорее ключ от вашего кабинета, меня ждут на арене, а я обещала позвонить Владимиру Владимировичу и сказать, в котором часу начинается актёрская репетиция — он хотел приехать...
Директор перебивает меня и спокойно, медленно говорит:
— Не старайтесь — Маяковского нет. Мне только что звонили...
Я его перебиваю и говорю:
— Так вы ему сказали, что репетиция в одиннадцать?
— Я же вам говорю, его нет... ‹...›
Мама спрашивает: „Она его жена?” Отец: „Не знаю, это неважно — они, кажется, живут вместе. Оба очень талантливые — она из тех Гончаровых, что и жена Пушкина”. У меня всегда ушки на макушке, настороже. Как интересно! Молодая художница! Да ещё Наталия Гончарова! Я всё ещё смущаюсь чужих и не еду с отцом встречать художников на станцию Кусково. Я думала: хоть бы им у нас понравилось! И даже украсила голову своего чёрного пуделя Каро ярко-красным бантом — от украшения бантом хвоста отказалась. А вдруг им будет не смешно?
За обедом я исподтишка рассматривала художников. Оба молодые, высокие. Он — широкоплечий, белобрысый, маленькие светлые весёлые глазки, которые при смехе превращаются в хитрые щёлочки-штришки. Шумный, слегка шепелявит и сам себя перебивает, мысли опережает словами. Нападал он на человека внезапно, прицепившись к какому-нибудь слову, и тут уж не отпустит! Он внедряет в собеседника, или, вернее, слушателя, хочет тот или нет, новые свои соображения о живописи. Иногда отец пытался что-то опровергать, но... где там! На него выливался такой поток убеждений, что он, не соглашаясь, сдавался... Всё равно переубедить Ларионова было невозможно.
Вдруг, как бы опомнившись, он серьёзно и вопросительно взглядывает на Гончарову, притихает на секунду, и опять словесная бомбардировка! А она чуть сдвигает брови и внимательно и терпеливо следит за ним. Я перенесла свои наблюдения на Наталию Сергеевну: узкая в бедрах, стройная, без жеманства, и всё — всерьёз.  Маленькая головка на высокой шее. Лицо — без мелочей, очень точно нарисовано. Мимика скупая, волосы чёрные, или почти, причёсаны на прямой пробор, туго затянуты по голове, очерчивая затылок, а внизу, у шеи, завёрнутые в маленький, еле заметный пучочек. Брови очень чёрные, тонкие, спокойные. Овал лица чёткий. Маленький носик с энергично вырезанными ноздрями. Глаза — карие, небольшие, пристально смотрящие, обведены чёрной бахромкой ресниц. Рот не маленький. Прямая линия стыка губ придаёт выражение строгости. Уголки — юно припухлые и приподнятые. Подбородок короткий. Руки и ноги плоские и довольно большие. Никаких прикрас: ни косметикой, ни в одежде. Кожа гладкая, чистая. Она вся очень русская. Красивой не назовешь, но... Её бы прекрасно написал Аргунов или Левицкий. Одета — без моды, очень просто и складно, как может себе позволить женщина хорошо сложенная.
Маленькая головка на высокой шее. Лицо — без мелочей, очень точно нарисовано. Мимика скупая, волосы чёрные, или почти, причёсаны на прямой пробор, туго затянуты по голове, очерчивая затылок, а внизу, у шеи, завёрнутые в маленький, еле заметный пучочек. Брови очень чёрные, тонкие, спокойные. Овал лица чёткий. Маленький носик с энергично вырезанными ноздрями. Глаза — карие, небольшие, пристально смотрящие, обведены чёрной бахромкой ресниц. Рот не маленький. Прямая линия стыка губ придаёт выражение строгости. Уголки — юно припухлые и приподнятые. Подбородок короткий. Руки и ноги плоские и довольно большие. Никаких прикрас: ни косметикой, ни в одежде. Кожа гладкая, чистая. Она вся очень русская. Красивой не назовешь, но... Её бы прекрасно написал Аргунов или Левицкий. Одета — без моды, очень просто и складно, как может себе позволить женщина хорошо сложенная.
После обеда отец предложил пойти на пруды — их два в лесу, по обе стороны просёлка, примерно полверсты от дачи. Лодка — на левом пруду. Берега густо зацвели жёлтыми ирисами. Отец гребёт. Ларионов — на руле и всё время говорит: „Наташа — до чего здорово! Наташа — смотри! Наташа — видишь? Наташа, Наташа, Наташа!..” Я сижу рядом с Гончаровой на средней доске-скамейке и блаженствую — так мне Наталия Сергеевна вся нравится. Казалось, что от неё пахнет чистотой. Говорит она не быстро, поразмыслив, в утвердительной интонации, довольно низким, глуховатым голосом. В ней, как в иконах,— строгость. Сижу, почти прижавшись к ней. Рукава у неё короткие. На запястье правой руки старинный браслет — тонкая золотая проволока, к которой приделан, как пряжка, большой тёмно-лиловый аметист, взятый в золотые лапки. Очень неожиданным кажется это женское украшение на её крупной юной руке. Кисть руки она опустила в воду и, видно, наслаждается струями воды, протекающими у нее между пальцами,— день жаркий.
Вдруг я ощутила, что мне очень хочется ласково высказаться этой художнице. Я нагнулась через её колени к воде и, как бы нечаянно, нежно притронулась к браслету и погладила её мокрую руку. Она повернулась ко мне, удивлённо посмотрела и чуть лукаво улыбнулась. Уголки ее губ вздёрнулись. Мне оба понравились, но к Гончаровой больше тянуло — ведь художница!
К вечеру они ушли с огромными букетами сирени, ирисов и полевых цветов,— мне было очень грустно. Пригласили осенью приходить к ним, покажут, что наработают за лето. „Приходи и ты обязательно,— сказал мне Ларионов,— думаю, мы подружимся”.
С осени я действительно подружилась с ними. Жили они близко, в Трёхпрудном переулке, дом 7, в красном кирпичном доме. Мастерской нет — просто пустынная комната в какой-то мрачной квартире. Удивило, что мольберт один. На нём обычно — работа Гончаровой. Помню Ларионова, бросающегося с кистью в руке через всю комнату к холсту, кое-как отрезанному и прибитому прямо к стене на выцветшие и замазанные красками обои. Я сажусь на табуретку, поодаль, и молча смотрю. Время от времени Михаил Фёдорович вспоминает обо мне и говорит: „Ну, смотри, смотри, учись... Нравится? Здорово?”
Двери из комнаты ведут в переднюю и в коридор, куда уходит Наталия Сергеевна и возвращается с кипятком и чаем. Для чаепития и закуски имеется небольшой стол, но чаще пришедшие друзья садятся на пол, подстелив под себя бумагу. Тарелок мало, есть стаканы и весёлые цветные чашки. Этот разлад в хозяйстве никому не мешает. Здесь царит искусство — дерзкое, настоящее, молодое, и о нём все помыслы, разговоры, споры.
Запомнилось такое. Набралось несколько художников, а Ларионов говорит: „Наташа, а где же пирог?” Она спокойно отвечает: „Сейчас принесу” (я никогда не видела её суетящейся). Она появляется из коридора с огромным железным листом, на котором — пирог. „Вот эта половина с ливером, а другая с капустой, кому что?” Михаил Фёдорович нагибается к сидящим на полу и наливает одним водку, другим вино. Из тех, кого там видела, вспоминаются: Давид и Владимир Бурлюки, Лентулов, А.В. Грищенко, Вл. Денисов, Илья Машков.
В ближайшее лето Наталия Сергеевна и Ларионов ездили на юг в заповедник Аскания-Нова. Привезли много этюдов и рисунков: пейзажи, животные, натюрморты. Отец купил у Ларионова два великолепных больших натюрморта — один с камбалой, другой с овощами и розами. Особенно камбала мне нравилась. Вся вещь бело-голубая — воздух, солнце! Казалось, что захлебнёшься светом и растаешь в жарком мареве. Мне было тринадцать лет, когда Гончарова написала мой портрет, поколенный — я стою. На мне серо-голубоватое платье, шапочка и муфта из тёмно-коричневого меха. Позировала я раз десять. Получился очень красивый по цвету портрет, но по живописи больше похожий на работу Ларионова. Портрет был куплен отцом. Где он теперь, не знаю.
Отец говорил, что Ларионова он очень любит, как сына. Он слегка шальной, но редкостно талантливый и влюблённый в живопись, а того, кто против лучизма,— загрызёт! Однажды прихожу домой и, пока раздеваюсь в передней, слышу крик Ларионова в кабинете отца: „Лучизм! Только лучизм! Я теперь это понял, и мне открылся новый мир живописи! Понимаете? Это надо видеть! Бегу писать дальше, забежал кое-что посмотреть у вас в библиотеке, да и Наташа ждёт!”
Не помню, как объяснял лучизм Ларионов, но выглядело это так: Ларионов как Ларионов (по цвету, во всяком случае), но каждый предмет испускает лучи, большие — длинные и маленькие — короткие. Они забавно пересекаются и слегка всё путают... а то просто одни лучи. ‹...›
Последний этап нашей командировки — Париж. Сентябрь. По-родному хочется увидеть Гончарову и Ларионова. Узнаю их адрес: недалеко от нашей гостиницы. Находим нужный дом. Ползём по винтовой узкой, крутой каменной лестнице. Дом старый, пяти- или шестиэтажный — нам нужен последний. На каждом междуэтажье вонь — приоткрыта дверка в крошечную уборную: дыра в полу и огромные две ступени. Пахнет ещё кошками. Ну, думаю, бедные, живут неважно, несмотря что “знаменитости”! (Русский балет Дягилева прославил их на весь мир.) Дошли до верха — на площадке чуть приоткрытая дверь, номер квартиры соответствует. Звоню. Издали голос: „Входите”. Узнаю голос Ларионова. Пустынная большая низкая комната, странно низко от пола два или три окошка — закрыты (чтобы не сквозило, очевидно). Наискось от входной двери, ужасно нелепо посередине комнаты, стоит очень низкая железная, как в госпитале, кровать, на ней — Михаил Фёдорович, немного раздобревший, но очень, очень похожий, милый, дорогой! Глазки — весёлые щёлочки, носик слегка кверху, стриженый или облысел? Сразу и не пойму от радости. Бросаюсь целоваться, внезапно вскрик, падает навзничь с перекошенным от боли лицом и стонет:
— Сейчас, сейчас, подождите, отойдёт...
Вот бедняга! Стоим в растерянности — не знаем, что? Чем помочь? Ну как же так? Болен — и никого! Где Наталия Сергеевна? Где какие-нибудь друзья? Вот так так! Не ожидала, что так. Жалко почти до слёз.
И сразу — весёлый голос:
— Как здорово! Вот неожиданно! Валечка, Андрей, кажется, Романович? Поищите, должен быть стул и одна табуретка — садитесь ближе ко мне!
Спрашиваю, что с ним.
— Говорят разное, уже три недели вот так лежу. Сегодня лучше, вчера купили мне лошадиное лекарство, не смейтесь — такое же человеческое не помогло, а этим намазался — и вот уже легче.
На полу — большая бутыль с белой сметанообразной массой, на этикетке — лошадь и инструкция по-английски: «Для чистокровных лошадей».
Я спрашиваю, где Наталия Сергеевна.
— Она живёт не здесь, работает и тут и не тут, а, в общем, работаем много. Недавно выставка была, после Испании. Успех! Ну, вот сама расскажет, скоро должна прийти.— Говорит он быстро-быстро, как всегда слегка пришепётывая.
Вскоре пришла Гончарова. Изменилась, постарела (а рано бы ещё), лицо строгое и измученное. Она всегда была сдержанной, и всё же я ожидала заметить в её глазах, что она рада встрече. Пусть она скрытная — может, ей плохо, но я-то всегда её очень любила! Как странно! Возможно ли, что жизненные перипетии могут так изменить внутренний мир человека или переделать заново? Формально всё было: мы и поговорили, и она повела нас во вторую комнату, более светлую, показала много своих работ — натюрмортов и целую серию изумительных “испанок”. Причем говорила очень интересно и умно. Запомнилось сказанное:
— Никогда не надо насиловать себя, и если не получается — оставить эту работу и начинать заново, на новом холсте. Через какое-то время посмотреть, и станет ясно, на чём споткнулся, а бывает, что и недооценил или показалось...
Ещё показывала груды альбомов, изрисованных иногда даже с двух сторон листа бумаги. Это преимущественно пейзажи и интерьеры, взятые с каких-то неожиданных точек зрения (увидать в натуре это нельзя, но можно вообразить). И как это она умела так думать, ставить себе такие задачи и изображать! Увидав её работы, да ещё в таком количестве, я совершенно растаяла и выбросила из себя те неприятные мысли и чувства, которые поначалу возникли.
Но вот входит какой-то не очень молодой мужчина и, обращаясь к ней по-французски, на “ты”, говорит: „Je viens te chercher” (я зашёл за тобой). Она знакомит нас, он называет себя: журналист такой-то (я забыла фамилию) и подаёт руку. Вид у него человека, который устал и торопится... Гончарова сказала ему по-французски, но с очень русским акцентом: „Сейчас пойдём...” Очевидно, она не офранцузилась ни в своём творчестве, ни в произношении. Надо было и нам уходить. Мы уговорились, что ещё встретимся, она дала свой телефон. Ларионов был задумчив (что ему несвойственно), и мы грустно расстались, пообещав тоже ещё увидаться. Но этого не случилось.
Вскоре я позвонила Наталии Сергеевне, и мы встретились в кафе «Ротонда» под вечер. Она была очень задумчивая и связанная. Не хотела ни пить, ни есть. После того как мы с мужем выпили чая, она предложила пойти гулять и посидеть около Лувра на площади Карусель.
— Там очень тихо и красиво на закате под вечер... — сказала она.
По дороге разговор не ладился. Я расспрашивала о Ларионове — ему лучше. Пришли. Мы сели на одну из скамей около круглого бассейна, и она сказала:
— Мне очень тяжело видеться с вами, а слушать ещё труднее — мы уж никогда не сможем понять друг друга до конца. Жизнь разделила... Поэтому давайте говорить, не касаясь друг друга, о чём угодно, хотя бы о том, как здесь прекрасно, спокойно!..
Вот такая была у нас встреча с Ларионовым и Гончаровой. Она была, конечно, не очень приятной, и я не того ждала.
Больше мы не встречались.
Владимир Евграфович Татлин, конечно, явление особенное. Ни на кого не похож ни внешне, ни внутренне. Излучает талант во всём, за что бы ни брался.
 Внешность его далека от красоты. Очень высокий, худой. Узкое длинное лицо с нечистой, никакого цвета кожей. Всё на лице некрасиво: маленькие глазки под белесыми ресницами, над ними невыразительные обесцвеченные брови — издали будто их нет, нос большой — трудно описать его бесформенность, бесцветные губы и волосы, которые падают прямыми прядями на лоб, похож на альбиноса. Движения нарочито неуклюжие, как бывает у борцов, а на самом деле он ловок и лёгок в движениях.
Внешность его далека от красоты. Очень высокий, худой. Узкое длинное лицо с нечистой, никакого цвета кожей. Всё на лице некрасиво: маленькие глазки под белесыми ресницами, над ними невыразительные обесцвеченные брови — издали будто их нет, нос большой — трудно описать его бесформенность, бесцветные губы и волосы, которые падают прямыми прядями на лоб, похож на альбиноса. Движения нарочито неуклюжие, как бывает у борцов, а на самом деле он ловок и лёгок в движениях.
На нём морская полосатая тельняшка, пиджак и штаны разных тканей — всё широкое и даёт возможность для любых движений. Отбывал воинскую повинность на флоте — привык к открытой шее. Руки большие, не холёные, ловкие и всегда очень чистые. Говорит баритональным басом, как-то вразвалку, с ленцой, задушевно-проникновенно поёт, аккомпанируя себе на бандуре, которую сам сделал.
Первые же его слова — они всегда неожиданны, заинтересовывают и приковывают внимание, и уши развесишь. Он понимает это и “нажимает”, и вы уже в его власти (если он заинтересован в этом), он вам уже нравится, и вы понимаете, что это совершенно особый человек. Я думала: влюбиться в него нельзя, но также и не полюбить его по-товарищески — невозможно. Так и случилось. Его это, очевидно, устраивало.
В одном из первых наших разговоров я спросила, где он учился. Он ответил, что в Пензенском художественном училище.
— Очень надоело рисовать натурщиков, стоящих на “одной цыпочке” и держащих в поднятой руке кусочек сахара, а профессор требует оттушёвки сахара до полной иллюзии. Оттушевывать удавалось, но как-то позорно глупо казалось этим заниматься, — со вздохом и грустной полуулыбкой сказал он.
Второй рассказ — о жизни в Москве:
— Жилось трудно. Услышал, что в Петербурге какая-то княгиня устроила выставку прикладного народного искусства, её повезут в Берлин, ищут живых экспонатов, нужен бандурист, хорошо бы — слепец. Очень захотелось за границу. Поехал с бандурой в Петербург на выставку к княгине. Сказал: могу петь и слепцом быть. Просили показать. Изобразил. Понравилось. Договорились по пять рублей в день. Проезд ихний. Вызовут, когда ехать. Вернулся в Москву. Шью украинские шаровары и репетирую слепца. Страшновато и неловко, но думаю: с закрытыми глазами — выдержу. Вот и поехал. У выставки, и у меня в частности, большой успех. На открытии и Вильгельм Второй, и вся знать немецкая были. Я пел. Трогали мою вышитую рубашку и меня. Какие-то курфюрстины демократично жали руку и благодарили. Я говорил „данке”, „данке” и целовал холёные ручки, а в щёлки глаз поглядывал — были и хорошенькие, но крупноватые.
До открытия выставки и вечером, когда закрывается, я сам себе хозяин — хожу по музеям и вообще. Живу опять впроголодь — коплю деньги. Думаю: как кончится выставка, съезжу в Париж — на сколько денег хватит. Получилось ненадолго. Многое всё же поглядел. Но деньги кончались — надо было в Москву. Вернулся.
И вот, Валечка, имею к вам предложение. Выслушайте: живу сейчас в Москве на Остоженке в старинном флигеле, а в саду, в главном особняке, мастерская икон — там подрабатываю, пишу иконы по старым плохим образцам и калькам. Работа скучная, бездарная, боюсь, завяну, и всё равно не укладываюсь расходами в заработок.
Хорошо бы собрать несколько художников, вас в том числе, и работать всем в моей мастерской — она не очень специальная, без верхнего света, но размером порядочная, с печкой, да и вторая комната есть — там моя лежанка, там и плита. Дров купил, и тепло топить можно. Брали бы мы натуру и работали бы. Всем полезно и мне хорошо. Расходы на всех бы разложили, и на еду себе уже как-нибудь раздобуду! Я с несколькими художниками говорил: два брата архитекторы Веснины, Фальк, Денисов, Грищенко, Серпинская (вроде поэтесса — очень пристала), и ещё наберутся. Да много-то и не нужно. Примыкайте к нам и вы! Пол мыть, печку топить и вообще порядок соблюдать буду я, да и на бандуре подыграю. Ну как?
Я сразу согласилась и назавтра уже была на Остоженке. Осмотрела — работать можно, а с Татлиным мне было душой спокойно, я верила в его хорошее ко мне расположение, в его прекрасные работы и думала: как мне повезло!
Так и было, как говорил Татлин. Все, кого он назвал, бывали почти ежедневно. Натурщицы и натурщики приходили к одиннадцати утра — до трёх часов дня. Татлин вставал рано, так что кто хотел, мог приходить до натурщиков. Бывало — кто-нибудь ставил натюрморт. Иногда мы брали ещё модель на вечерний рисунок и наброски. Одним словом, все были увлечены работой, разговорами, спорами и быстро сдружились. Все были разного возраста, работали и думали по-разному. У всех — поиски себя и проверка своих живописных мыслей, выдумок и верований. Убедительнее всех в смысле уже выявляющейся индивидуальности был Татлин. У него получались не этюды с натурщиков и натурщиц, а вполне законченные, точно рассчитанные произведения — монументальные, убедительные и красивые по форме и цвету. Никаких теорий он не сочинял и не провозглашал, а работал зорко, в поисках подтверждения своих замыслов, вглядываясь в натуру, но не был её рабом и копиистом.
Однажды по секрету от остальных он сказал мне, что хорошо бы поработать пастелью, но покупная пастель, как он говорил, может стоить человеку здоровья — некоторые пастели тверды, как гвозди, и проедают бумагу, а другие рассыпаются в порошок, чуть их тронешь. Он признался, что раздобыл хороший рецепт, и мы можем сделать пастель на двоих. Было решено, что я даю деньги на покупку порошков краски и каких-то снадобий и прихожу в ближайшее воскресенье, на целый день. Я пришла. Печь и плита были жарко истоплены — на улице стоял весёлый мороз. Солнце делало мастерскую очень уютной, вся она продраена, как палуба на корабле. Работы товарищей поставлены лицом к стеклам, а несколько работ Татлина гордо красуются на мольбертах. Я ошеломлена — до чего же они хорошо и нерушимо убедительны цветом и линией! Я сказала о своём впечатлении Татлину — он не из скромничающих, но был доволен.
Приступаем к производству пастели. Татлин вслух читает рецептуру и отвешивает порошки, я отмеряю разные жидкости, мешу тесто каждого цвета и оттенка. Сложно — ведь для каждого пигмента свои пропорции связующих. Из готового теста Татлин катает на листах фанеры колбаски разной толщины, от одного до четырёх сантиметров диаметром.
— Вот это будет пастель! Все позавидуют, а мы рецепта не дадим,— приговаривает он.
Нарезав колбасы из цветного теста, в зависимости от толщины, по восемь — пятнадцать сантиметров длины, он раскладывает их на железные листы и суёт в духовку для просушки. Разговор шёл такой:
— Как это «Лефранки» и прочие «Мевисы» не догадываются делать такую пастель? Вот мы им, дуракам, пошлём образчики,— говорит Татлин.
А я:
— Володя, поглядите, как бы наши пастели не пережарились!
— Ничего, деточка, — будет порядок! Пусть спокойненько подсыхают под моё пение. — И он, сидя перед духовкой на табурете, стал петь под бандуру украинские песни слепцов и душещипательные романсы прошлого века.
Я заслушалась — пел он задушевно, музыкально и по-своему. Было уютно и спокойно на душе. Я обдумывала, что буду пастелью изображать. Размечталась... Вдруг слышу приглушённые проклятия Володи, сидящего на корточках перед открытой духовкой с наполовину выдвинутым листом. На листе вместо большинства толстых пастелей — бесформенные кучки порошков. Пастели небольшие и тонкие выглядели вполне профессионально, но, когда их остудили и попробовали ими рисовать, оказалось, что они страдают теми же недостатками, что и фабричные. Володя смущён и расстроен:
— Вы уж простите, Валечка, что такой ущерб вам нанёс — и деньги, и время пропали! Я же был так уверен...
Не такие уж дураки эти «Мевисы», и я вспомнила перефразировку мюнхенскими студентами известного восклицания Цицерона: „О темпора! О морес!” (О времена! О нравы!) — они восклицали: „О темпера! О «Мевис»!” Володя развеселился и, тут же, схватив одну из удавшихся толстых пастелей, что-то изобразил на листе бумаги могучими линиями, не свойственными пастели. Где-то протёр ладонью — и диво! Счастливый! У него всегда получалось искусство! Всегда получался — Татлин!
Слоновая кость жжёная или сажа газовая, несколько охр, сиена, умбра и изумрудная зелень — его любимые краски. Глядя на его произведения, невозможно догадаться, как ему удается распорядиться этими незатейливыми красками, противопоставляя их так, что создаётся впечатление богатой, многоцветной палитры. Это казалось мне фокусом, если не чудом. А какая точность руки, проводящей линию в волос или в два сантиметра шириной, или идущую с нажимом — от самой тонкой до большого расширения! Всему этому он изощрённый и строгий хозяин. Чтобы дойти до такого мастерства, много с себя спрашивал. Какие тончайшие рисунки на листах ватмана создал он позднее, готовясь оформлять свою любимую оперу Вагнера «Моряк Скиталец»! Это рисунки гольбейновской сдержанности и совершенства... Другая опера — «Сусанин». И — весь строй мыслей переменился. Немногими, строго отобранными штрихами и мазками, идущими на растушёвку, иногда до жути срастающуюся с плоскостью бумаги, создан образ леса — фон для трагической арии Сусанина.
Зиму и весну я провела плодотворно, каждый из нас, работавших у Татлина, многое продумывал, проверял и многому научился. ‹...›
В Петрограде должна была открыться выставка «Трамвай В», на которую Татлин привёз несколько своих “контррельефов” и, сдав их, появился у нас. Вскоре и в Москве, в Салоне Михайловой, должна была открыться выставка. Я собиралась везти туда свои живописные работы. Татлину же, как выяснилось, нечего было на ней выставить. Он мрачно сказал мне об этом и спросил, не можем ли мы его приютить на несколько дней — за это время он сделает несколько вещей. Я рада была помочь другу. Во время ужина Володя был мрачен. Потом прошёл в мастерскую и стал странно ходить вокруг стоящего там большого концертного рояля. Похлопывая и поглаживая, подлезал под него и с особым вниманием рассматривал ноги рояля — массивные, чёрные, полированные ноги. Час был поздний, Андрей Романович лег спать. Татлину я постелила на тахте в мастерской и собралась тоже идти на покой. Вдруг Володя как бы очнулся и громким голосом сказал:
— Вы куда, Валечка? Я тут пока уже всё продумал — дайте для начала пилу... Я возьму заднюю ногу рояля... вместо неё мы что-нибудь пока подставим. Ногу я распилю, и всего-то мне, вероятно, понадобится немногим более половины объёма — остаток можно будет завтра приладить на место... Вот это будет вещь! Ни у кого даже похожего не будет! У меня как бы предчувствие было, что вы мне поможете!
От неожиданности, от позднего времени, от разговоров и нахлынувших за вечер мыслей я не сразу нашлась, что сказать. Зная, что Татлин бешено обидчив, говорю:
— Я не могу разрешить отпилить ногу — рояль принадлежит брату Андрея Романовича и только временно находится у нас (это действительно было так), давайте ложиться спать.
Чего только я не услышала в ответ — обидного, несправедливого! Бедный Татлин трясся от волнения. Внезапно в мастерскую вошёл проснувшийся от шума Андрей Романович, и это отрезвляюще подействовало на Володю. Как всякий неврастеник, он сразу успокоился, даже как-то скис, и стало его очень жалко. Напоили его валерьянкой, горячим чаем с коньяком и уговорили лечь спать. Утром он был смущённым, очень ласковым и предупредительным. Долго расспрашивал, как построен наш старый деревянный дом, большой ли там подвал, и наконец отважился:
— Меня заинтересовал ваш подвал, и мне очень бы хотелось его осмотреть, а заодно, с вашего разрешения, взять ненужные вам вещи: стёкла, древесную кору, хорошо бы куски железа, меди, да и мало ли что ещё может приглянуться, чтобы сделать ещё несколько композиций для выставки «Трамвай В». А с ногой рояля, я понимаю, неловко получилось... Вы уж простите — погорячился...
Спустились в подвал. Татлин диву давался, глядя на брёвна невероятной толщины, из которых сложены нижние венцы дома: и топор не брал — как каменные (незадолго до Великой Отечественной войны дом снесли и на его месте построили школу. А потом я прочитала, что найдены доказательства тому, что этот дом принадлежал Ломоносову, и в нём была его знаменитая лаборатория). Вышли мы из подвала грязные, в паутине. Богатую добычу подняли в мастерскую. У Володи было счастливое лицо, и он бодро сказал:
— Пойду сейчас поразведаю, кто что выставляет. Вернусь, и мы поработаем, а завтра отвезём на выставку.
После обеда, отдохнув, решили приняться за работу. У меня не закончен эскиз для Москвы. „Мастерская большая, и мы с Татлиным не будем мешать друг другу”,— думала я. Оказалось, что у него другие планы. Отдых придал ему такую энергию и жажду творчества, что я еле успевала снабжать необходимым его разбушевавшуюся фантазию. Он требовал пилу, топор, стамески, проволоку и гвозди, холсты, натянутые на подрамники, цветную бумагу, краски, кисти, пульверизатор, керосиновую лампу (чтобы закапчивать в растушёвку разные поверхности)... Я, не очень понимая, что он собирается делать, помогала чем могла. Мастерская стала похожа на склад рухляди. Он рубил, строгал, ломал, отбивал куски стекол, разводил клеевые краски, подолгу любовался обрезком железного листа, и вообще видно было, что он охвачен вдохновением. Пробуравливал дырки на заготовленных мной для портретов грунтованных холстах, просовывал туда проволоку и крепил ею чурки, поленья, мятую бумагу, приговаривая:
— Здорово! Прекрасно! Кое-что выделим цветом, подкоптим, и будет порядочек!
Вернулся домой Андрей Романович, похвалил созданное Татлиным и предложил поужинать. Мы распили за здоровье и успех Володи бутылку вина.
Утром Татлин отвёз свои “рельефы” на выставку, которая открывалась к вечеру. Не помню, где это было. В памяти остались несколько залов и комнат. Полумрак. Кое-где электрические лампы (белые, красные, жёлтые) подсвечивают какие-то странные предметы, отражаются в стекле, металле, полированных поверхностях экспонатов, вызывая чувство тревоги. Доносится разговор шёпотом и приглушённо — шаги. Вдруг во тьме — взрыв хохота... Ощущение — будто попал в какую-то таинственную лабораторию... Татлинские “рельефы” притягивали внимание логикой построения и отличались от других экспонатов своеобразной красотой убедительно решённых задач. Володя был доволен и сказал:
— А на московской выставке покажу живопись, так как рельефы в Москве я уже выставлял.
...Вечером Татлин молча, беспокойно ходил взад и вперёд по мастерской и вдруг рывком бросился к книжному шкафу, где у нас стояли монографии художников разных времён и народов. Я в противоположном углу, заканчивая эскиз, спросила:
— Володя, что вы ищете?
Он даже не ответил и продолжал вытаскивать с полок то одну, то другую книгу, быстро открыв в двух-трёх местах, захлопывал, ставил на место, и опять хождение... Наконец он затих с развёрнутой книгой в руках (я увидела, что это монография Луки Кранаха) и долго не мог оторваться от одной из страниц. Внезапно он сказал:
— Я им докажу, что настоящему художнику безразлично, что изобразить — мадонну или шлюху, потому что он решает свои особые творческие задачи, а личина может быть разная. В их время заказчик требовал мадонн... Вот, Валечка, взгляните, «Мадонна с младенцем», а я вижу замысел Кранаха — ему нужно было построить композицию из треугольников, он и решил её прекрасно, а чтобы понятнее (может, это заказ был!), врисовал в треугольники дамочку с ребёнком — трогательно, хоть слезы лей! А я вот понял и всю эту хитрость вскрою, и увидите, какая небывалая вещь получится! Они долго завидовать будут!..
— Кто — они?— спросила я.
— Маяковский, Каменские всякие, да и Малевич затылок почешет... Ведь вы что думаете? Они сейчас, наверное, тоже в Москве волнуются: а что выставит Татлин?!.. Уж не пожалейте и дайте мне лист белого картона, темперу и акварель. А приличную кисть дадите? Долго ещё продолжалось изучение «Мадонны», зато эскиз он сделал как бы наизусть, быстро. Готовых загрунтованных холстов у меня больше не было — все пошли на “рельефы”. Татлин, выбрав подрамник два с половиной на полтора аршина, взволнованно натягивал и набивал на него холст, а меня просил приготовить тянущий грунт. Под утро все было сделано. Осталось только написать «Мадонну».
— Днём напишу с сиккативом, и дня через два — в Москву... Вы ведь с Андреем Романовичем тоже поедете на вернисаж?
— Конечно. Поедем вместе.
За пять дней, проведённых им в Петербурге, в основном у нас, я измоталась, но готова была всё терпеть, так как понимала, что к нему нужен особый подход — сугубо деликатный. Ведь жизнь его была трудной, как у всякого подвижника и фанатика, а он — Татлин!
Мне в жизни повезло — я встретила трёх таких “утомительных” людей: Маяковского, Татлина и Алексея Дмитриевича Сперанского (физиолог, ученик И.П. Павлова). Иногда при общении с ними мне казалось, что я попадаю изо льда в кипяток и обратно. С трудом я очухивалась от такой физио-психо-терапии. Я понимала, что им самим нелегко от этих внутренних взрывов.
«Мадонна» из треугольников получилась у Володи великолепно — будто год над ней работал. В Москву мы приехали весёлыми. Татлин — прямо в Салон: выбрать и забронировать место для картины, а повесит он её завтра утром, перед самым вернисажем, а то мало ли что.
— Хочу всех удивить, — и Володя загадочно подмигнул.
Днём я отвезла свой эскиз на выставку, где уже повесили несколько моих московских портретов. Татлин забронировал место в первом зале, оно было обведено прибитым шнуром и почему-то начиналось от самого пола. В центре висела картонка, на ней: „Место В.Е. Татлина — не занимать!”
Направляясь в зал, где висели мои работы, встретила Маяковского, который сообщил, что он также участник выставки, и сразу же попросил меня пройти в третий зал, где он занял место, и помочь проверить, действует ли основной элемент его произведения. На одной из стен зала, высоко в углу, была прибита полка из стекла на двух металлических кронштейнах, а над ней, под самым потолком, в стене — круглое отверстие вентиляции. Маяковский, с умилением глядя на него, сказал:
— Вы тут постойте, а я пойду, проверю включение.
Вентилятор действовал, и я, не ожидая такой мощи звука, похожего на сирену и на рычание, и от сильной струи холодного воздуха отскочила к противоположной стене. Вернулся довольный Маяковский:
— Ну как? Ведь здорово будет привлекать публику?
— Конечно! А что же будет выставлено?— спросила я.
— Верю, что вы до завтра никому не скажете, даже вашему любимцу Татлину. Вот смотрите. — Из кармана он вынул водочную бутылку, а из свёртка бумаги — два старых башмака, связанных шнурком.— Завтра, перед самым открытием, укреплю башмаки к кронштейну: они будут свободно висеть в воздухе, а бутылка — стоять на полке. Под всем этим крупно и красиво будет написано: «Владимир Маяковский».
Я подумала: да, бедному Татлину трудно будет конкурировать с такой выдумкой (всё же у него только живопись...).
Вдруг слышу:
— Привет Веснианке от Песниана! — Это Вася Каменский приветствует меня.
Облобызались. Спрашиваю:
— Ты что выставляешь?
— Валечка, у меня будет “передвижная” выставка во всех залах — вот завтра увидишь.
Я уже понимала, что быть скандалам.
За час до открытия в первом зале ползал по полу Татлин — недалеко от входа он прибивал к полу железный угольник солнечных часов, от которого по диагонали к месту, где должна была висеть «Мадонна», прочерчена белой краской линия примерно в три сантиметра шириной.
— Совершенно замучился!— С взмокших волос на лоб и с кончика носа капал пот...
Устроитель — доброжелательный Кандауров — бегал с растерянным лицом из зала в зал. Приближался час открытия выставки. Кандауров, сказав Татлину: „Прошу вас, заканчивайте ваше устройство”, — убежал вниз встречать приглашённых меценатов и коллекционеров. Я уже не отходила от Татлина, а он прилаживал на стену «Мадонну» так, что верх примыкал к стене, а низ отходил от стены примерно сантиметров на пятьдесят.
Татлин был доволен и сказал:
— Здорово! Уж никуда не деваться от моей «Мадонны»! Хотят или нет, а смотреть будут, да и направляющая белая линия укажет...
Я выразила предположение, что люди будут спотыкаться о солнечные часы, но Володя отреагировал зло:
— Ну, уж этого я от вас, Валечка, не ожидал, думал, вы друг!
Обидевшись, я пошла посмотреть, как Маяковский водворяет на месте свои экспонаты. Тот, посмеиваясь, сказал, чтобы я не пропустила момента, когда он включит вентилятор, который будет сигналом и Васе Каменскому показывать свою “передвижную”!
И вот началось... Торжественно и медленно по лестнице, распустив трены платьев (ведь к вернисажам дамы специально шили себе роскошные туалеты, стараясь перещеголять друг друга), поднимались всем известные меценатки: Носова, Лосева, Гиршман, Высоцкая и другие. Стадом за дамами шли мужчины. Приветствия, разговоры... А я волновалась за Татлина и, вспомнив, что на Военно-Грузинской дороге есть скала «Пронеси, господи», думала: „Хоть бы пронесло!”
Первой в зал вошла в дивном платье (произведение знаменитой портнихи Ламановой) Носова. Она остановилась и, оглядевшись:
— А что это там так странно торчит на стене? — сделала несколько шагов и вдруг остановилась с гневным лицом: её не пускал шлейф, зацепившийся за солнечные часы.— Кто здесь распорядитель? — грозно спросила она.
Откуда-то вынырнул Кандауров и застыл перед Носовой — он ведь был “мостиком” между меценатами и художниками. Носова собиралась покинуть выставку. Кандауров уговорил её остаться, и она проплыла в следующий, благополучный зал.
Появилась женщина со скребком, отвёрткой и мокрой тряпкой, отвинтила от пола солнечные часы, отскребла и смыла белую черту. А Кандауров помогал огрызавшемуся Татлину перевесить «Мадонну». „Несчастный,— думала я, — ему предстоит ещё пережить “успех” Маяковского и Каменского!”
Публики уже набралось много — все залы полны. Я решилась пойти в зал, где висели мои не претендующие на шумный успех работы. Там я слушала довольно хорошие отзывы о себе, как вдруг раздался рёв и треск вентиляторов, все ринулись в соседний зал, где около своего произведения стоял с презрительной, но торжествующей усмешкой Маяковский. Раздались возгласы возмущения. Кричали: „Выключайте!” Опять появился Кандауров и стал успокаивать разволновавшихся. Вентилятор был выключен, и тут появился Василий Каменский, являвший собой синтетический экспонат: он распевал частушки, говорил прибаутки, аккомпанировал себе ударами поварёшки о сковородку, на верёвках через плечо висели — спереди и сзади — две мышеловки с живыми мышами. Сам Вася, златокудрый, беленький, с нежным розовым лицом и голубыми глазами, мог бы привлекать симпатии, если бы не мыши. От него с ужасом шарахались, а он победно шёл по залам. Это и была его “передвижная выставка”.
Я волновалась за Татлина, но не нашла его. Очевидно, он ушёл, исстрадавшийся и побеждённый выдумками футуристов...
К сожалению, чувство зависти и ревности к успехам других художников-новаторов всё больше приводило Татлина к тяжёлым переживаниям и странным поступкам, несмотря на то что он понимал и ценил собственные творческие возможности. Он хотел быть единственным и неповторимым, но Маяковский, Малевич и другие также были неповторимыми, искали и показывали в своих произведениях пути избавления искусства от скверны пошлости и штампа. Но почему-то больше других мешало и не давало Татлину покоя существование Малевича, тихого, очень принципиального человека, путь которого чётко определился — он провозгласил супрематизм, имел учеников и почитателей. На одной из выставок он показал живописное супрематическое произведение, „почти дозревшее до совершенства”. Это был квадратный холст, хорошо покрытый масляными белилами (примерно семьдесят на семьдесят сантиметров), в позолоченной раме. В дальнейшем он выставил уже пустую раму. И в том и другом случае разговоров, обсуждений и споров было много. В данных случаях он, конечно, издевался.
В последующие годы (1916–1921) я утеряла Татлина из виду...
В те годы (1919–1921) много говорилось и думалось о равноправии и раскрепощении женщин, моральном и физическом. А.М. Коллонтай сочинила доклад о вреде ревности и хотела, чтобы Совет Народных Комиссаров утвердил отмену ревности декретом, но до декрета дело не дошло. Горький дал мне прочитать этот труд.
Многие девушки мечтали быть оплодотворёнными гениальным или, в крайнем случае, талантливым мужчиной, с тем чтобы, родив ребёнка, расстаться с производителем и стать матерью-одиночкой, считая, что воспитание будущего гения должно быть делом только матери. Этими же мыслями была одержима и Молекула.
Я ей много рассказывала о Татлине как о человеке с задатками гениальности. Когда он однажды в конце 1921 или в начале 1922 года появился у нас в доме, она сразу “закинула на него глаз” (а глаза у неё чёрные, с голубыми белками и поволокой). Я заметила, что и он не остался равнодушным и, так как был “при бандуре”, сразу начал пускать чары. Вскоре Молекула от него забеременела и переселилась к нему в дом Мятлевых на Исаакиевской площади. Я радовалась её счастью, а Татлин был человеком сложным, и не знаю, принесло ли это ему счастье. Родился сын — Володя. Молекула забыла про свою установку остаться матерью-одиночкой, хоть и было ей очень трудно, как, вероятно, бывает всегда, если имеешь дело с ярким талантом.
Татлин бросался в разные дела. В частности: изучил и пытался усовершенствовать постройку печей, утверждая: „Всё дело в дымоходах — нужно так хитроумно их построить, чтобы двумя поленьями отопить огромную кубатуру”. Для проверки он разрушил в своей квартире единственную печь, и я, зайдя туда поглядеть младенца, застала страшную картину: пол залит водой — размачивается глина на железном листе; кирпичи аккуратными штабелями сложены у стены и посреди комнаты; Молекула с новорожденным на руках, укутанная в старый клетчатый плед, сидит на юру, подобрав ноги на перекладины между ножками табурета, и, бледная, продрогшая, с лиловым от холода носиком, глазами всё испытавшей Мадонны смотрит с любовью на двух Володей. Я нагнулась её поцеловать и почувствовала, что она дрожит мелкой дрожью, а ребёночек, бледный, ничтожный, — спит. Я разозлилась, растерялась и только что собралась наброситься на Татлина, как Молекула сказала тихо: „Вот увидите, как у нас будет хорошо и тепло!” Поняв, что нарушать это “счастье” и не нужно, и бесполезно, — я сослалась на срочные дела и, еле дослушав восторженное объяснение Татлина, что теперь он будет лучшим печником в мире, ушла. На лестнице расплакалась.
Однажды Татлин зашёл, чтобы пригласить меня на выставку, которая открывалась назавтра в залах Академии художеств. Просил не опоздать к открытию. Я пошла. Он меня ждал наверху, у входа на выставку. Очень взволнованный, торопил идти без оглядки в его зал (четвёртый). Проходя через второй, я заметила супрематические вещи Малевича и его учеников. Татлин скороговоркой сказал, что просит меня встать у входа в его зал и, если увижу Малевича или „его отродье”, любыми средствами не пускать их смотреть на его работы. „А я бегу к входу на выставку ловить их и, если прорвутся, оторву уши и носы”, — сказал он. Я была в ужасе, так как чувствовала, что свою угрозу он может привести в исполнение. Наконец, эта ерунда мне надоела, я вошла в зал и стала рассматривать его вещи. Татлин застал меня за этим занятием и сказал, что я человек ненадёжный и могу идти куда угодно, хоть в зал Малевича. „Теперь я тут встану, и уж никто из них не пройдёт!” Он был серо-зелёным, а белки его глаз показались мне лимонно-жёлтыми. Я быстро ушла. Спускаясь в вестибюль, встретила Малевича, который вежливо и спокойно поздоровался со мной и пошёл наверх. Я с грустью думала о бедняге Татлине.
По слухам, дошедшим до меня, между Татлиным и Малевичем разразился скандал. Татлину всё больше не давала покоя мысль о том, что кто-то из художников воспользуется его замыслами и опередит его. Сколько я ему втолковывала, что он мало себя ценит, что не так-то просто мыслить и работать, как Татлин! „Так-то это так, да всё же...” — говорил он трагически.
Забеспокоившись, что давно не видела Молекулу и маленького Володю, я отправилась к ним. Застала мрачную картину. Почти что ни зги не видно. Татлин на корточках на полу заканчивает печку. Холодно, сыро. Спрашиваю, где Молекула.
— У керосинки, ребёнок спит, — будем обедать, и вы располагайтесь с нами.
Спрашиваю: почему тьма? Зачем фанерой закрыты оба окна? Ведь день, и светит солнце.
Татлин вскакивает, перемазанный глиной:
— Напротив этих окон, в этом же этаже, через двор живёт негодяй Малевич и подсматривает, что я делаю — сам-то ничего придумать не может! Вот я и загородился...
Я поняла, что дела плохи, нашла в каком-то закутке Молекулу, которая на керосинке варила картошку. Сказав, что мне некогда и зайду ещё на днях, ушла, не зная, что предпринять. Жалко мне было обоих, да и младенца.
Через несколько дней я пришла. Татлина не было дома. При всей выдержке Молекула, плача, рассказала, что случилось ужасное, но она не могла ничего поделать: вышла она с сыном на руках на площадь — побыть на свету и на воздухе, — а когда вернулась, увидала перед оконченной печкой большое пламя. Пожар? Нет, Татлин с несколькими учениками сжигал свои прекрасные рисунки и живописные холсты. Она бросилась гасить пламя — он её оттолкнул. Состояние его было близким к сумасшествию. Он кричал:
— Теперь пусть смотрит! Открывайте окна!
Я видела, что Молекула изнемогает от этой жизни, тем более что Татлин стал поговаривать о постройке модели летательного аппарата, который будет называться «Летатлин», и первым полетит на нём, пока он ещё мало весит, его сын Володя.
Посовещавшись с Андреем Романовичем, мы решили перетащить Молекулу к себе (мы уже переехали в дом Салтыковой на Марсовом поле). Она не сразу, но сдалась. Татлин не протестовал. К тому времени он отошёл от живописи. Им всецело владели мысли о конструировании, на благо человечества, самых разнообразных предметов: одежда, прозодежда, обувь и т.д.
В ноябре 1922 года уезжаю в Берлин по приглашению Алексея Максимовича. Молекула с сыном остались у нас. Дальнейшее знаю по рассказам сестры Молекулы. Осенью 1924 года в Ленинграде грандиозное наводнение. В разгар его Татлин, положив под шапку табачок и спички, пробрался с Исаакиевской площади через Дворцовую площадь по пояс в воде к семье. По улице Халтурина до Марсова поля ему пришлось плыть, преодолевая и волны и течение. Он добрался до семьи.
Молекула — как я узнала потом от её сестры — решила уехать работать врачом в больницу какого-то глухого местечка под Арзамасом, там сошлась с лесничим и родила от него сына. Будучи человеком и героическим, и жертвенным, она, спасая чужого ребенка, болевшего дифтеритом, отсасывала ртом дифтеритные пленки (не было вакцины), заразилась и умерла. Остался лесничий с двумя детьми. В дело вмешалась сестра Молекулы и долгое время воспитывала сына Татлина, но в конце концов Татлин взял его к себе в Москву. Дальше — война, сына взяли в армию, он пропал без вести, и прошло много лет, пока Татлин понял, что Володя убит, и очень горевал.
Безусловно, работа над контррельефами, а затем над угловыми контррельефами привела мышление Татлина к инженерно-конструкторским задачам и поискам их решений, причем чисто эстетические задачи продолжали для него существовать в полной мере (взаимосвязь искусства и науки, то, к чему только в последние годы приходят художники Запада, да и наши). Отчего так красив и великолепен был задуманный им «Памятник Третьему Интернационалу», ярко выражающий логикой металлической конструкции могучее стремление спирали ввысь, что выражало гуманистическую идею устремления всего человечества к великому будущему — коммунизму.
Модель этого памятника, в одну двадцатую натуральной величины, Татлин вместе со своими учениками построил в огромной мастерской Академии художеств в Петрограде. Осуществить это помог ему Народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, человек творческий, который, поняв и признав талант Татлина, помогал ему и в дальнейшем. В Москве, в одной из башен тогда заброшенного Новодевичьего монастыря, Татлину разрешено было конструировать летательный аппарат «Летатлин». Точно не знаю, почему это дело заглохло, но слышала, что некоторыми татлиновскими соображениями заинтересовались авиаконструкторы, и кое-что было ими использовано при проектировании новейших самолётов, а Татлин даже получил за это деньги.
Уже в 1943 году, приехав из эвакуации в Москву, я узнала, что Татлин оформил спектакль «Глубокая разведка» в МХАТе. Пошла поглядеть. Он и там показал себя большим мастером.
Шли годы, Татлин жил в Москве, но мы редко и случайно встречались. Простить себе этого не могу, но такова была жизнь.
В искусстве Владимир Евграфович Татлин никогда не шёл дорогой компромиссов, и поэтому было у него много противников и жилось ему порой очень трудно.
Умер Татлин 31 мая 1953 года в Москве, но его произведения живут, всё больше привлекая внимание людей.
Шкловский — человек “внезапный”, когда он начинает говорить, то мысль его взрывается, бросается с одного на другое толчками и скачками, иногда уходит совсем от затронутой темы и рождает новые. Он находит неожиданные ассоциации, будоражит вас всё больше, волнуется сам, заинтересовывает, захватывает и уже не отпускает вашего внимания, пока не изложит исчерпывающе все свои соображения, отрывистые и не сразу понятные.  Он показывает вам вещи, события, людей с никогда не найденной вами, а может, и не подозреваемой точки, иногда даже вверх ногами или с птичьего полёта. И обычное, присмотревшееся, даже надоевшее вдруг преображается и получает новый смысл и новые качества. Изъяны и достоинства становятся более видными и понятными (или: как в бинокль — приближёнными или удалёнными).
Он показывает вам вещи, события, людей с никогда не найденной вами, а может, и не подозреваемой точки, иногда даже вверх ногами или с птичьего полёта. И обычное, присмотревшееся, даже надоевшее вдруг преображается и получает новый смысл и новые качества. Изъяны и достоинства становятся более видными и понятными (или: как в бинокль — приближёнными или удалёнными).
Мне иногда кажется, что у меня делается одышка, как от бега или волнения, когда я его слушаю. Я не знаю, как определить, но самый процесс работы его мозга очень ощутим, и думаешь: „А всё-таки прав Горький: человек — это звучит гордо”.
1918 год. В Петрограде, в квартире Горького на Кронверкском проспекте, 23 раздался сильный, нетерпеливый стук в дверь кухни, ведущей на чёрный ход (большие дома раньше строились с двумя ходами — с улицы парадный ход и со двора — чёрный). Парадный ход был закрыт и „неизвестно” (так мы перефразировали знаменитую тогда надпись на керосиновой лавке: „Керосина нет и неизвестно”). Я была поблизости и, подойдя к двери, спрашиваю: „Кто там?” Мужской голос ответил: „Виктор Шкловский”. Это мне ничего не объяснило, и я продолжила опрос: „Кого вам надо и зачем?” — „Я к Алексею Максимовичу”. Приоткрываю дверь, не снимая цепочки, и вижу человека среднего роста, в затасканной солдатской шинели с поднятым воротником, на голове — будёновка, козырёк опущен, лица почти не видно. Говорю: „Ждите”, — быстро прихлопываю дверь, оставляю посетителя на площадке лестницы (времена были тревожные), иду в комнаты А.М., сообщаю о пришедшем. А.М. читал. Он снял очки, встал и, опередив меня, торопливо пошёл в кухню, открыл дверь на лестницу, впустил покорно ждавшего красноармейца и, когда вошедший поднял “забрало”, крепко пожал ему руку, а мне сказал: „Знакомьтесь, это Виктор Шкловский, писатель”. Как я выяснила, Шкловский познакомился с Горьким в 14-м году в «Летописи» в Петербурге. Шкловского А.М. повёл в переднюю раздеться, и я слышала, как он ласково говорил: „Проходите ко мне. Вот здорово, что появились, нуте, нуте, рассказывайте, откуда? Где были?..” Вскоре Шкловский опять пришёл, уже слегка оприличенный. Дома были только А.М., художник Иван Николаевич Ракицкий и я. А.М. уже очень наработался в тот день и сразу вышел в столовую, когда Ракицкий сказал ему о приходе Виктора Борисовича. Он усадил Шкловского на тахту в столовой, сам сел рядом и стал расспрашивать о его воинских приключениях на Украине, вернувшись откуда, Шкловский внезапно появился у нас. Как любезный хозяин, А.М. спросил меня, нет ли чего-нибудь, чем угостить Шкловского?
В кухне лежали принесённые на всю нашу «Кронверкскую коммуну» несколько буханок плохо пропечённого чёрного хлеба. Времена были голодные, и это угощение казалось роскошным. Я вынесла буханку и стала нарезать толстыми ломтями замазкоподобный хлеб на тарелку. Шкловский, увлечённый своими рассказами, вскочил с тахты, схватил кусок хлеба, стал его быстро поглощать и ходить вокруг стола, а в каком-то определённом месте вновь останавливался, брал новый кусок, жевал, проглатывал безумно торопливо, продолжая взволнованный рассказ. Вскоре от буханки ничего не осталось. Алексей Максимович подмигнул мне в сторону кухни — я поняла и принесла ещё буханку, с которой Шкловский начал расправляться, как и с первой. Но когда от неё уже оставалась примерно половина, Шкловский явно начал замедлять свой ход вокруг стола и вдруг, остановившись и уже с трудом проглатывая хлеб, сказал: „Я не заметил, не очень много я съел хлеба?” Мы засмеялись, А.М. пожелал ему не разболеться от съеденной ржаной “замазки”.
Однажды он зашёл к нам во время так называемого обеда, часов в семь вечера. Еда наша была довольно однообразна: блины из ржаной муки, испечённые на „без масла”, и морковный чай с сахаром. Картофель был чрезвычайным лакомством. Ели только то, что получали в пайках. Обменные или “обманные” рынки со спекулянтами ещё только начинали “организовываться”. Все члены нашей “коммуны”, а их было человек десять, были в сборе за длинным столом. Во главе стола сидела Мария Фёдоровна Андреева, жена А.М., комиссар отдела театра и зрелищ. В тот день неожиданно и тайно у нас появился с Украины приемный сын М.Ф.— Женя Кякшт, с молодой женой. Когда пришел Шкловский, мы потеснились, и он сел напротив Кякшта. Разговор зашёл о военных делах на Украине, и вскоре выяснилось, что оба, и Шкловский и Кякшт, воевали друг против друга, лежа на Крещатике в Киеве, — стреляли, но не попадали. Шкловский был на стороне красных, а Кякшт, случайно попавший, — в войске Скоропадского. Вскоре он при первой же возможности сбежал в Чернигов, скрывался там и там же женился и уже с женой правдами и неправдами пробрался в Петроград — под крылышко Марии Фёдоровны.
Вспоминая о своих воинских доблестях, Шкловский рассказал однажды, как он на фронте, собираясь разрядить гранату, так неумело обошёлся с ней, что она взорвалась у него в руках, и его обдало горячими металлическими осколками, которые попали ему в голову и в верхнюю часть туловища. Врачи в госпитале вынули самые крупные осколки, а про остальные сказали, что они сами постепенно выйдут. Так оно и было. Виктор Борисович иногда вдруг делал гримасу и, быстро засучивая рукав или расстёгивая гимнастёрку на груди, вытаскивал вылезавший бескровно из кожи кусочек металла. Куски были до полсантиметра величиной. Так постепенно Шкловский делался штатским человеком. И вскоре включился в литературную работу, много изучал, писал, бурлил и организовал «Общество поэтического языка» — «Опояз» куда вошли В. Маяковский, Брик и другие “левые” писатели и поэты. В дальнейшем вся наша “коммуна” полюбила Шкловского, и он стал у нас своим человеком. Он появлялся неожиданно и пропадал вдруг на многие дни. Однажды, рано утром, он появился растерянный, давно не бритый, весь ушедший в свои мысли. Он сказал, что хотел бы у нас побриться, так как ему кажется, что комната художника Ракицкого очень для него удобна. Вид у него был озабоченный. Я нашла у моего мужа, ушедшего на работу, безопасную бритву, со сравнительно мало использованным лезвием, что было большой редкостью в ту пору, и вручила её Шкловскому. Поставила зеркало на стол, дала полотенце, горячую воду — всё “как в лучших парикмахерских” — и ушла срочно доканчивать рисунок в свою, соседнюю комнату. Всё затихло. Я углубилась в работу и вдруг вспоминаю о Шкловском. Кричу ему: „Ну что же, Виктор Борисович, побрились?” В ответ я услышала что-то невнятное и пошла посмотреть, в чём дело. То, что я увидела, было довольно страшно: Шкловский сидел перед зеркалом, шея его была замотана окровавленным полотенцем, в зеркале я увидела лицо, по щекам и подбородку которого, да и по шее, сочилась и текла кровь, а глаза были грустные и испуганные. Он тихо и покорно сказал: „Может, можно чем-нибудь помочь мне?” Мои познания в оказании медицинской помощи были весьма ограниченными. Я притащила чистое полотенце и перекись водорода. Мы оба со Шкловским вспомнили, что при кровотечении из раны накладывают повязку-жгут, чтобы приостановить приток крови. В.Б. обмотал чистым полотенцем, из которого мы сделали жгут, шею, взял один конец его в руки, а меня просил сильно тянуть за другой конец. Вскоре я увидела, что В.Б. побагровел и тяжело дышит. Я отпустила конец, и Шкловский с облегчением вздохнул. Бедненький, он сидел изнеможённый и притихший. Я промыла ему все порезы перекисью, кровотечение прекратилось, но вид у него был страшноватый. Подпухшее лицо и шея в ссадинах. В общем-то, всё обошлось благополучно, и мы отделались испугом. Понять было трудно, как удалось человеку так себя изувечить безопасной бритвой. Немного погодя, Шкловский уже весело изрёк: „Ну, надеюсь, что у меня не будет ни сифилиса, ни чего-нибудь серьёзного”.
Сижу у себя в комнате — рисую. Деликатное постукивание в дверь — это Алексей Максимович. Просит прийти к нему в библиотеку. Следую за ним. Он показывает мне на стол и на нём нечто непонятное. Больше всего это похоже на ворох мятых, небрежно сложенных газет.
— Вот посудите сами, можно ли выпускать из дома книгу, да ещё уважаемую и редкую книгу? Вот во что превратил её Шкловский! — гудел мрачным басом Алексей Максимович. — Выпросил-таки для работы, а я, дурак, ему поверил, что вернёт быстро и в полном порядке. Какое безобразие — полюбуйтесь!
Это было «Сентиментальное путешествие» Стерна, без переплёта. Между страницами в большом количестве торчали рваные куски бумажек с пометками, книга разбухла невероятно, брошюровка разорвалась, углы страниц завились стружками.
— Уму непостижимо, как можно было довести книгу до такого состояния. И о какой работе над такой книгой может идти речь, если и разобраться в ней уже нет никакой возможности! Просто хоть выбрасывай! — продолжал возмущаться Горький. — А возвращая мне эту бывшую книгу, Шкловский благодарил и сказал, что великолепно поработал.
Я не могла удержаться от смеха, глядя на эту “работу” Шкловского. Наконец рассмеялся и Алексей Максимович, Шкловского он в ту пору любил.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 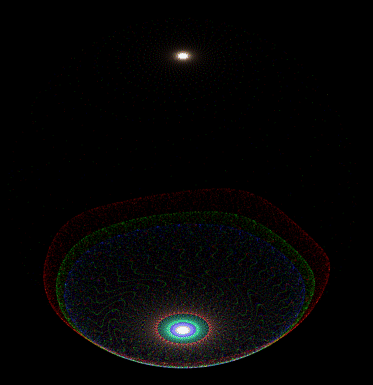 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||