

Встреча с Маяковским — ещё до знакомства — произошла совершенно случайно. Просто мы ходили с сестрой Зиной по бульвару, и он к нам подошёл, не будучи абсолютно знаком с нами.
Тут что интересно? Сама фигура Маяковского, какой он тогда был. Он был весь в чёрном: в чёрном плаще, в чёрной шляпе, широкополой, и бросалась в глаза огромная роза, вдетая в петличку плаща, бледно-розовая. Это 1912 или 1913 год. Он был очень скромный, застенчивый и неловкий. Разговоры велись все вокруг розы, — в общем-то, я не помню. Но единственное, что я запомнила, это то, что он мне сказал: „Вы такая высокая, должно быть, вы добрая”.
Мы даже не знали, кто он такой, и мы не назвали своих имён, а, наоборот, скрыли. Но вскоре мы узнали его имя. Он был ученик Училища живописи, а с (Д.Д.) Бурлюком мы были ещё раньше знакомы — по линии живописи (Уречин учился в Москве с Бурлюком). Зина жила тогда в Москве, а я просто к ней приехала, я училась в Харькове в Училище живописи.
Потом я встретилась с Маяковский уже после встречи его с Бурлюком, когда они объявили себя футуристами. Бурлюк привёл Маяковского к нам в дом, и тут я его узнала.
Кроме того, интересно, что он познакомился также и с другой моей сестрой, но отдельно. В Петровском парке на лодке они катались. Там были Зина и Оксана. Но Зина была старше нас, а мы уже как девочки были возле Зины, и я думаю, она тут сыграла главную роль. Она вообще его интересовала.
Мы тогда восприняли футуризм с восторгом. Когда Бурлюк к нам пришёл, они уже были футуристами. Оксана ещё не была замужем за Асеевым, но Николай Николаевич вошёл в нашу семью задолго до женитьбы, ещё по Харькову. Мы прошли большую поэтическую школу именно из-за Николая Николаевича. У него уже были определённые левые вкусы. Так что когда появились футуристы, это совершилось для нас последовательно.
В Москве мы не жили постоянно. В то время у нас бывал ещё Игорь Терентьев (он писал пьесы), потом Гордеевы, Петников. Из художников бывал только Бурлюк. Познакомил с ним Уречин.
Бурлюк был человек довольно лирический, всё время читал стихи, и свои тоже стихи часто читал. Но это ещё до Маяковского. Когда появился Маяковский, он больше читал стихи Маяковского и Хлебникова.
Хлебников появился у нас позднее, когда Маяковский носил жёлтую кофту, тогда облик его вполне уже сформировался. Привёл его Бурлюк, он всех футуристов ввёл к нам. С Пастернаком мы познакомились гораздо раньше, и не по линии Бурлюка, а по линии Николая Николаевича. Хлебников был совершенно изумительный красавец, элегантный человек. У него был серый костюм, хорошо сшитый. Фигура у него была совершенно изумительная. Красивее Хлебникова я никого не видела. Он был в котелке. Всё, что было дальше, ничего общего с этим не имело. Говорил он тихо и отрывисто, но тех странностей, которые потом у него появились, совершенно тогда не было. Он был очень замкнутый, почти никогда не смеялся, только улыбался, громкого смеха никогда не было. Но что он был изумительный красавец, это действительно так. Костюм на нём выглядел элегантно. Был он немножко сутулый. Мы были горячие поклонницы тогда и его, и Маяковского.
Потом появились у него странности, и это очень прогрессировало. Говорят, что у него была шизофрения. Но это такая болезнь, которую мы разобрать не можем.
Он во всех по очереди был влюблён, и, кроме основных, он влюблялся и попутно, так что это была сплошная влюблённость. Но легкомыслие невероятное просто при этом было. Я хочу сказать, что если он увлекался одной, то это длилось очень недолго. Правда, не увлекался он только Надеждой почему-то. Достаточно было быть недурной собой чуть-чуть, чтобы он был увлечён.
Мы его целовали. Он был как младенец, как ребёнок, относиться к нему как к взрослому было совершенно невозможно. Это проявлялось в каждой мелочи у него. Как дети шести лет ведут себя, так же и он себя вёл. Например, такая подробность. Как-то Брики ему подарили великолепную шубу со скунсовым воротником. Все принимали в нём участие вообще. Но это было почти безнадёжно. Он к нам приехал поздней весной в этой шубе, когда уже было жарко, и почему-то ему пришла такая фантазия: он её разорвал, отделил от меха, мех снял и начал прогуливаться в одном ватине; или наденет в жару верх с меховым воротником и ходит, как Евгений Онегин, — он за ним, как плащ, волочится, а сам идёт босой. Ну, в последнем ничего особенного не было, мы все тогда ходили босые, было лето, сад был большой.
Или, например, если посмотреть его комнату. Там довольно много было комнат у нас на даче, и у него была комната отдельная. Если ему прибрать комнату, постель — наутро всё это будет абсолютно перевёрнуто. Рукописи его валялись по всей комнате, просто как мусор, и для того, чтобы они не погибали, мы запирали комнату, а он лазил в окно.
Называли мы его или Дума, или Витюша. Он сворачивал все свои бумаги, как мусор, и клал в наволочку. В этом отношении взять его как-нибудь в руки было совершенно невозможно. Если ему давали простыни, они всё равно валялись на полу, а он спал на матрасе.
И вместе с тем он очень трезво, очень холодно и очень критически относился к людям и недоверчив часто бывал к людям, с одной стороны, но, с другой стороны, это был совсем младенец. Он был в университете на математическом факультете, но окончил или нет, не знаю. В последнее время он уже не учился в университете.
Когда они бывали с Маяковским, Маяковский к нему очень нежно относился. А Хлебников к нему? Почтительно или любовно — это не подходит, дружески — тоже нет. Я просто не могу найти слова. С признанием Маяковского — вернее так сказать. Хлебников его стихи иногда читал, бормотал.
О политике, мне кажется, у него были детские представления. Он хотел поехать на фронт. Но почему? Потому что моя двоюродная сестра Вера поехала на фронт со своим мужем. Хлебников был в неё влюблён, он даже меня спрашивал: „Куда мне ехать? Поехать ли и мне туда?” Я говорю: „Нет, Витюша, езжайте-ка вы лучше в Астрахань, к родным”. Но туда он не поехал и попал в Персию.
Это гофмановская фигура, совершенно, фантастика сплошная.
Иногда он вызывал смех, нельзя было не смеяться. Например, в период, когда он был влюблен в Веру, он захотел понравиться, и вот он принарядился. У него были такие ботинки солдатские с обмотками, и подмётки у них отстали: и вот он их привязал какими-то верёвочками, а костюм у него был — сюртук длиннополый, обтянутые брюки чёрные, воротничка не было, грудь была открыта совершенно, он приколол огромную белую астру и попросил, чтобы его напудрили. Ну, что же, мы его напудрили.
Вот такая фигура. Это когда был уже сильный голод. Мы тогда жили в Красной Поляне. Хлеба не было. Раз Хлебников говорит: „А ведь лягушки вкусные, во Франции их едят”. Я говорю: „Давайте попробуем”. Он поймал несколько, и мы зажарили. И представьте себе, действительно было вкусно, как куриное мясо. Потом он попросил приготовить ему ещё улиток. Мы ему нажарили. Ничего, только очень жёсткое мясо было. Он ел с удовольствием, но, правда, мы сделали их с маслом и с яйцами.
О Хлебникове можно бесконечно говорить.
Бурлюк Маяковского водил, как поводырь медведя. Он так и рекомендовал его: „Гениальный поэт — Маяковский” И в этот период Маяковский был очень весёлый, энергичный, это огонь был. А дальше он всё мрачнее и мрачнее становился. Маяковский всё время читал стихи, как только приходил, запоем совершенно. Его не надо было просить. Свои стихи читал.
Бурлюк в него был совершенно влюблён. Потом, у Бурлюка было такое свойство, что он вдохновлял людей, внушал веру в себя, как никто другой, такое любование, внимательное отношение у него было к чужому творчеству. В нём было заложено огромное отцовство, везде он выкапывал какие-то таланты. Так же он относился и к Хлебникову.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 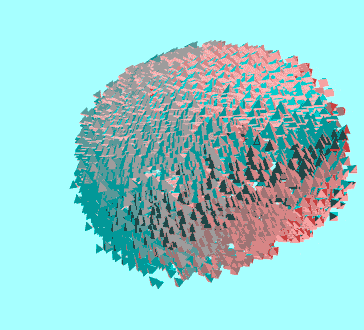 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||