

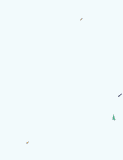 вартира №5” — это отдельная глава нашей жизни, её надо написать. Когда я начинал эту книгу, я представлял её себе совершенно четко, она казалась мне написанной. Но сейчас... я так явственно слышу гул того времени и в нём потерянными наши индивидуальные голоса, что “квартира №5” кажется мне уже эпизодом частным, личным, может быть, даже автобиографическим; автобиографиям здесь, собственно говоря, не место. Когда живёшь в эпоху, подобную нашей, когда дела полумира до известной степени становятся твоими делами, — подчиняешься масштабам.
вартира №5” — это отдельная глава нашей жизни, её надо написать. Когда я начинал эту книгу, я представлял её себе совершенно четко, она казалась мне написанной. Но сейчас... я так явственно слышу гул того времени и в нём потерянными наши индивидуальные голоса, что “квартира №5” кажется мне уже эпизодом частным, личным, может быть, даже автобиографическим; автобиографиям здесь, собственно говоря, не место. Когда живёшь в эпоху, подобную нашей, когда дела полумира до известной степени становятся твоими делами, — подчиняешься масштабам.В пятнадцатом году мне и, вероятно, многим из нас казалось, что в квартире №5 жизнь идёт интенсивней и полнее, чем где-либо в другом месте. Там мы собирались, делились работами и по поводу работ, следили за литературой: читали статьи, слушали стихи, подгоняли ленивых, осаживали тех, которые закидывались; заботились друг о друге, учились искусству. Мы действительно жили там интенсивно, и если бы нам был дан другой кусок истории, возможно, что наши встречи в квартире №5 сохранились бы в памяти как период времени наибольшей жизненной полноты. Но случилось иное: мы жили “там”, а время жило в нас, и то, чем оно жило в нас, было настолько могущественнее нашей личной жизни, что теперь, вспоминая те годы, я явственно слышу гул времени, а голосов наших почти не слышу.
Впрочем, даже тогда, когда события бросают огромную тень, и в тени теряются индивидуальные судьбы, каждый всё равно сохраняет личное ко всему отношение, дающее теплоту эпохе. Так и здесь. Больше всего в своём прошлом я люблю наши встречи в квартире №5.
Мы собирались там обычно раз в неделю по вечерам: пили чай, ели картофель с солью; к концу шестнадцатого года приносили свой сахар и хлеб. В квартире было почему-то три этажа, окно в столовой было на уровне человеческого роста; стол, за которым сидели, был длинным; лампа освещала только середину стола, свет от лампы был жёлтый и тёплый, как в детстве, когда его вспоминают. Приходили и уходили, когда хотели, к весне засиживались до голубого окна, до рассвета. Не было ничего слишком необыкновенного в наших встречах, даже в рассвете, к весне в Ленинграде светает сперва в час ночи, потом в двенадцать, затем, как известно, наступают белые ночи. В белые ночи мы провожали друг друга, шли по пустынным набережным, мимо дворцов, у Зимнего татары в коричневых кафтанах подметали торцы, было вообще призрачно, призрачны были ночные лица прохожих, освещённые в такое время, в которое им бы лучше не быть освещёнными; на каменных скамейках набережных сидели целующиеся. Мы иногда садились и ждали восхода: золотой иглы Петропавловской крепости. Над головами загорались маленькие облака. Ничего, словом, особенного нельзя было усмотреть ни в этих встречах, ни в наших ночных прогулках. И, тем не менее, у наших встреч и у всего, что связано с ними, были свои радости и свои обиды, свое честолюбие, своя гордость, своё высокомерие; в страстях, ненавидя и отрицая, в борьбе, отрицая преждевременно и нетерпеливо, самонадеянно веря в неизвестное н ничего решительно не зная, с каким будущим придется иметь дело, — так мы жили “там” с горячностью, о которой странно вспомнить, побуждаемые молодостью, может быть, даже тщеславием, теперь совсем смешным; любили свои встречи, любили искусство и ревниво берегли его друг от друга.
Кто знает цену искусству, тот понимает, что значит соперничество. Весёлая и мужественная игра, борьба за право на жизнь!
Мы хотели жить по-своему, определить своё время собою, испытать жизнь на своих спинах. В то время среди нас не было ещё никаких группировок; мы были жадны ко всему и беззаботны в отношении догм и теорий. Теории ещё не родились, хотя Виктор Шкловский и был с нами, этот безумный, неукротимый, тогда ещё совсем весёлый человек, не успевший ещё придумать формалистов.
Нетрудно понять жизнь машины на ходу, а как вот понять её разобранной, в чертежах? Никто не знал, какую скорость возьмёт Шкловский в жизни, и как пройдёт эта жизнь сквозь строй современников. Шкловский, вероятно, уже тогда понимал, что „не историю нужно стараться делать, а биографию”. Биографию Шкловский сделал прекрасную. Помню, что я стал завидовать Шкловскому с первой моей с ним встречи; непонятно, чему я тогда завидовал. У Шкловского ещё не было ни одной напечатанной работы; он ещё не выводил броневиков, чтобы делать революцию, не повисал комиссаром несуществующего правительства, не умирал от ран, не стал ещё вождём “формалистов”; всё было впереди, в чертежах. Был он просто несобранный, молодой Шкловский, нетронутый и весёлый — и тем не менее, я уже завидовал ему; теперь знаю, я завидовал тогда его “прекрасным возможностям”. Шкловский сделал жизнь гордой, находчивой, храброй; жизнь, рассказанную им так, что не веришь тому, что она сделана. Он рано понял, что надо делать — биографию, чтобы сделать литературу.
В годы, о которых пишу, Шкловский, повторяю, не придумал ещё Опояза; следовательно, теории не были готовы. Мы жили без теорий, как без пастухов. Но у нас были уже заботы. Как-то раз вечером на столе в столовой квартиры №5 лежал раскрытым второй номер «Центрифуги» 1916 года; слышалось беспрестанно имя „Борис Пастернак, Борис Пастернак”. Никто его не знал, не видел. И я ещё не видел его прекрасной головы, напомнившей мне голову молодого Пушкина. Мы читали статью «Чёрный бокал». Теперь я бы цитировал эту раннюю статью как пример литературного барокко; в то время нас интересовало другое: мы опротестовывали и преодолевали импрессионизм. Пастернак писал:
Нужное нам слово было сказано, мы действительно хотели быть тогда укладчиками в кратчайшие сроки.
С импрессионизмом было всё кончено; это понимали, в конце концов, все. Никто не соглашался дольше жить ни мгновением, ни впечатлением. Необходимо было действительно быстро уложиться, так как сигнализировали отовсюду, и всякая задержка грозила гибелью. Старые места, во что бы то ни стало, надо было покидать тотчас же.
В тот памятный вечер, в квартире №5, над раскрытой статьей Пастернака обсуждали мы направления и измеряли пути. Будущее было как ночь на узловой станции, в безмолвии мигали семафоры. Путь на кубизм был открыт, были открыты все пути на футуризм. На футуризм, громыхая, всё время проходили поезда и забивали пути, постепенно образовывалась пробка; семафоры краснели и опускались. Тогда мы ещё не знали, что футуризм — только направление и что все, стремившиеся туда, в конце концов попадали в экспрессионизм.
Проблему экспрессионизма можно сделать проблемой всей русской литературы от Гоголя до наших дней, теперь она становится также проблемой живописи. Почти вся русская живопись раздавлена литературой, съедена ею. Экспрессионизмом забиты все углы, художники набиты им, как куклы; даже конструктивизм становится экспрессивным.
Иван Пуни сказал однажды про Пикассо: „Картину собрал, а себя не собрал”; сказано зловеще, уничтожающе! Собрать картину и не собрать себя — это путь формализма. Пикассо шёл музеями, пользовался чужим накопленным опытом. Конечно, он поднял новые традиции по ту сторону Ренессанса и, подняв, связал их современным ощущением, но искусства в нём всё-таки больше, чем человека. Пикассо-человек кажется раздавленным человеческим искусством. Всё зависит от восприятия: можно всякую “лошадь в конюшне” увидеть через Жерико, как лошадь Жерико; трудность заключается как раз в том, чтобы, не забывая Жерико, увидеть её по-своему. Чрезвычайно широко распространено мнение, будто Пикассо изобрёл кубизм, но Макс Жакоб, друг Пикассо, в своих «Воспоминаниях» пишет:
Брак был первым кубистом, и те „raisons”,2![]()
Не помню, чтобы в 16-м году были какие-нибудь разговоры о формализме, формализма не было; было другое. Когда кто-нибудь не дотягивал до понимания Сезанна, Пикассо, кубизма и Брака, то говорил: „формалистические искания”. По существу это значило: „Сезанна и кубизма не понимаю”. Так, например, было со мною. Ринувшись в «Аполлоне» “защищать красоту”, я не понимал Сезанна и отмахнулся: “формалистические искания”. Точно так же, если кто-нибудь, не понимая кубизма, делает кубистические вещи, становится формалистом. Формалистичны многие русские кубисты от непонимания и подражательности: шли они от кубизма и мимо жизни, сводили искусство к приёму.
И Шкловский здесь ни при чём: формалисты повисали на нём, как битая дичь; делал он всё-таки биографию, а не литературу. Единственно, что можно сказать ему — и самому себе — в назидание: „теоретик не должен иметь темперамента азиата”; формулировку надо строить так, чтобы не падать в обморок, когда она возвращается, обойдя два или три литературных кружка. Много лишнего выловил Шкловский своими искусными сетями и вынес это героически. Этот человек хорошо собран, и человека в нём больше, чем “литературы”.
Но собранность бывает разная. Можно собрать самого себя, а можно собрать в комок свои нервы — взять сердце в зубы и, скрежеща, начать говорить только о том, что болит. Как мало сейчас людей, которые могут говорить не о боли. Где они, эти современные Стендали, нервные наблюдатели, психологи и всё-таки не экспрессионисты? Они нужны сейчас, как тракторы, чтобы перепахать экспрессионистические мозги современников.
Самое скверное в экспрессионизме — это неограниченность даваемых им возможностей, отсутствие сопротивления: материал не пружинит, он снят эмоцией.
Десять лет тому назад О. Мандельштам, формулируя свои обвинения символизму, писал:
В экспрессионистическом искусстве действительно никто не хочет быть самим собой — двусмысленное искусство и двусмысленно переводящее в космический масштаб: „Гвоздь у меня в сапоге”.
Искусство всё-таки борьба, и в большей степени, чем что-либо другое. Как всему, что есть борьба и соревнование, искусству нужны учёт и организация сил.
Многие начинают хорошо, идут собранными, берегут темп; потом вдруг сорвут, растеряются и уже заканчивают, а не кончают. Мужественные — те просто бросают.
Всякое художественное произведение — след борьбы; оно свидетельствует о поведении человека в бою.
Мне всегда казалось, что экспрессионизм — это плохое поведение в бою. Не хватило силы, не хватило твёрдости; человек сорвался и пошёл на нервах.
У моей ненависти к экспрессионизму есть, впрочем, свои особые основания. Каждый знает минуты слабости. Для меня и для тех, которые согласятся голосовать со мною, такой своей собственной, всегда возможной, всюду подстерегающей слабостью — был экспрессионизм. Когда больше не хватает силы собрать себя и нет мужества, чтобы бросить, неминуемо рванёшься, чтобы идти дальше на нервах — пустое занятие, кончающееся пустотой.
Так ненавижу я в экспрессионизме нашу общую и собственную свою слабость и ещё слабость всей нашей “художественной культуры”.
С тех пор, как путём Гоголя пошла бóльшая половина русской литературы, экспрессионизм стал возможным, вероятным и даже неизбежным в русском искусстве.
Доказательства — цитаты:
1. „И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха” (Гоголь).
2. „Леса, луга, небо, долины — всё, казалось, как будто спало с открытыми глазами” (Гоголь).
3. „...так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с чёрною, как смоль, бородою” (Гоголь).
И много ещё можно было бы привести примеров, не исключая конца седьмой главы знаменитой поэмы:
Гоголь заглядывал в чужие освещённые окна; в чужие окна заглядывает современный экспрессионизм, и таинственными кажутся ему рязанские поручики!
Экспрессионизмом больны многие мои современники; одни — бесспорно: Кандинский, Шагал, Филонов; теперь — Тышлер и Бабель; Пастернак, написавший «Детство Люверс» — кусок жизни, равный прозе Лермонтова, всегда томился в горячке экспрессионизма; Мандельштам, когда он напрасно проходил свой “пастернаковский период”, экспрессионистичен Шкловский в традициях Розанова, ранний Маяковский — поэт, Мейерхольд, Эренбург, теперь ещё Олеша; чем дальше, тем больше, многое в современной живописи, той, которая съедена литературой, налилось и набухло экспрессионистической кровью.
Впрочем, о современниках и обо всём этом следует “вспоминать” позже. В тот вечер, когда, собравшись в квартире №5, изучали мы направления и пути, и шли мимо нас, громыхая, „футуристические экспрессы”, — мы не знали ещё, что пути на футуризм в большинстве случаев были путями в экспрессионизм: ещё не стояла перед нами „проблема экспрессионизма” так, как она стоит сейчас, вооружённая и облаченная всеми традициями гоголевской линии.
В 16-м году нас главным образом интересовала живопись. Экспрессионистическая живопись — нечто немецкое; к немецкой художественной культуре никто из нас тогда не тяготел, никто из нас не называл ни единого немецкого имени, принадлежавшего художнику; Сезанн, Ван Гог, Пикассо, Матисс, Дерен и так далее, до бесконечности; немцев мы просто не знали, даже Ходлера, которого некоторые авторы уже тогда связывали с “новейшими течениями”, с Пикассо, в частности. Были, помнится, беглые разговоры о Кокошке; но, если вообще считать беглые разговоры, то их было больше о Репине. Экспрессионизмом, словом, в квартире №5 не болели; болели футуризмом. С грохотом разливался тогда футуризм по Киевам, Харьковам, Одессам, где-то на периферии, неопределённо братаясь с экспрессионизмом.
Так как слишком частыми становились футуристические маршруты, то решали мы „предложения отклонять” и, где возможно, от футуризма отмежёвываться.
Так произошло наше первое обособление; так сигнализировали мы, что хотим жить всерьёз; время партизанских наездов, время первых “футуристических боёв”, шумное время прошло; всё стало иным, требовало нового отношения, передышки, перегруппировки сил: поколение второго призыва искало своего места в истории.
Досталось оно ему, впрочем, не сразу. Мне, завсегдатаю квартиры №5, казалось, что всё, что там происходило, происходило только там. Между тем, не было ничего слишком необыкновенного ни в наших встречах, ни в наших ночных прогулках, — и журналы мы читали те же, которые читались везде, и так же, как везде, определяли свою дорогу, отмежёвываясь от раннего футуризма. Если и была у нас какая-нибудь особенность, то заключалась она только в том, что жили мы в Петербурге, и что был нам поэтому особенно неприятен московский быт футуризма и отец московского быта — футурист Бурлюк. Над Бурлюком мы неизменно иронизировали. Когда не о чем было говорить, имитировал его Бруни, читая футуристические стихи.
Отмежёвываясь от футуризма, отмежёвывались мы, в сущности, только от Бурлюка и его системы; легче было сказать: долой футуризм, чем отказаться на деле от этого весёлого, лёгкого, крещённого в боях темперамента. Мы ещё долго сваливались в футуристическую яму, и когда кто-нибудь уличал нас в этом, отвечали, как ответил один школьник ругавшей его няньке:
— Ты опять, Виктор, упал в канализацию?
Мотнув головой и пряча за спину густо вымазанные в глине пальцы, Виктор отвечал:
— В канализацию, да не упал.
Нетрудно было обойти “отца” и братьев его — семейство Бурлюков, но как было обойти Хлебникова, Ларионова, Татлина, Малевича — участников первых боёв; для этого надо было объехать кругом почти всю современную литературу и всю новую живопись. На это нас, во всяком случае, не хватало.
Футуризм мы одолевали исподволь и боком, думая, что одолеваем его мы одни, но вместе с нами одолевало его не только всё наше поколение, но и сами участники первых боёв; кажется, все, кроме Бурлюка и Маяковского. У Маяковского были для этого особые основания, в единственном номере журнала «Взял» (декабрь 15-го года) Маяковский писал:
И Маяковский знал, что футуризм кончился где-то около шестнадцатого года, но для Маяковского футуризмом стало всё, — всё, что было ему дорого; что же касается Бурлюка, то, когда год спустя увидел я его в Москве, был он уже совершенной и безнадёжной архаикой. С Бурлюком были сведены все счёты в шестнадцатом году.
„Факт — нахал”; историки никогда не строят истории на одних фактах, из одних фактов истории не сделаешь; нужны система и метод. Будущие историки не поверят факту: футуризм кончился в России, вместе с Бурлюком, в 16-м году. В 15-м году в Петербурге была последняя футуристическая выставка «0,10»; так она и называлась «0,10 — последняя футуристическая выставка».
С этой выставкой приехал из Москвы Малевич, привёз с собой супрематические квадраты и целую свиту художников: все они проходили тогда сквозь супрематизм и супрематизмом приехали искушать нас.
В квартире №5 собралось много народу; не все знали друг друга, знакомились, с интересом слушали, что скажут москвичи. Кроме нас, постоянно бывавших там, Артура Лурье, Альтмана, Тырсы, Мандельштама, Николая Бруни, Митрохина, Клюева, Ростислава Воинова, Ник. Бальмонта, в этот вечер пришли Пуни, Богуславская, Розанова, Татлин, Клюн, Удальцова, Попова, Пестель; были ещё какие-то люди из тех, которые — не художники и не писатели — числятся при искусстве. Собрались в мастерской Бруни, в большой комнате с окном на угол 4-й линии Васильевского острова и набережной Невы. Кажется, из этого окна написал в своё время Ф. Алексеев известный пейзаж: набережная, толпятся корабли и Нева. Квартира №5 находилась в деламотовском здании Академии художеств и принадлежала помощнику хранителя академического музея С.К. Исакову. Л.А. Бруни приходился ему пасынком. Мать Бруни, урождённая Соколова, была в родстве с Брюлловыми. Пётр Петрович Соколов приходился прадедушкой Л.А. Бруни. Таким образом, Бруни, тот, у которого мы собирались, наследовал академизм Брюллова и Ф. Бруни и реалистическое искусство Петра Соколова, одного из наиболее тонких и живых художников XIX века. Предком Соколовым Бруни гордился, его акварели висели у него в мастерской; «Помпеей» и «Медным Змием» постоянно попрекал его Митурич. П. Митурич жил у Бруни, одно время они работали учениками у Самокиша, профессора Академии. Вместе с ними там же работали П.И. Львов, пейзажист, и Нагубников; ни тот, ни другой не бывали в квартире №5. Нагубников был на фронте, кажется, с первых дней войны, Львов — в Сибири. Бруни и Митурич хранили их ранние холсты и любили показывать рисунки Львова за честность, за реализм. Честность и реализм были для них, для Митурича в особенности, синонимами. Суровый был человек Митурич, скупой и требовательный в искусстве, даже исступлённый; ненавидел он уничтожающе и остро; то, что любил — любил упрямо, коленопреклоненно, фанатично и всё-таки холодно; суровую он приготовил себе жизнь; восстал один и вёл свою борьбу непреклонно; спасал Хлебникова в его последние дни, не спас и похоронил у себя в Ручьях, изобразив на крышке гроба голубой земной шар и надпись: “Председатель земного шара Велимир I”.
В квартире №5 Митурич был нашим обличителем, нашей совестью: его коротких и злых приговоров всегда немножко боялись, и поэтому ему всегда сопротивлялись заранее. Митуричу не хватало широты, чтобы стать вождём, уступчивости и понимания, чтобы быть собирателем. Собирателем, организующим центром, объединившим нас, вовсе не похожих друг на друга, был Лев Бруни.
Бруни любили, любили мягкость его отношений, его юмор. У Бруни был вкус к человеческому поведению, к быту. Быта он не боялся, любил уклад жизни, всегда относился с интересом к людям практичным и не подымал романтических метелей вокруг своей профессии. Был он моложе всех нас, казался мальчиком, но умел собирать и сталкивать людей лбами. Меня он разыскал на каком-то литературном вечере в Тенишевском зале, где читал Блок «Под насыпью, во рву некошенном», и привёл к себе, показал портрет поэта К. Бальмонта и акварельную голову Клюева с лимонно-жёлтыми волосами на синем тёплом фоне; на Клюева было непохоже, было похоже на “Матисса”. В искусстве Бруни шёл широко, искал влияний, но не повисал беспомощно в направлениях; в те годы ещё изобретали “измы” и менять направления было модно.
Впрочем, в квартире №5 “измы” были осуждены сразу и навсегда, никто не покрывал ими своих работ, называли только те из них, которые имели достаточное содержание и без которых нельзя было обойтись: импрессионизм, футуризм, кубизм.
Когда Малевич вместе с выставкой «0,10» привёз супрематизм, новый “изм” никого не соблазнил уже тем, что он был новый. Время футуризма истекло, никому из нас не хотелось скакать, рубя на ходу головы глиняным куклам. Бруни, правда, говорил об „убитой форме”, но это относилось к методу; под этим разумелся творческий акт; художник — это стрелок, форма — это реальность; художник может промахнуться, ранить или убить форму; произведение имеет хорошее качество только тогда, когда реальность убита сразу, одним ударом, как бы вбита и пригвождена к поверхности. Именно о методе чаще всего шла речь в мастерской Бруни: не нового искали — искали средств, чтобы овладеть реальностью, приёмов, с помощью которых можно было бы взять реальность мёртвой хваткой, не терзая и не терзаясь ею, её конвульсиями и стонами, её агонией на холсте. Художникам нужен был меткий глаз и тренированная рука, охотничий нюх, сноровка и повадка охотника; зверь был страшен: за промах, за рану никто не ждал и не хотел пощады. Во всём, что делалось тогда, во всех работах и поисках была суровость; люди были серьёзны и честны. Мы все ненормально устали от приблизительностей и условностей эстетизма и не меньше — от рысистых испытаний футуристических дерби; искали искусства крепкого и простого, в той мере простого, в какой оно могло быть простым в те переходные и потрясенные годы.
Уже давно среди нас наметился перелом, к которому, сознавая это или слепо, жадно или нехотя, нетерпеливо или оглядываясь на успех, на деньги, на прошлое, мы все шли, перелистывая страницы, дни и месяцы, с тою же последовательностью, с какой шла за окном жизнь; жизнь города, судьба войны, всего, что считали мы своим и что казалось нам современным.
Современностью мы дорожили, во всяком случае, никто из нас не хотел обгонять своё время, никто не хотел смотреть поверх голов, — позами не соблазнялись. Искусство должно быть понятно и любимо: если это хорошее искусство, оно должно быть понятным сразу: любить можно только нужное, нужным должно быть то искусство, над которым работали в мастерской Бруни. И мы верили, что наше искусство просто, понятно и нужно. Верили этому раньше, в 15-м году, и верили позже, в конце 16-го, войдя в кубизм, даже уйдя в конструктивизм Татлина, потому что и то и другое было для нас не направление, не “изм”, а метод. Война сделала с нами своё дело, она легла между нашей жизнью в квартире №5 и „первыми футуристическими боями”, оторвала от нас куски прошлого, которое должно было принадлежать нам, одно укоротила, удлинила другое, как свеча укорачивает и удлиняет тени, падающие на стену, и, переключив мир на новую скорость, подостлала под наши жизни зловещий фон, на котором всё стало казаться одновременно и трагичным, и ничтожным. Мы рано поняли, что приём, которым с ошеломляющим успехом и в то же время неумеренно пользовались первые участники футуристического движения — эпатировать буржуа — этот приём был вреден и неуместен в условиях 15–16 годов. Он был вреден, потому что приучал относиться к искусству как к скандалу, снимал качество и действительный смысл художественной борьбы: он был неуместен, потому что “буржуа” были уже настолько эпатированы войной — этим футуристом, шагавшим по шару в кровавой кофте непрекращавшихся закатов, что эпатировать его дополнительно было попросту глупо. И у нас сложилось мало-помалу ироническое отношение ко всему, что было связано с первым футуристическим походом. О Бурлюке я уже сказал — с этим было кончено быстро, но и более значительные: Ларионов, Гончарова, Лентулов, Малевич, Каменский и Маяковский... казалось, мы смотрели на них тогда со стороны, чужими глазами.
Только Татлин и Хлебников стояли нерушимыми: в Татлине видели мы кратчайший путь к овладению качеством, в особенности качеством материала; жили мы в Петербурге и были повиты петербургским, мирискусническим, “графическим” отношением к материалу, то есть просто плохо его чувствовали. Татлин нам был нужен как хлеб.
Малевич приехал, таким образом, почти в готовую оппозицию и почувствовал это быстро; он ещё ходил по мастерской Бруни, ещё убеждал с тем изумительным напором, который гипнотизирует, заставляя слушать, говорил, как пронзал рапирой, ставя вещи в самые острые ракурсы и мысль кладя на ребро; напирая, отскакивал от собеседника, тряс рукой, короткими, мелко и нервно дрожавшими пальцами, — словом, ещё вел себя великим агитатором супрематического изобретения, но знал уже, как знали все мы, что не висеть супрематическому квадрату в квартире №5, и что супрематизм, это позднее и последнее порождение кубофутуризма, пройдёт мимо и станет в стороне от нашего прямого и единственного пути через материал к качеству.
Мы, вероятно, не представляли себе в то время достаточно ясно, какое вообще место супрематизм может занять в новом искусстве. Но в самом Малевиче, в этом великолепном агитаторе, проповеднике, ересиархе супрематической веры — и во всём, что он говорил, было тогда столько непреодолённого футуризма, такая тяга к изобретательству за счёт качества, такая рационалистическая закваска, что всё равно мы чувствовали: супрематизм — это тупик, пустота, прикрытая футуристическим подвигом, пустота изобретения вне материала, холодная пустота рационализма, побеждённая миром и поэтому бессильно поднявшая над ним квадрат.
Была невыносима самая мысль о беспредметности; она резала все пути и, отнимая у жизни качество материала, лишала её искусства. Это мы поняли сразу, и по этой линии шли наши основные протесты, иногда неудачные, потому что нелегко противостоять Малевичу, его логике, его огромной интуиции, но всегда удачно сводившие спор к основным проблемам реализма. Малевич выпустил тогда к выставке и устроенному в связи с этой выставкой диспуту тезисы-афоризмы (тезисы-афоризмы были выпущены также И. Клюном, М. Меньковым, И. Пуни и К. Богуславской). В этих тезисах-афоризмах Малевич утверждал:
Эти утверждения Малевича ребром врезались во все наши отрицания, отчего отрицания эти делались острыми, закипали ненавистью и, оттачивая нас, вызывали на борьбу за тогда ещё смутно угадываемые основы реализма.
Приезд Малевича и весь поднятый им вокруг супрематизма шум завязал, таким образом, узел на нашей тогдашней жизни; когда он затем уехал и снова пошла эта жизнь своей естественной скоростью, мы были уже не те; за спиной стояли квадраты супрематизма, за квадратами супрематизма стоял весь ушедший в отрицание кубофутуризм, а впереди всё требовательнее, всё более набухая зрелостью, насыщаясь и сливаясь с жизнью, как конкретная проблема качества, стояло искусство.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 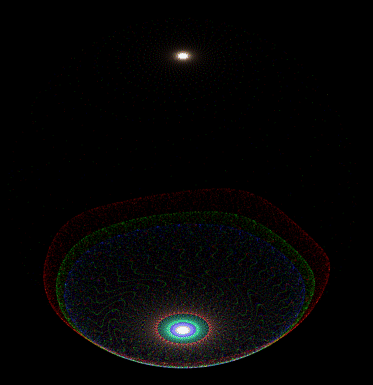 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||