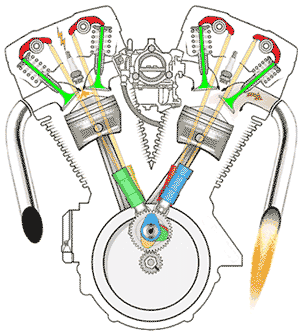
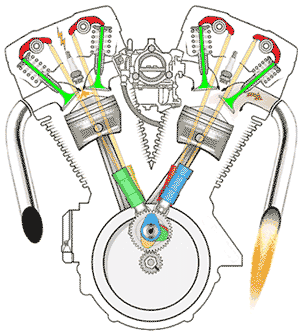
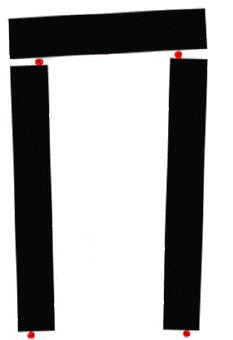 ервое появление Маяковского помню осенью 1913 – зимой 1914 года. Он уже отставал от знаменитой полосатой кофты. В «Собаке» бывал в куртке и цилиндре. В «Собаке» я с ним и познакомился.
ервое появление Маяковского помню осенью 1913 – зимой 1914 года. Он уже отставал от знаменитой полосатой кофты. В «Собаке» бывал в куртке и цилиндре. В «Собаке» я с ним и познакомился.В первом сезоне Маяковского не было, иначе «Собака» в первый же день увидела бы его. «Собака» была таким организмом, что если появлялся на горизонте такой темпераментный человек, он непременно оказывался в ней.
Приехал Маяковский в Петербург в 1913 или 1914 году, в ноябре или декабре, точной даты я не помню. Но факт, что перед войной Маяковский был видной фигурой в «Собаке»; в феврале-апреле 1914 года мы его уже знали, хотя на спектакле «Владимир Маяковский» в Луна-парке я не был.
Мы решили, что доступ в «Собаку» будет крайне затруднён, что всё второсортное и третьесортное в «Собаку» не будет допущено. „Пусть не будут допущены, — говорил Сапунов, — такие, как академик Бергольц!” Бергольц был в Академии академиком живописи, но — с точки зрения Сапунова и моей — он просто олицетворял собой пошлость. Когда я попал в его мастерскую, я увидел, что на огромном мольберте у него стоит рама, и он туда вписывает пейзаж. Когда я рассказал об этом Сапунову, тот пришёл в ужас. Решили, что за эту раму мы его не будем пускать.
Помню историческую фразу Сапунова на первом собрании: „Наглухо не пускать фармацевтов и дрогистов!” (Сапунов обозначал этими словами зубных врачей, присяжных поверенных — они были личные враги Сапунова). И персонально было решено не пускать Брешко-Брешковского, Митьку Цензора и ещё кого-то. Дмитрий Цензор тогда издавал «Синий журнал» — квинтэссенцию пошлости.
У Сапунова было чутьё на людей, и я уверен, что у него был бы необычайный контакт с Маяковским. Маяковский был необычный человек по своему отношению к искусству, очень строгий, могло показаться — разнузданная богема, скандалист, а по существу — страшно застенчивый и скромный человек. Сапунов был похож на него.
Девизом стало:
1) наглухо не пускать фармацевтов, дрогистов. Цензора, Регинина и Брешко-Брешковского, а также второй сорт поэтов и художников;
2) у «Собаки» есть своя точка зрения на жизнь, на мир, на искусство.
Мы тогда считали, что у нас есть такие арбитры, как Сапунов, Сац. Это была мальчишеская, но верная точка зрения, и к ней всем своим существом примкнул Кульбин. Не забуду, как он, опоздав на открытие «Собаки», сказал: „Тут делается замечательное дело, и вы, Борис, должны прибить на дверях три стальные буквы латинского алфавита”.
Я сразу догадался, что это «A.R.S.» и что отсюда надо идти.
В «Собаке» правы были застенчивые: оргий и связанных с ними гадостей не было, не было пьянства, которое было в «Вене», где бывали Куприн и Ходотов, где пили до положения риз. В «Собаке» сидели, пили до 7 часов утра, это верно; но выходили не как из «Вены» — выходили трезвые. Сюда привлекали разговоры, споры. Хотя буквы «A.R.S.» и не выбили, но дух этот чувствовался. Если бы у меня была дочка — барышня-институтка, она бы могла туда приходить без провожатых, и её бы не обидели, это чувствовалось по атмосфере; никакой разнузданности по отношению к дамам не было. И это в ту пору, когда делалось чёрт знает что! Надо сказать, что без “фармацевтов” мы всё же не смогли обойтись — они нам давали доход. Мы как-то привыкли к ним. Бауэр присылал вина и счета, и “фармацевты” оплачивали бутылки, которые выпивала богема. Я всегда говорил Кузьме-буфетчику, чтобы поэтов и художников не донимать счетами. Счета оплачивали “фармацевты”, которые сравнительно дорого платили за вино; был такой Маргулис — присяжный поверенный: он платил 4 рубля за двухрублёвую бутылку, и мы пили за 1 рубль вино Франческо Танни.
Все учредители «Собаки» образовали правление по образцу градоначальства, был председатель, были действительные члены, которые имели право на каждое исполнительное собрание дать 2 пропуска, при этом на каждого в книжке записывалось, что „Сапунов рекомендует такого-то и такого-то”.
Алексей Толстой был членом правления «Собаки», одним из основателей, как раз он принёс собачью книгу для записей — каждый, кто входил в «Собаку», должен был в ней расписаться, — многие не ограничивались распиской и давали шутливый акростих. Там были и знаменитые подписи Потёмкина с Подгорным. Таких было две книги, наверное, там были и записи Маяковского: я помню фигуру Маяковского, склонённую над книгой.
Такая клубная система была и предлогом для отказа. Приходили разные люди, большей частью я дежурил у входа и говорил: „Раз вы не записаны, вы не можете попасть”.
Тогда же возникла мысль, что, кроме художников, на которых всё главным образом и базировалось, нужно привлечь и поэтов. Пришли Гумилёв, Ахматова, Кузмин, а вот Блока не могли захороводить, он был страшно мрачен в этот период.
Хотя мы с ним были близки, и он меня любил (по театру Веры Фёдоровны) — в «Собаке» он бы чувствовал себя плохо, сидел у себя в квартире, был замкнут и меланхоличен.
Во втором издании «Собаки» — «Привале комедиантов» — Блок бывал. Бывал Сологуб, но не ярко.
Итак, в «Собаке» в первый же год начали царить поэты, были определены официально вечера поэтов, на которых подвизались в основном Кузмин и Гумилёв. Они считались арбитрами, они судили молодых поэтов.
Бывал также и Городецкий с его „цехом поэтов”. В «Собаке» были даже заседания цеха, где серьёзно и научно разбирались всякие вопросы, но это были заседания не наши, не “собачьи”, а бывало это часов в 6 академические часы. Блок к этому чутко и приветливо относился, он был председателем „цеха поэтов”.
Гумилёв мне рисовался очень чопорным человеком, чувствовалось, что сверх дворянского происхождения. Он был на ходулях, на котурнах. В «Собаке» он бывал часто, и был одним из присяжных любимых поэтов. Когда он уехал в Абиссинию, то абиссинские свои стихи присылал и передавал через Ахматову. Я настоял, что кто-то должен читать их по рукописи, уговаривал Т.П. Карсавину, она долго отказывалась; я говорил ей: „Вы с вашей простотой и чёткостью лучше всего прочтёте, и Гумилеву будет приятно, что вы будете читать, а не Тиме”. И она очень хорошо читала абиссинские стихи.
Ахматова бывала очень часто, она была замужем за Гумилёвым, жили они в Царском Селе, в аристократическом доме родителей Гумилёва. Там же было венчание в церкви, там родился у неё сын. Это была чопорная, очень замкнутая семья, из наших никто там не бывал. Чувствовалось, что у себя в доме они чувствовали себя стеснёнными, а они были людьми богемы. Ахматова тоже выступала с чтением стихов.
Маяковский бывал на этих читках, это были “четверги поэтов”. Назывались: «73-й четверг» или «Вечер поэтов».
Читалось много стихов, обсуждений не было; обсуждения были во время заседаний цеха, но в них Маяковский не принимал участия и не был близок с Городецким. Гумилёв был на войне, получил орден за отчаянную храбрость. Он приходил в полной военной форме, я помню, как он произносил в «Собаке» слова: „Мы — её величества полка”, чувствовалось, что он горд мундиром, купается во всём этом, в то время как наши смотрели на мундир как на проклятие. То, что для Кульбина-военного было отвратительно, то Гумилёв воспринимал как легионер, он знал и любил этикет.
Радаков жил над «Собакой». Сначала он нас бойкотировал, а мы хотели его привлечь, но потом он страшно близко вошёл в «Собаку».
С Аркадием Аверченко и Ремизовым произошёл у нас безумный скандал, был момент, когда они in corpora пришли после нескольких месяцев существования «Собаки», и мы нелепо, фанфаронски не пустили их, сочтя за “фармацевтов”. К чести моей, это было без меня. Тогда произошла страшная драка под воротами, “мамаево побоище” или “ледовое побоище”. Летали глыбы снега, Цыбульский бросался галошами, ему разбили пенсне и даже какую-то часть тела. Но потом всё это уладилось, так как Тэффи была всецело наша, бывала на собраниях, «Собаку» очень любила, и потом Радаков и Ремизов стали частыми гостями в «Собаке», а Саша Чёрный и Аверченко заходили изредка.
Судейкин был строптивый человек, надломленный, но яркий, к Маяковскому он относился очень хорошо, чувствовал талантом художника, что это настоящий поэт.
Сапунов тоже был страшно строптив. Иногда я соблазнял его (это очень курьёзно) пойти в хорошие семейные профессорские дома, где всё благополучно, вкусно, масса вина, но Сапунов этой атмосферы не выносил и сейчас же мне говорил: „Боричка, смоемся”. Единственный буржуазный дом, где Сапунов чувствовал себя хорошо, — это бедная квартирка Анатолия Васильевича Луначарского. Был такой момент, когда Луначарский в качестве журналиста страшно бедно жил на одной из линий Васильевского острова: у него бывали понедельники: скромное вино, чай, разговоры об искусстве, о Боге, о бессмертии души. Я привёл туда Сапунова, и ему бесконечно понравилось. Это был буржуазный дом, но там царила атмосфера Луначарского. Анатолий Васильевич умел создать атмосферу и в бедной квартире. У него бывали какие-то “политические” люди. Сапунов органически не выносил политики, но к большевикам-подпольщикам, встреченным у Луначарского, Сапунов присматривался, находил их яркими: в них тоже было что-то от искусства.
Сам Луначарский в «Собаке» не появлялся, но если бы прожил в Петербурге дольше, конечно бы появился. Залог — атмосфера его квартиры 1908 года. Когда он появился в наследнике «Собаки» — «Привале комедиантов», он пришёл в восторг и читал там реферат о Мейере-мастере из Дрездена.
Вспоминаю Кульбина. Это была фигура! Он был ярчайшим королем богемы, при том что он был военным, главным врачом Генерального штаба — штукой колоссальной по иерархии! Это человек, который мог бы брать безумные взятки, нажить пять домов, если бы освобождал купеческих сынков от воинской повинности, но у Кульбина, кроме потрёпанной куртки и шинели, ничего не было. Это был большой человек — философ, универсал. Мы его прозвали Сатиром. Он имел огромные познания по астрономии, имел свои астрономическо-философские теории; так, он пятна на Солнце связывал с различными пертурбациями на Земле. Кроме того, он был человеком, склонным к искусствам, был прекрасным художником, но своеобразным. Мастерством он овладевал с налёта, от таланта, будучи при этом медиком и генералом от медицины. Отсюда — неизбежный дилетантизм в поэзии и живописи. Но личностью он был ярчайшей. В живописи был крайним левым; яро приветствовал появление Малевича. Был знатоком поэзии и базировался на футуризме, которого ещё не было.
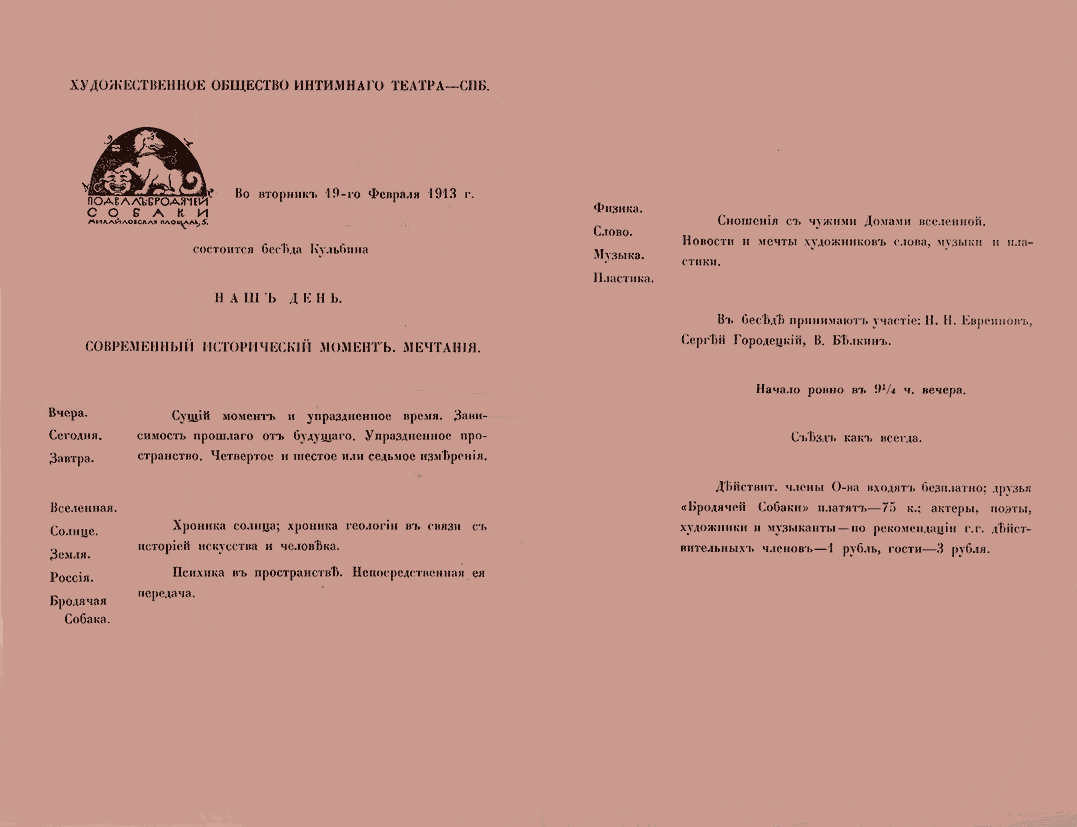
Он пришел в «Собаку» на третий день после начала её существования и удивился: „Каким образом я не попал в день её открытия?” Пришёл человек в потрёпанной николаевской шипели, со шпорами, которые забывал снимать, или с одной шпорой, или в куртке художника под шинелью. На улице солдаты отдавали ему честь, а когда он сбрасывал шинель, ничего генеральского в нём не чувствовалось: человек искусства, бессребреник. Его другом был Евреинов — полупоэт, полурежиссёр, полухудожник.
Кульбин сам делал постановки, тратя на это массу сил. На выставках он был с крайними левыми и даже выставлял с ними свои вещи. В «Собаке» он сделал две небольшие стены.
Кульбин был замечательный человек, и жаль, что о нём ничего нет. Это был друг поэтов и художников, меценат; хотя денег у него не было, он делал больше, чем иной с деньгами. Жил он небогато, получал казённое жалованье, был женат, имел двух детей; квартира была в три комнаты, а все деньги он тратил на искусство.
Откуда только бралась такая эрудиция! Когда он говорил о Бетховене, это было так же, как когда Луначарский говорил о музыке. Когда он говорил о Рембрандте, чувствовалось, что он и это знает. Он хотел в «Собаке» прочесть лекцию о солнечных пятнах и об их влиянии на судьбы человечества. Я говорил, что «Собаке» это не подходит, но где-то он это читал. Я был, но ничего не понял, а в философских обществах к нему относились очень внимательно.
Почему я вспоминаю Кульбина? Ему тогда было лет 50, он был уже старик, все мы перед ним были юноши, вдруг — такой старый Сатир! Когда против Маяковского ощетинились наши “эстеты”, то Кульбин, несмотря на годы, философским чутьём (и я — своим чутьём) почувствовал в Маяковском такую штуку, которая разобьёт наших, их поэтические перепевы. Естественно, все наши обиделись на Кульбина и на меня.

Маяковский появился у нас, как все, кто появлялся из Москвы и из других городов: каким-то нюхом, чутьём. Это был конец 1913 – начало 1914 года, его рекомендовал то ли Хлебников, то ли Каменский, во всяком случае. Маяковский с кем-то пришёл, и, видимо, «Собака» ему поправилась, потому что Маяковский был строптив, как и Сапунов, и, если бы место ему не понравилось, он бы не стал ходить. Первое самочинное выступление Маяковского оценил Кульбин и я, а наши “эстеты” приняли в штыки. (Вообще, появление Маяковского с его сильнейшей индивидуальностью и революционностью шокировало наших эстетов-поэтов: Кузмина, Гумилёва).
В «Собаке» были учреждены специальные “четверги поэтов”. Маяковский в первый же день сказал: „Я буду читать иногда не на специальном вечере”. Он бывал обычно по средам и субботам. Дело в том, что Маяковский в Петербурге имел одну-единственную арену — «Собаку». И на каждом собачьем заседании в среды и субботы Маяковский выступал; в «Собаке» он читал «Облако в штанах». Это были вечера, на которые собирались учредители и отборные “фармацевты” — Эрнстов, Волькенштейн, Маргулис — они бывали постоянно — зубные врачи и адвокаты, но, по сути своей, люди от искусства.
Но этого ему было мало. Помню, он мне говорил: „Боричка, ты устрой мне вечер, тогда мы всех эпатируем”. Мы с Кульбиным затеяли его вечер, нам ставили всяческие рогатки, и вечер не состоялся, но в этот же период состоялся вечер лирики, на котором и произошёл этот знаменитый скандал с Маяковским.
У меня был друг — Антон Лось, крупный актёр из Малого театра. Он пришел ко мне и говорит: „Боричка, надо сделать в «Собаке» вечер признанных лирических поэтов, я даже Щепкину-Куперник выведу в свет, она будет читать свои вещи и переводы”. Я говорю — „Отлично”.
Этот вечер привлёк страшное нашествие “фармацевтов”. Судейкин почему-то сделал голубой фон, какие-то сталактитовые сооружения из тюля, что-то, грубо говоря, вроде колбас, которые драпировали лампочки: эту марлю или тюль окрасили в голубовато-бирюзовый цвет, это давало подводное освещение, и был очень хороший! Панно на эстраде и какие-то голубые ангелы (это было не иронически, а эстетно, так Судейкин представлял себе вечер поэтов. А со сталактитами долго мучились с проводкой).
На этом вечере было обилие народа: Кугель и Зина Холмская, основательница «Кривого зеркала», актриса из Малого, которые сражались против Художественного театра: он писал громовые статьи против «Сверчков», натурализма, топил и смешивал с грязью. Была Тэффи, остроумная до предела — она была другом «Собаки». Друзья «Собаки» — с большой буквы — были люди, которые сделали для «Собаки» существенные вещи. Тэффи была другом, потому что она — Тэффи, но другом был и один инженер, который ставил флюгер и ночью во фраке и белой сорочке лазил на чердак и на крышу: благодаря его стараниям камин в «Собаке» стал гореть. Итак, были Тэффи, Гумилёв, Ахматова, Кузмин, молодёжь: Г. Иванов, Ивнев. Была Венгерова, Яворская, артистический мир Малого театра.
Существовала программка этого вечера. Там значилось: «Общество интимного театра», потому что если бы цензору сказать: «Бродячая собака», он бы не разрешил. Затем была марка Добужинского: подвал и собака, сорвавшаяся с цепи.
Написано: «Вечер лирики» такого-то марта 1915 года. Должно быть, такая программка сохранилась у Голубева — одного из обаятельнейших людей старого и нового Петербурга, он любил «Собаку» и всё собирал. Когда мы вспоминали, кто в чём участвовал, то у него смотрели программы.
Щепкина-Куперник не соответствовала нашему духу, но всё же Щепкина-Куперник — это звучало! Зинаида Венгерова — это звучало!
Но, несмотря на эти слюнявые сталактиты, несмотря на хорошее панно — ангелов, несмотря на битком набитый зал и, грубо говоря, хороший сбор (в кассе было рублей 100), что нам было очень важно: несмотря на то, что буквально негде было сесть, — было скучно, потому что вечер лирики, так же как и сама Щепкина, — это было не свойственно стенам «Собаки». Я помню, как сейчас, интонацию Маяковского, который сказал: „Вдруг в «Собаке» — мёртвая точка?!” Это был единственный вечер провала в «Собаке»: лирические поэты на фоне четвергов были ужасно мертвы: обыкновенно вечера были острее.
Я сидел с Верой Александровной — моей женой, которая очень признавала Маяковского. Она была человек от искусства, очень многое понимала. Вдруг Маяковский обращается ко мне: „Боричка, разреши мне!” А он чувствовал, что его не любят и на эстраду не пускают, что я и Кульбин — это единственные, кто за него, и это была его трагедия. „Разреши мне выйти на эстраду, и я сделаю “эпатэ”, немножко буржуев расшевелю”. Тогда я, озлобленный тем, что вечер получился кислый, говорю Вере Александровне: „Это будет замечательно”, и она говорит: „Шпарьте!” Маяковский вышел и прочитал «Вам!» Это имело действие грома, получились даже обмороки. Была такая Т. Шенфельд, она что-то делала в «Сатириконе», её это так ошарашило, что она была в полуобмороке, полуистерике, её это шокировало больше всех. На стороне Маяковского была Вера Александровна, Кульбин и я, а все наши остервенели, даже Кузмин. И тут случилась примечательная вещь: князь Михаил Николаевич Волконский, человек с огромной серебряной бородой, лет 80-ти, автор многих исторических романов, печатавшихся в «Ниве», — был возмущён публикой и, представьте себе, не был возмущён Маяковским! Он бросился ко мне и сказал: „Простите, мы ещё не знакомы” (а меня считали хозяином салона, как ни странно, быть в «Собаке» называлось “быть в гостях у Бориса Пронина”, я назывался хунд-директор).
И вот по-старинному воспитанный человек, князь Волконский говорит мне: „Я у вас в первый раз, но, по-моему, происходит глубочайшее недоразумение: разрешите мне выйти на эстраду и поговорить с собравшимися”. Я говорю: „Да, пожалуйста”. Я сразу почувствовал, что у князя с серебряной бородой симпатия к нам.
Он ловко и остроумно выступил, как совершенно светский в прошлом человек (в нём было что-то от Льва Толстого), и сказал приблизительно следующее:
— Я не понимаю возмущения присутствующих. Мне кажется, что юноша, который прочитал необычайные по форме и необычайные по поэтической силе стихи, юноша-поэт почему-то шокировал собрание. Я тут в первый раз, всех вас вижу в первый раз, но и юношу, который прочитал великолепное, хотя и странное, стихотворение, тоже. Я нахожу, что если бы нецензурное слово в последней строчке заменить, то стихотворение этого не рядового поэта было бы совершенно великолепным! И удивляюсь, зачем вам дался этот юноша!
Он действительно впервые увидел и услышал Маяковского, но почувствовал поэта, который прочёл интересную вещь; а может быть, это был своеобразный патриотизм: этот князь был чрезвычайно штатским и совершенно либеральным. А те все озверели и не могли слышать о Маяковском.
Скандал перебросился в «Биржевые ведомости». Появилась гнусная статья о «Собаке», а это могло вызвать осложнения в градоначальстве. На вечере пресса в качестве “фармацевтов” сидела обильно, но отчёт в «Биржёвке» был пасквильный: во всём-де виновата «Собака», её правление и Маяковский, а о Волконском, который лил масло на бушующие волны, ничего не было. Надо было спасать положение. И мы решили пойти в «Биржевые ведомости» втроём: Вера Александровна — очень храбрая женщина, Маяковский и я.
Мы пошли чуть ли не бить морды, объясняться с сукиными детьми, которые сами же у нас бывают и нас поливают грязью, и объясняться с редактором. Маяковский сперва страшно храбрился, говорил: „Боричка, я надену цилиндр”, когда же мы туда пришли, пыл у него спал, он начал со своей огромной палкой ходить по коридору, тереть руки и, в конце концов, сказал: „К черту, я никуда не пойду!” Он был очень застенчив.
Тогда выступила Вера Александровна: „Нет, раз мы пришли — мы пойдём!” Когда мы ворвались в кабинет, говорила только Вера Александровна, а Маяковский был фраппирован хамством и страшным формализмом «Биржевых ведомостей». Но скандал как-то рассосался.
Маяковский, Каменский и Хлебников появлялись всегда вместе. Это была признанная группа, их называли “футуристы”. Маяковский очень дружественно относился к Каменскому, страшно нежно и глубоко — к Хлебникову. Это у меня такое ощущение, но фактов и реплик я не могу привести. Хлебников тогда был ужасно одет, страшно застенчив и молчалив. Если выступал в «Собаке», то даже мы, даже Кульбин (а это был главный застрельщик всего крайнего и заумного) его не понимали.
Когда я вспоминаю эту троицу, то тут сквозило очень глубокое, очень нежное отношение; как они входили, как Маяковский держал Хлебникова за плечо, как проталкивал вперед, как вместе пили вино, потому что у Хлебникова никогда не было ни гроша, а у Маяковского изредка появлялась копейка, тогда он требовал вина и Кузьма им нёс: в том, как он наливал Хлебникову вино, во всём чувствовалась глубокая любовь.
Каменский вёл себя, как всегда, шумно, бурно, говорил за всех, лез вперёд: из троих он был самый многоречивый. Маяковский иногда замыкался, и на фоне грохота и шума мрачно курил в углу. Иногда заводил игру в орлянку, в этом плане он был азартен.
Кручёных появился в том же окружении, но его не любили, считалось, что это второй сорт. Я его помню смутно.
Была еще одна необычайная фигура этой эпохи: Цыбульский, композитор, совсем спившийся, но не так, как обычно, а так, словно назначение его жизни было пить. Он пил днями и ночами и никогда не был пьян, никаких признаков опьянения. Это был какой-то слоновый ум: музыкант, математик, шахматист и чистейшей воды циник. Так вот, этот Цыбульский на одном выступлении Кручёных, где тот читал и вызвал шум и нарекания “фармацевтов”, поднял руку и сказал: „Позвольте и мне прочесть стихотворение”, а так как все знали, что он необычайно остроумен, воцарилась тишина. И он прочёл неприличные стихи:
Вагон — на вагон ... 10 лошадей. 40 человек.
Раздался гром аплодисментов: Кручёных этим выступлением был совершенно забит, а мы всё плохое с тех пор стали называть “вагон”.
Мне кажется, что контакта между Маяковским и Кручёных не было. А вот Хлебникова мы считали большим поэтом; даже Кульбин, не понимая его, чувствовал колоссальную личность.
Недалеко от «Собаки» был итальянский ресторан «Танни» — бедный, обшарпанный, но он умел привлечь аристократов, таких, как Олсуфьев, Модест Чайковский, князь Барятинский. Волконский. И, наряду с ними, там бывали наездники из цирка, клоуны (как итальянцы), конюхи и ливрейные лакеи из придворных конюшен. Там были необыкновенные вина и прекрасная, чисто итальянская кухня, очень дешёвая. Раз, попав в этот ресторан, я почувствовал там атмосферу, к тому же он был в двух шагах от «Собаки», и часто мы днём сидели там, а ночью в «Собаке». Маяковский там часто бывал, он приходил с Радаковым, там был особый кабинет, где сидели Цыбульский, Судейкин и Радаков. Маяковский никогда не писал в обстановке этого кабачка, его манера работать была одиночкой, иногда было видно, что он идёт по Невскому в каком-то ритме и слагает стихи. Таскать же с собой записную книжку — это было ему несвойственно.
Тогда же примерно приехал Маринетти, и была неделя Маринетти.
Как-то утром, накануне войны, приходит Кульбин и говорит:
— Боричка, ты понимаешь, что произошло: приехал Маринетти.
— А что это такое — Маринетти?
— Как, ты не знаешь? Это родоначальник футуризма, итальянский француз (и в двух словах очертил его роль). — Но ты представь себе, наши “молодцы” — Кручёных, Лившиц, Шершеневич не только выступили, но на заборах наклеивали пасквили, которые смешивали Маринетти с грязью. Щенки!
Кульбин был возмущён, а то, что говорил Кульбин, принималось на веру, он был непогрешимый авторитет. Проходили годы, и всё, что говорил он, оправдывалось.
Нам в «Собаке» надо было что-то предпринять против этого “манифеста”. Маринетти — иностранец, гость в Петербурге, наши же молодцы обложили его так, что неловко было за них. Надо было поправлять дело. И вот наш генерал будит меня в 9 часов утра и говорит:
— Вот какой у меня план: мы должны пойти к Маринетти, нанести ему визит, как два петербуржца, два русских человека, и пригласить его в «Собаку». Я знаю, где он остановился, и мы загладим их неловкость и, как русские люди, окажем гостеприимство.
Как сейчас помню, мы явились к Маринетти в Европейскую гостиницу. Маринетти был страшно богат, его отец в Италии был фабрикант первосортной бумаги. Принял он нас хорошо. Говорили по-французски. Итальянец, он был представителем скорее французской культуры. Кульбин сразу начал с того, что мы его приглашаем в “Собаку”, и рассказал, что такое «Собака».
В «Собаке» была целая неделя Маринетти, она была страшно яркая, и все, кто обложил Маринетти, были побиты.
Маринетти сразу почувствовал нашу атмосферу; было решено, что он в «Собаке» будет делать конферанс о Париже и о разных течениях (французской литературы).
Читал он на французском языке. Мало кто понял, но, по словам Кульбина, это был замечательный, содержательнейший конферанс.
Маяковский на этой лекции сидел, курил и наблюдал иностранца. Когда же Маринетти начал читать стихи, чувствовалось, что и Маяковский был заражён его темпераментом и поэтическими комбинациями. Он читал две поэмы: о маленькой улице в Париже по ту сторону Нотр-Дам, тут и разносчик, кричащий “ерико”, и крик точильщика — замечательно сделано! и ещё одну, под названием «Автомобиль». За эту неделю в «Собаке» Маринетти прочёл её раз десять.
Я плохо понимаю поэтический язык, но в этой поэме чувствовалась машина необычайной мощности, которая несётся по шоссе, потом постепенно, очень мощно, усиливает ход, и возникает ощущение, что она взлетает на вершину холма, затем спуск. Там были слова “Плю де контакт”, и мне казалось, что машина отделяется от земли и парит в воздухе. “Плю де контакт” у шоферов означает, что нет газа, а у меня было ощущение, что отделяется от земли и парит. Это поражало и Маяковского.
Я помню последнюю ночь Маринетти в «Собаке». Фигуры Маяковского не помню. Было часов пять утра. Самое “настоящее” начиналось, когда расходились “фармацевты”, и они уходили часа в три ночи.
На эстраде, на четверть отделённой от пола, на двух перевёрнутых табуретках сидел Маринетти, очень пьяный, и очень интимно, почти нежно держал в объятиях “Луну”, красивую девушку из театрального училища, с пышными формами, круглым лицом. Одна у нас была Луна, а другая — Звёздочка. Как сейчас помню, ведро с шампанским и упившегося Маринетти, который на неведомом мне языке рассказывал ей необычайные вещи. Это было уже не объяснение в любви, а экстаз любви. А мы с Кульбиным тут же сидели, и был рассвет — шестой час.
Вдруг во входной двери мы увидели лицо Саши Орлова, знаменитого артиста балета А.А. Орлова, заслуженного балетмейстера. Появляется такая русская рожа, делает конспиративные знаки и говорит:
— Граф тут? (Цыбульский)
— Да.
— Когда я свистну, пусть граф начинает русскую в минорных медленных темпах, а ты, Борис, очисти стол.
Я сбросил бутылки и шепнул пьяному Цыбульскому, что Саша задумал. Цыбульский сел к роялю. „Р-р-р-р!” При этом Саша отдёрнул занавес — красный, с золотой бахромой, из солдатского сукна, выкрашенного в красный цвет; раздался разбойничий свист; на этом Цыбульский сделал этакий аккорд — и появился Саша Орлов в пиджаке и кашне, как тогда носили, и картуз он успел взять у вешальщика. Он прошел 5-6 шагов в темпе этих аккордов. Когда он дошёл до стола, который стоял против эстрады, я не понимаю, как это случилось, но он, не выходя из ритма, опёрся на него руками и ногами и оказался на столе — эквилибристическая штука! И тогда, встав на столе, он начал на месте плясать русскую, а Цыбульский ускорял темп, и это закончилось вихрем. Цыбульский импровизировал; а если бы эту музыку записать, это было бы вроде Балакирева, и Саша делал вихревые движения, тут была и присядка, а потом он соскочил со стола и выпил стакан вина.
Во время пляски я посмотрел на Маринетти. Его рука опустилась, бросила Луну, и когда Саша кончил, Маринетти, бесконечно взволнованный, подошёл ко мне, схватил меня за руку и почти с ужасом спросил: „Кто этот человек?” Я на ужасном французском объяснил, что он — артист императорского театра балета. Тогда Маринетти сказал: „О, теперь я понял русскую тройку и степи!”
Маяковского в это время я не помню, он при Маринетти не читал: если бы я помнил его отзывы, я бы их привёл, но моя беда в том, что мне в таких случаях приходилось страшно суетиться, я играл роль Марфы, а Кульбин был Марией — из-за этой суеты приходилось пропускать массу интересного.
Потом Маринетти уезжал. Так как он отверг причитавшийся ему гонорар (а у нас было правило: тот, кто выступает, получает половину сбора минус расходы, а расходы были минимальными: 12 р.50 к. за счёт и рублей 9 за программы, если сбор 50 рублей — платилось 13–15; у Маринетти же все четыре раза было за 100 рублей, и ему причиталось в общей сложности рублей около двухсот); так как он отказался от гонорара, Кульбин предложил сделать ему подарок.
Начали искать; наконец забрели в «Уральские самоцветы художника Денисова-Уральского» и нашли там горный шпат или кварц с вкрапленными в него четырьмя золотыми жилами (как олово, которое брызнуло на пол). Мы сделали срез, и Кульбин выцарапал на плоскости марку Добужинского и свою марку: созвездие Пса — фигура собаки о трёх головах, которая мчится в мироздании, очень динамично! и рядом — собака, сорвавшаяся с цепи, — Добужинского.
За пять минут до отхода мы приехали на вокзал с этой штукой, двумя бутылками шампанского и цветами и сказали, что всё это от «Бродячей собаки» на память. Маринетти ещё успел откупорить бутылки, мы отхлебнули и выскочили из поезда. Но он успел всё это рассмотреть, а Кульбин объяснил ему, что это — кусок русской земли, уральская порода, золото, и вмешал сюда комплимент, который сравнивался с каждой строчкой его стихов.
Мне вспоминается трогательный лирический роман Маяковского в «Собаке». Там появилась необычайной, невероятной красоты девушка, которую мы звали Сонкой, круглолицая и очень молодая.
Маяковский и я были соперниками. У меня была даже ругань с Маяковским, я ревновал его почему-то к Сонке. Это был лирически-платонический роман как у меня, так и у него, но, помню, как-то ночью у нас возник спор: кому провожать. Такое рыцарство не было принято в «Собаке», но Маяковский, тем не менее, отправился провожать Сонку, а я почему-то оспаривал, говоря, что это „гнусно”. Это был крупный эпизод в жизни Маяковского, он был искренне влюблён. Это было в 1914 году, ещё до Лили. А впрочем, может быть, и Лиля была тут, но Лиля это была серьёзная штука, это был уже не флирт, а лирика. Был март 1914 гола, приезжал Поль Фор, была его неделя и была изумительная статья Поля Фора о «Собаке».
Подобно Маринетти, Поль Фор прочёл целый ряд конферансов. Последний привлёк всю французскую колонию, он назывался «Обзор кабачков мира». Поль Фор начал с древней Александрии, говорил, что уже там был такой кабачок, где чеканщики по меди и бронзе пили кружками флорентийское вино. А закончил Поль Фор страшным комплиментом «Собаке». Говорил, что если бы «Собаку» можно было вырвать из почвы и перенести в Париж, она заняла бы первое место по артистическому напряжению, и, конечно, «Собака» забила бы «Клозери де лила» — “решётку из сирени”, кабачок, подобный «Собаке», в Париже, где своеобразным директором был он — “король поэтов” Поль Фор. Закончив лекцию, Поль Фор передал мне её текст, записанный на листочке папиросной бумаги французским бисерным почерком. Я обещал ему перевести и напечатать, и действительно: приват-доцент Новиков перевёл, и я отдал в «Речь» или «Молву», получился великолепный фельетон, за который мне заплатили 57 или 67 рублей. Поль Фор — король поэтов, но очень бедный человек, и я помню, как я торжественно послал эти деньги в Париж.
В ответ Поль Фор прислал мне в «Собаку» оттиск своего журнала. В нём была громадная поэма Поля Фора. Когда началась война, журналы приходить перестали.
Мою судьбу во время войны решил Маяковский. Он был первым призван, и, при помощи ныне здравствующего композитора Щербачёва, был по блату зачислен в автомобильную роту. Щербачёв был кадровым офицером, но при этом большим композитором. У него уже была симфония. Маяковский ездил со Щербачёвым в автомобиле (Щербачёв имел звание капитана), и я поражался смелости и наглости Маяковского, который вообще-то был застенчивым и целомудренным человеком. Сидит себе Маяковский в машине со Щербачёвым в качестве нижнего чина, и сигара во рту. Он вел себя страшно развязно, ни на минуту не чувствовал себя нижним чином, а чувствовал себя Маяковским — аристократом духа, чувствовал, что он персона грата. Даже форму он носил нагло (если так можно сказать о Маяковском): все пуговицы были не застегнуты, во всём был артистизм, а не выправка. Все выговоры должны были сыпаться на него. В это время появились объявления явиться в полицию ратникам второго ополчения 1875–74 г. Мой год был 75-й, и я был в диком отчаянии. Маяковский мне рассказал о Щербачёве, который многих устроил в лоно автомобильной роты. Там же был и Радаков, но первым туда попал Маяковский, и его там страшно любили и уважали. Маяковский велел мне пойти к Щербачёву.
Я уже был призван. Вхожу в кабинет. Сидит грозный мужчина в полной военной форме. Я говорю:
— Честь имею явиться.
— Я вас устрою, мне говорил Владимир Владимирович, — и сразу начался разговор композитора Щербачёва с Борисом Прониным. — Тут есть санитарный взвод, где не будет муштры.
Если бы я попал, подобно Пясту, на фронт, меня бы забили, я был абсолютно не военный человек, и Маяковский был моим спасителем.
«Собака» погибла во время войны, когда градоначальство начало сражаться с клубами и заведениями, где пили вино или водку. Появилась официальная бумажка, что в буфетах клубов и обществ запрещается пить вино. Наши приносили вино в карманах. Буфет был заперт, но Цыбульский и Радаков приходили всегда нагруженные бутылками. Бутылки эти затем совали под диван, но однажды был обыск; шашками выгребали из-под диванов дюжины бутылок, тогда градоначальник закрыл «Собаку».
Потом нас одолели долги, и нас позорно описали, надо было внести какую-то микроскопическую сумму, но мы были настолько растеряны, что нас продали с молотка, совсем как в оперетке. Был вынесен стол, стучали молотком, и то, что теперь называется “барахло”, было продано за 37 тысяч рублей...
Мой приятель Виктор Крушинский (он был директором большого завода) заплатил 37 тысяч рублей и спас доброе имя «Собаки» и моё, он заплатил и Беккеру за рояль, Бауэру за вино, цветочному магазину за розы... Это было весной 1916 года.
Я снова начал поиски подвала и нашёл на Марсовом поле, где была выставка «Мира искусства», где жила знаменитая Добычина, призвал Щуко, Григорьева, Добужинского, и с безумным трудом возникло новое.
Мы долго думали, как его назвать. Как-то я с Верой Александровной поехал в мастерскую Судейкина, который заканчивал тогда картину «Привал комедиантов». Эта картина и дала название подвалу, Добужинский сделал марку, но менее удачную, чем для «Собаки».
Это уже был не кабачок, а скорее подземный театр, где были регулярные постановки и программы. «Собака» же базировалась на экспромтах.
В «Привале» выступали Мейерхольд, Щуко, Добужинский, Бенуа, сливки художников. Выступали Усачёв, Тиме, Бонди (тогда начинающий актёр, теперь орденоносец), Горин-Горяинов. Там была постановка Мейерхольда «Шарф Коломбины».
Туманно помню вечер, когда Горький очень защищал футуристов, разразился большой речью в защиту нужности футуризма. Было яркое выступление, тут он мог приветствовать Маяковского, но об этом я боюсь говорить.
Билеты в «Привале» тоже записывались на членов, а кассы не было. Война разрушила и эту богему, и фигуру Маяковского в «Привале» я слабо помню. Хлебников бывал.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 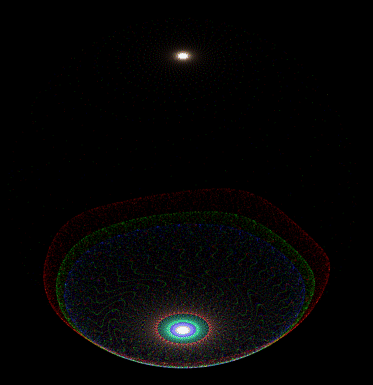 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||